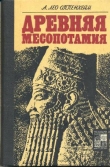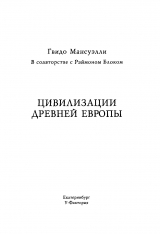
Текст книги "Цивилизации древней Европы"
Автор книги: Реймон Блок
Соавторы: Гвидо Мансуэлли
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц)
Распространение влияния Вульчи, еще одного крупного центра металлургического и, прежде всего, ремесленного производства, продукция которого была широко распространена вне этрусского мира, также датируется VI–V вв. до н. э. Вульчи – местность в тирренской Этрурии, в которой археологи обнаружили огромное количество и аттической архаической, и классической керамики наивысшего качества. Что касается архаического некрополя Марсилиана д’Альбенья, это был центр, который развивался и богател в течение VII–VI вв. до н. э. и пережил, повидимому, расцвет ориентализации.
Ветулония вызывает особый интерес своей чрезвычайно консервативной цивилизацией. По мнению Дионисия Галикарнасского, она восходит к VII в. до н. э., что подтверждается археологическими данными. Но к VIII в. до н. э. это был огромный центр виллановской культуры, уже богатый металлами, каковым он остался и впоследствии. Металлурги изготавливали оружие и инструменты из бронзы, широко распространились украшения различного типа. Вольтерры виллановская цивилизация достигает довольно поздно, затем с VII по VI в. до н. э. она эволюционирует в сторону этрусских форм. Не имея морских выходов, город распространяет свое влияние на север и на соседние территории.
Клузий, наряду с Вольсиниями и Орвието, – наиболее удаленный от моря исторический город центральной Этрурии. Его земли не содержали минеральных ресурсов, богатства являлись главным образом земледельческими, а расположение исключало морские отношения. Однако внутреннее развитие здесь отмечается начиная с VIII в. до н. э., и ясно видны все этапы последовательной эволюции – от виллановских истоков до ориентальных форм. Решающие импульсы достигали Клузия напрямую, а он, в свою очередь, направлял их на север, в область Ареццо, а оттуда – на восток в сторону Перузии. В зоне будущих Фьезоле и Флоренции влияния Клузия, переданные Ареццо, вероятно, пересеклись с влияниями Вольтерры, это отразилось на облике этрусской цивилизации в бассейне реки По. Ориентализация проникала сюда, как об этом свидетельствуют недавние открытия в Монтаньола де Квинто-Фиорентино и в Комеане, до верхнего течения Арно. Кроме того, Клузий проявляет себя и в других действиях: согласно историческим источникам, именно его правитель, Порсенна, проявил инициативу, нацеленную на смещение Тарквиниев с трона в Риме, откуда они были изгнаны мятежом аристократии. Таким образом, клузийские власти, возможно, были заинтересованы в том, что происходило неподалеку, в нижнем течении Тибра. Позже, после падения Вей, при других обстоятельствах, именно он изменяет курс галльских войск и направляет их в Рим.
Кроме того, северные города, несомненно, играли решающую роль в трансформации виллановского центра в Болонье. Известно, что легенда сделала правителя Перузии, Окноса, основателем Фельсины, то есть этрусской Болоньи, однако археологические данные доказывают, что болонская цивилизация глубокими корнями связана с Клузием и Ветулонией. Скорее всего, виллановская Болонья достаточно поздно обогатилась восточными элементами: дело в том, что морская циркуляция достигает средней и верхней Адриатики только в VI в. до н. э. Мы же вернемся к этой проблеме в связи с этрусским подъемом по ту сторону Апеннин.
У нас мало сведений об этрусской экспансии в Кампании, которая спровоцировала войну с Кумами, а позже – вмешательство Сиракуз. Известны названия многих городов, но археологические свидетельства здесь менее многочисленны, чем в долине реки По, где этруски распространялись и в VI в. до н. э. Однако в культуре Понтеканьяно отражается эволюция от виллановских до ориентальных форм, совпадающая по времени с эволюцией в центральной Этрурии и предшествующая эволюции в паданской Этрурии. Капуе, удаленной от моря, приписывают важную роль, так же как Фельсине – северной столице. Располагаясь на полпути из южной Этрурии в Кампанию, Лаций мог относиться лишь к сфере этрусского влияния; но рассмотрим это позже.
Этот краткий исторический обзор наиболее важных этрусских центров показывает, что каждый из них имел свои отличительные особенности. Мы смогли это подтвердить – по крайней мере, в некоторой степени – благодаря художественным, ремесленным и индустриальным проявлениям, оставившим свидетельства. Кантональная структура найдет подтверждение несколько веков спустя в исторических источниках, которые подчеркивают фрагментарный и автономный характер этрусской политики, относящейся к периоду архаики. Несмотря на национальную связь, хотя и непрочную и имеющую строго религиозный и, по существу, лингвистический характер, каждый город, очевидно, проводил собственную политику, а альянсы и коалиции создавались, изменялись и распадались в зависимости от обстоятельств.
Все же этрусская история концентрировалась вокруг определенных городов, которые вполне заслуживают этого как с политической и социальной точки зрения, так и в материальном, конкретном плане. Какова была роль крупных колонизационных потоков в генезисе этой городской системы? Это по-прежнему одна из сложных проблем, которые ставит этрусская цивилизация. Однако сегодня бытует мнение, что урбанизация являлась следствием внутреннего процесса, вызванного совпадением тесно связанных политико-экономических интересов на территории, где она распространилась, – одним словом, что урбанизация происходила параллельно с увеличением количества укрепленных центров колониального происхождения, греческих или пунических, в Западном Средиземноморье. Возможно, конечно, что импульсы, пришедшие с Востока, во многом способствовали переходу этрусских центров от протоисторической, то есть догородской, стадии к городской. Но сохраняется не только структура архаических этрусских городов, заметно отличающаяся от структуры чужеземных колониальных центров; по большей части последние характеризовались республиканским строем, хотя по сути были олигархическими, тогда как в этрусских городах царил монархический строй, по крайней мере до V в. до н. э. Наконец, никогда правящие классы греческих или пунических городов не накапливали столько богатства, сколько в Этрурии было сконцентрировано в руках одного-единственного класса, явно немногочисленного, – эта экономическая диспропорция является признаком плохо развивающейся в социальном отношении структуры.
* * *
Ситуация, которая позволила городам южной Этрурии достигнуть исключительного уровня, постепенно ухудшалась в течение V в. до н. э. и особенно в последующие столетия. Морское сражение близ Кум, происшедшее в 474 г. до н. э. и проигранное Гиерону I, тирану Сиракуз, фактически означало закат этрусского влияния в Кампании. Это событие совпадает по времени с успехом Сиракуз в борьбе против Карфагена и с распространением влияния Этрурии с севера на соседние территории, а затем за Апеннины. Этрурия долгое время контактировала с эллинистическим миром, особенно с Аттикой – источником интенсивных экономических и культурных влияний, но в V в. до н. э. наблюдается сокращение импорта аттических ваз в тирренскую Этрурию, в то время как они буквально хлынули на северное побережье Адриатики, а именно в Спину и на территории, более удаленные от моря, в Болонью. Возможно, афиняне – также ярые противники Сиракуз – хотели удержать их в стороне, направив к Адриатике международные торговые потоки, в сферу интересов которых, кроме того, попадали внутренние территории континента.
Играли ли роль иные факторы? Во всяком случае, отмечается явное совпадение между тем, что происходило тогда в Средиземноморье и на континенте: центр кельтского господства переместился из Бургони к среднему течению Рейна, разумеется, дорога из Адриатики, проходящая через Северную Италию, соответствовала интересам афинской экономической экспансии и потребностям континентальных рынков. Очевидно, интересы северных этрусков сблизились с интересами греков, и неудивительно, что основание морских центров в Адрии и Спине, так же как невероятное распространение влияния Болоньи, происходило мирным путем. Многочисленные греческие и этрусские надписи, обнаруженные на вазах из Спины, означают, что эти два народа должны были здесь сосуществовать, связанные, скорее всего, экономическим сотрудничеством. Болонья, примыкающая к территории Спины, значительно трансформировалась. Напротив, территории, тяготеющие к Адрии, остаются невосприимчивыми ко всякому влиянию. Возможно, Адрия была полностью ориентирована на море, но этот аргумент можно также применить и к Спине, которая считалась центром талассократии [10]10
Талассократия (от греч. thalassa – «море», kratos – «господство», «власть») – господство на море.
[Закрыть]– морского господства и имела свою сокровищницу в святилище в Дельфах, так же как Цере. Греческие источники представляют Спину как греческий город – hellenis polis,и правда, свидетельства этрусской культуры ограничиваются надписями, которые обнаружены на керамике и предметах из бронзы, напоминающих аттические вазы и составлявших погребальное убранство. Мифы, воспроизведенные на этих вазах, становились иногда, как это верно заметил Н. Алфьери, инструментом афинской пропаганды. Адрия, где этрусские следы, напротив, более редки, изображалась как этрусский город, по крайней мере римскими писателями. В Болонье торговые потоки, исходящие из центральной Этрурии, пересекались, вероятно, с потоками, которые пришли с моря. В итоге здесь вскоре развился активный процветающий город, где старые виллановские основы обогатились этрусскими и аттическими заимствованиями, но сохранилось и своеобразие. Спина, вероятно, не имела собственного производства, так же как Адрия: это были крупные порты-фактории, куда торговцы прибывали для сбыта товаров. Богатство, судя по погребениям и их впечатляющим сокровищам, по-видимому, было всеобщим и распределялось достаточно равномерно. То же самое, по-видимому, имело место в Болонье.
Однако аналогии между морскими портами и главным внутренним городом скорее мнимые, чем реальные. Экономику этрусской Болоньи в действительности не следует определять только этрусскими и аттическими составляющими. Уже давно налаженный массивный импорт янтаря, с одной стороны, и стеклянной массы, обычно используемой в виллановском декоре, – с другой, свидетельствует об отношениях с севером и Восточным Средиземноморьем. В начале V в. галынтатские следы раскрывают связи с другими районами, которые, возможно, не были чисто коммерческими. Сйтулы, найденные в Болонье и Спине, демонстрируют, что эти два города импортировали предметы из альпийских регионов, где находился главный центр этого искусства. Обнаруживаются некоторые венетские следы, которые, особенно в Болонье, – речь идет о керамике Эсте, – могут объясняться коммерческими факторами, в то время как чеканные ситулы демонстрируют отношения с внутренними территориями Восточных Альп. Наконец, раскопки в Гассле (Швеция), где обнаружена бронзовая циста болонского типа, иллюстрируют неожиданный масштаб международной деятельности этого города.
Северная Этрурия, именуемая также паданской или околопаданской, поскольку занимает бассейн реки По, не стала, как полагали Тит Ливий и античные авторы, империей унитарной политической, если уже не этнической, структуры. Действительно ли существовало эта паданское двенадцатиградие, на которое намекает Тит Ливий? Названия двенадцати городов не были переданы историками Античности, а из-за редкости этрусских археологических документов по другую сторону реки По нет возможности определить истинные городские центры. Этрусский характер Мантуи, более явный, в конечном счете засвидетельствован только литературной традицией. Существование «этрускоидной» цивилизации подтверждено только в Болонье, в Марцаботто и, с учетом большей ориентации в сторону Греции, в Спине. Что касается всего остального цизальпинского пространства, то известны многочисленные и основательные свидетельства того, что, если говорить об экономическом пространстве, оно подверглось этрусскому влиянию, пришедшему по артериям, по которым этрусская продукция пересекала Альпы и проникала вглубь Центральной Европы вплоть до крайнего севера. Естественно, что в более или менее важных этрусских центрах были возведены ключевые пункты этой коммуникационной сети, но пока нет возможности подтвердить, что они составляли организованное ядро городов. Зато можно отчетливо проследить направления этой экспансии. Они читаются по карте раскопок предметов, распространенных торговлей, особенно металлических изделий, которые в большей степени использовались на практике, нежели предметы искусства. Эти линии разветвляются в зоне больших ломбардских озер, к озеру Маджоре и озеру Комо, к долине реки Адиж и перевалам Восточных Альп.
Северная Италия использовала алфавит, основанный на этрусском алфавите, перенесенном из Фельзины, и подвергшийся влиянию греческих алфавитов, которое распространялось двумя путями: с Адриатики – на восток, из Лигурии и, возможно, низовьев Роны и со стороны Альп – на запад. Более или менее разнородные, эти алфавиты стали, во всяком случае, наиболее значительным и устойчивым этрусским наследием в Северной Италии, а топонимические и лексические свидетельства достаточно редки и в большинстве случаев сомнительны. В плане цивилизации, религиозной жизни и искусства этрусское влияние практически равнялось нулю, так же как в плане урбанизма, который является полностью римским. Подвергнувшись кельтскому вторжению, этруски отступают, впрочем, не без попыток оказать сопротивление в районе Тисы. Тит Ливий сохранил воспоминание об этой битве: он сообщает, что этруски и умбры были изгнаны с их земель бойями, после чего они пересекли реку По на плотах. Несмотря на то что нам неизвестна точная дата этого события, мы можем все же определить его исторический контекст: его главными действующими лицами были, с одной стороны, бойи, которые направлялись за реку По, с другой стороны – этруски из Фельзины, для которых обладание бродами реки и циспаданскими территориями было условием, необходимым для выживания.
После этрусской экспансии на равнине реки По осталось только несколько выживших, насколько в этом вопросе можно доверять Страбону и Плинию. Спина, вероятно, сохраняется вплоть до III в. до н. э.: греческие жители покинули ее, по мнению Дионисия Галикарнасского, под натиском соседних галльских племен. В действительности существовали, скорее всего, географические причины, которые превратили могущественный город VI–V вв. до н. э. в небольшое поселение эпохи Страбона. Раскопки, произведенные в последние годы, совершили настоящий переворот, позволив изучить отношения между этрусками и галлами в долине реки По. В преддверии окончательного решения этих проблем подчеркнем, прежде чем завершить замечания о северной Этрурии, что этрусская Капуя являет редкий пример крупного организованного города, имеющего в плане совершенно правильный прямоугольник. На этом стоит остановиться подробнее.
Такая городская структура была известна только южным и северным окраинам этрусского культурного пространства, а именно Капуе и Марцаботто; последний случай до сих пор бесспорен, поскольку город, античное название которого нам неизвестно, не существовал в римскую эпоху. Правильный план, в соответствии с которым священная крепость располагалась на возвышенности, а жилой город внутри ритуально ориентированного пространства, характерен для этрусского урбанизма. Но просторные прямоугольные улицы, концентрация в центре производственных мастерских, распределение инсул, [11]11
Инсула (лат. insula «остров») – отдельно стоящий дом.
[Закрыть]рациональный характер гидравлических сооружений свидетельствуют, сверх того, о развитии техники и исключительного архитектурного чувства. Реализация данной городской схемы датируется первой половиной V в. до н. э. Она соответствовала по времени жизни и деятельности Гипподаманта Милетского, если не предшествовала ей. В любом случае согласованность не имеет значения. Гипподамова прямоугольная система на самом деле лишь идеальная эстетическая форма, подсказанная уже полученным опытом: она не является изобретением. В греческом мире подобная система часто применялась от Понта до Северной Африки и Сицилии. Нет ничего неожиданного, с другой стороны, в том, что эта система не распространилась собственно в Этрурии: если периферийные города, построенные заново, могли быть размечены согласно правильному плану, то метрополии, подобно крупным греческим городам и собственно Риму, отличались долгим историческим генезисом и последовательным расширением, которые исключали подобное решение. На современном этапе развития науки мы еще точно не знаем истоков этого явления в Этрурии. Несомненно, оно является результатом адаптации восточного опыта этрусской средой и этрусским менталитетом, отличающимися религиозным детерминизмом и менее рационалистическими по сравнении с греческими. Во всяком случае, достоверен факт, что в Европе вне колониальной греческой среды и до римской колонизации лишь этрусские города материализовали политическое и духовное единство, как, например, на Крите, – в соответствующем городском единстве.
Это развитие урбанизма делает тем более поразительным отсутствие у этрусков прочной городской архитектуры. Нам неизвестны публичные здания. Лишь мощные стены, которые еще можно увидеть в Коссе или в Норбе, свидетельствуют об умении этрусков строить из камня. Здесь речь идет о достаточно примитивных конструкциях, впечатляющих скорее своей массивностью, чем техническим мастерством, позже с ними будет связано большое строительство, в котором римляне станут мастерами благодаря, по их собственному признанию, могущественной этрусской организации. Здесь, как и прежде, судьба архитектуры остается прежде всего связанной с культом богов и мертвых. Этрусские храмы – наши знания о них отрывочны, что не перестает усложнять теорию, – возможно, являются более поздними, но в любом случае их существование требует подтверждений, согласно Витрувию. Известно, что только фундаменты были каменные, а верхняя часть состояла из деревянного остова, покрытого пластинками из обожженной глины. Использование фундамента, которое можно соотнести с доисторической традицией священных холмов, показывает, что концепция религиозных строений не связана, за исключением некоторых внешних заимствований, с греческим опытом. Этрусский храм был широким и низким, отличался богатым живописным и скульптурным убранством, яркой полихромией. Все это относится к фасаду: с другой стороны были лишь глухие стены. Нам известны немногие этрусские дома: в Сан-Жовенале, Марцаботто, Ветулонии и некоторых других городах были обнаружены лишь их основания. Верхняя часть также строилась из досок и кирпича, причем использование полого кирпича свидетельствует о том, что этруски мало заботились о прочности. Стремление к долговечности проявляется, напротив, в погребениях.
* * *
Именно в искусстве обнаруживаются наиболее полные и замечательные проявления этрусской цивилизации. Мы уже сделали несколько намеков на него, ибо оно является наиболее выразительным и достоверным свидетельством истории этрусской нации. Но необходимо остановиться на нем более подробно: этрусское искусство всегда вызывало живой интерес, который остается актуальным до сих пор. Некоторые из мотивов этого искусства показывают преемственность, которая сохраняется долгое время с эпохи архаики, соединяясь и смешиваясь с элементами, вышедшими из других потоков. Иноземные влияния очевидны в великолепной посуде и некоторых изделиях, которые воспроизводят без изменений египетские темы и формы: речь идет прежде всего о привозных предметах, изготовленных в мастерских финикийских ремесленников, известных своим эклектизмом. Заметим, впрочем, что некоторые из наиболее репрезентативных образцов этого искусства происходят не собственно из этрусских центров, а из Кампании и Пренесте, которые в VII в. до н. э., возможно, испытали лишь небольшое этрусское влияние. Они не были преемниками этрусского искусства, которое, с другой стороны, подвергается влиянию ориентального искусства в греческой интерпретации. Порой декоративный стиль еще содержит зональную систему виллановской геометрики, усиленную протокоринфским и коринфским опытом, наряду с декоративной нарочитостью восточного стиля.
В золотых и серебряных украшениях в данный период этрусское искусство обрело наиболее полное и уже достаточно оригинальное воплощение: ремесленники, работавшие по золоту, демонстрировали крайнее внимание к техническому совершенству и декоративной пластике, мастерски используя игру света и оттенки тона. Барочная вычурность и подчеркнутая изысканность украшений из Цере и Пренесте смягчены в украшениях из Ветулонии, где ценилась именно форма предметов. И то и другое направление в равной степени показывают этрусскую восприимчивость. Вместе с тем фигурные мотивы, использовавшиеся в декоративных орнаментах, ближе к стилю протокоринфской керамики, широко имитировавшейся в Этрурии, коринфской керамики, а также продукции финикийских ремесленников, склонных к воспроизведению эпизодических сцен. В этрусской ориентализации вовсе не проявляется символический аспект анатолийского искусства.
Восточный стиль сохранялся длительное время и прежде всего проявился в декоративной изощренности, повторяющей одни и те же мотивы в различных комбинациях с единственной целью – украсить предмет. Когда появилось собственно этрусское фигуративное искусство, оно, очевидно, испытало влияние греческих моделей: греческое искусство навязало себя средиземноморскому миру, снабдив его сюжетами и формами, которые были приняты без сопротивления почти повсеместно; лишь благодаря ему концепты, по сути не эллинистические, воплотились в образных формах. Пуническое искусство само по себе, как мы видели, широко этим затронуто. В Этрурии греческое влияние не было ограничено прибрежными районами, но достигло глубинных континентальных территорий. Например, в Клузии продукция буккеро, а позднее каменные надгробия широко заимствуют греческий репертуар и формы, хотя в обряде кремации попрежнему используются канопы, типичные для виллановской традиции индивидуального биконического оссуария. Это не касается архаических стел с выгравированными фигурами умерших, которые далеки от греческих моделей. Однако фигурки отдельных каноп, стилистика которых явно заимствована, восходят к местному опыту железного века или же к традиции, еще более удаленной во времени – как, например, доисторический период – или в пространстве – как Гальштат.
Скульптура, неизвестная у этрусков до VII в. до н. э., несомненно, обязана непредсказуемому пелопоннесскому опыту своим «блокирующим» стилем, упрощенным, но не лишенным все же некоторого величия. Этрусское искусство периода архаики не сильно заботится, как современное ему греческое искусство, о связном и органичном стиле; оно стремится быть репрезентативным, выразительным и имеет склонность к внешней эффектности. Однако в нем нет случайности и противоречивости пунического искусства. Если оно и не выражает рациональных потребностей эстетического порядка, то наверняка пробуждает чувство прекрасного и дух оригинальности. Таким образом, несмотря на сильный эклектизм, оно представляет собой историческое свидетельство автономии Средиземноморского бассейна.
Следы восточного влияния обнаруживаются также на фресках гробницы Кампана в Вейях и на декоративных пластинках из обожженной глины (VI в. до н. э.); это последний пример, поскольку в дальнейшем этрусское искусство плохо поддается греческому морфологическому влиянию. Однако такие произведения, как, например, настенные росписи гробниц авгуров и «Охота и Рыбалка», обнаруженные в Тарквинии, уже не подвержены этому влиянию.
Динамичность, хаотичность, которые представляют иногда как характерные черты этрусского искусства, в действительности являются скорее кажущимися, внешними, чем истинными: яркие цвета, их порой резкое сочетание, с одной стороны, и стремление к величественным, впечатляющим объемам – с другой, составляют более типичные элементы, в которых допускались вариации. Позже почитание греческого опыта становится еще более явным, на надгробиях в Клузии это прежде всего волнообразные линии, которые придают динамизм статичным композициям. В век погребальных настенных росписей из Тарквинии реализм форм, буйство цвета отдаляют этрусские произведения от эллинистического мира, и не стоит здесь искать отблеск исчезающей греческой живописи.
Первые десятилетия V в. до н. э. характеризуются прерывистым движением: этрусский потенциал ослабевает, но погребальная живопись еще отражает оптимистическое видение загробного мира, не имеющее ничего общего с греческим: это мир беззаботный, материальный, гедонистический, которому нет равного. Значительная импульсивность архаизма органично включила эти концепты в этрусское сознание.
В VI в. до н. э. этрусская скульптура отказывается от причудливых форм и изменяется под двойным влиянием: сначала ионийским, а чуть позже – аттическим. Саркофаг супругов из Виллы Джулия, который происходит из Цере, – яркий тому пример. Его формы производят величественное впечатление и в то же время утонченно-изящны. В нем воплощено также техническое мастерство, достигнутое этрусками в области коропластики, – эта скульптура на глине вела свое происхождение от архитектонического декора храмов. При строительстве последних, как уже говорилось, остов покрывался пластинками из обожженной глины с фантастическим полихромным декором: религиозные программы архаизма умножились этим декором пластинок, антефиксов, архитектонических фигур. Из Цере, который играл важную роль в VI в. до н. э., также происходит большой акротерий, хранящийся в Берлинском музее, представляющий Аврору и Кефала, фронтон с воинами, находящийся в Копенгагене, и Минерва в ионийском шлеме из Виллы Джулия. Этрусские или испытавшие этрусское влияние мастера увековечили таблички, украшенные изображением гонок на колесницах и собрания божеств и магистратов, антефиксы с сатирами и танцующими менадами, продемонстрировав широкое распространение этого производства, которое охватывало Лаций и проникло в Кампанию.
Этот опыт способствовал, несомненно, формированию индивидуальности прославленного скульптора Вульки из Вей, которому римляне поручили декор своего главного храма в Капитолии. Нам неизвестны работы Вульки, но мы знаем произведения его учеников – это большие статуи из обожженной глины из Портоначчо, такие как статуя Аполлона, которая впоследствии стала одной из самых знаменитых античных статуй. Ее обнаружение в 1916 г. изменило бытовавшие прежде представления об этрусском искусстве. Сразу стало понятно, что подобные шедевры не могли объясняться только имитацией греческих форм. Так был открыт путь для «критических открытий» этрусского искусства.
Если и правда, что этрусское искусство невозможно без постоянных контактов и непрерывной конфронтации с греческим искусством, мы все же должны констатировать, что этруски никогда не копировали греческие модели: копии – лишь проявление интеллектуального классицизма, происшедшего от позднего эллинизма. Они интерпретировали соображения, которые переняли у греков, сообразно с собственным гением, в некоторых смыслах противоположным греческому. Этрусский дух, как, в общем, и италийский, не проявил интереса к совершенству формы, к сложным пропорциональным связям, тонкой отделочной работе: это был прежде всего иррациональный дух, который схватывал и сохранял только внешний аспект греческого искусства, которое по сути являлось рациональным. Иногда этот дух вносит что-то сильное, неистовое, что всегда поражает в Аполлоне и других статуях вейской группы, хотя в остальном они заметно отличаются. Но сопоставление физической силы, динамичной массы Аполлона и волнующего изящества Женщины с ребенком кажется мне достаточно красноречивым. Даже произведение, самое знаменитое из всех, – Капитолийская волчица, наиболее древняя бронзовая скульптура Италии, – возможно, связано с тем же течением.
Школа Вульки не оказала значительного влияния на этрусское искусство, – индивидуалистическое, ограниченное рамками города, оно так и не достигло стадии национального языка. В обожженных глиняных табличках из Фалерий угасает аттицизм и не содержится творческого порыва, как в пластинках из Вей. Однако фрагмент умирающего воина поистине поразителен. В Фалериях прослеживается с начала V в. до н. э. та классическая особенность, которая характеризует фалийскую и латинскую продукцию до начала элдинистической эпохи. В конце V в. до н. э. голова Юпитера, того же происхождения, напоминает стиль Фидия, тогда как глиняные пластинки из Орвието сочетают утонченные стилизации и грубые, сильные формы.
Неправильно говорить об упадке этрусского искусства в V в. до н. э. и о ренессансе IV в. до н. э. Скорее, великий период живописи Тарквиния и скульптуры Вей, которые знаменуют вершину этрусского искусства, сменяется долгим периодом субархаизма V в. до н. э„характеризующимся погребальными барельефами из Клузия, замечательными своим изяществом. Этот феномен объясняется ослаблением отношений с Грецией – ослаблением, на которое мы намекали в политическом и экономическом плане. Возможно, эта ситуация отразилась и в области фигуративных искусств. Но проблема заключается в другом: греческий архаизм через свой линейный декор, свою выразительную силу мог быть воспринят, если и не понят, вне греческой среды. Искусство строгого стиля и классицизм V в. до н. э. являлись мертвой буквой для представителей иной культуры: доведенный до крайности рационализм, знание внутренних органических связей, помещение в центр фигуры человека, грандиозный символизм мифологии, интерпретированной в теологическом и философском плане, – все это совершенно не воспринималось иррациональным и детерминистическим сознанием, характерным для этрусков. Знаменитая пластинка, найденная в Пирги, хорошо это показывает: пространство построено в обратной перспективе, образ Афины лишен абстрактного величия богоявления. Вот почему этруски долгое время отстают, преданные своему архаичному прошлому, вплоть до момента, когда греческое искусство через новые творения IV в. до н. э. вновь становится доступным неэллинскому сознанию. Конечно, этруски не понимали глубинных причин, которые привели греческих мастеров к напыщенности Скопа или изяществу Праксителя, но они могли это уловить, по крайней мере во внешних и человеческих проявлениях.