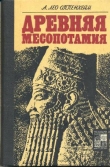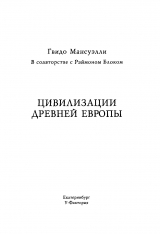
Текст книги "Цивилизации древней Европы"
Автор книги: Реймон Блок
Соавторы: Гвидо Мансуэлли
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 36 страниц)
Критская торговля в то время охватывала весь бассейн Эгейского моря, до Малой Азии и Египта, вытеснив торговлю Кикладских островов. Эта морская экспансия способствовала распространению искусства, иногда в высшей степени оригинального, поражающего своим богатством, фантазией и жизненной силой. Стены дворцов украшались фресками, керамика – орнаментом, геометрическим или натуралистическим, но чрезвычайно утонченным и редким по качеству исполнения. Изделия из слоновой кости, фаянса, изящная бижутерия, бронзовое оружие с рукоятями из слоновой кости, щедро инкрустированными кристаллами, свидетельствуют о разнообразии первичных материалов и изысканности этого искусства. Наконец, критская цивилизация использовала письменность. Стремительный прогресс, который на пороге 3-го тыс. до н. э. проявился в развитии металлургии и в урбанизации, приведет к появлению письменности на европейской периферии лишь тысячелетие спустя.
В начале 3-го тыс. до н. э. великие дворцы среднеминойской цивилизации были разрушены, и на их месте появляются новые дворцы. Еще сохраняются сомнения, объяснять ли это разрушение завоеванием или природной катастрофой. Новые дворцы построены в середине 2-го тыс. до н. э. Это было время, когда в Греции появились ахейские колесницы. Критская письменность впоследствии изменилась, адаптируясь к другому языку. После открытия, сделанного в 1956 г. в Вантри, стало известно, что этим новым языком был греческий.
* * *
Каковы бы ни были причины и истоки их миграций, микенцы появляются в Центральной Греции и на Пелопоннесе, постепенно адаптируя не только технику и минойское искусство, но также морские и торговые навыки, которые в итоге к XV в. до н. э., после завоевания самого Крита, распространятся во всем бассейне Эгейского моря. Благодаря микенцам к торговле приобщились зоны, до тех пор мало вовлеченные в нее, – Западное Средиземноморье и прибрежные районы континента, к которым примыкали древние пути транспортировки янтаря, игравшие важную роль и в распространении металла.
Кроме того, Эгейский бассейн играл в 3 и 2-м тыс. до н. э. главную роль, после Анатолии и островов, в распространении новой экономики и новой общественной организации, установившихся на Ближнем Востоке.
Вместе с тем микенская цивилизация была отмечена своего рода разрывом с предшествующими традициями. Она навязала военный характер зарождавшемуся в Эгейском бассейне урбанизму, а крепости, построенные для военных вождей, заметно отличались от первоначальных критских городов без крепостных стен. На фресках и вазах все чаще изображались сцены охоты и войны, совершенствовались оружие и экипировка воинов. Дворцы строились вокруг огромного прямоугольного крытого зала – мегарона, присутствовавшего уже в фессалийских неолитических жилищах, отличавшихся от древних критских открытых дворцов внутренним двориком. Наконец, внушительные гробницы, где отдельно покоились правители, противопоставлялись традиционным коллективным захоронениям Эгейского бассейна, которые вырубались в скалах. Пришедшие из внутренних земель на колесницах, запряженных лошадьми, микенцы составляли авангард континентальных сил; эта цивилизация была вызвана к жизни эволюцией племенных образований, вступивших в контакт с уже урбанизированной эгейской средой.
Между людьми внутри сообществ к тому времени начали устанавливаться новые отношения. Индивидуумы и группы провозгласили свою автономию перед властью правителей, как показывают письменные документы. Этот внутренний плюрализм контрастировал с экономической и теократической централизацией восточных государств.
Кроме того, четко проявлялся, даже на границах периферийных восточных зон, разрыв между Востоком и Западом, который усилится в процессе последующей континентальной эволюции.
* * *
На континенте восточные влияния проявлялись не только в направлении Эгейского бассейна. Более или менее рассеянные потоки из Анатолии и Месопотамии достигли непосредственно Кубани – Закавказья – и Дуная, возможно, через посредство Троады. Во всяком случае, начиная со второй половины 3-го тыс. до н. э. в Европе развиваются металлургические центры, что, возможно, было связано с этими потоками и движением по торговым путям, проложенным еще неолитическим торговым обменом. Но помимо этого могли играть роль и другие факторы. Например, по-прежнему в отношении некоторых регионов на территории современной Венгрии и Испании трудно сказать, было ли формирование здесь халколитических цивилизаций следствием локального развития, обусловленного наличием местных металлоносных месторождений, или же результатом торгового обмена. Как бы то ни было, производственные и торговые центры появились очень рано как на юго-востоке, так и в центре и на юго-западе континента.
* * *
Однако изменения на континенте приобретают резко выраженный характер лишь ближе ко 2-му тыс. до н. э. В этой трансформации два феномена, еще не совсем понятные, играли важную роль: на востоке шла экспансия комплекса колоколовидных кубков, а на севере и западе – культуры боевых топоров.
К концу неолита, последним векам 3-го тыс. до н. э., относятся свидетельства эволюции, которая способствовала распространению скотоводства в районах, расположенных к востоку от Рейна, – от современной Швеции до Моравии. Наряду с мегалитическими захоронениями встречаются курганы – индивидуальные погребения, содержащие оружие и другое имущество. Прежде всего это боевые топоры и глиняная посуда, украшенная веревочным тиснением, отсюда и произошло название «шнуровая керамика». Топоры, прежде изготовлявшиеся из камня и воспроизводившие привозные (вероятно, из Центральной Европы) металлические модели, вскоре были заменены топорами из металла. Выдвигались различные гипотезы о происхождении этого комплекса: одни видели в нем результат автохтонной эволюции, другие считали, что это творение переселенцев, пришедших с востока. Боевые топоры из меди были найдены в курганах Майкопа, датированных серединой 3-го тыс. до н. э. Это может быть связано с одновременным распространением на Кубани кочующих пастушеских племен или номадов, контактирующих с кузнецами Ближнего Востока, постепенно распространившихся на территории между Доном и верхним течением Рейна и, вероятно, принесших на новые территории комплекс изделий из металла и технологий их изготовления, равно как свои традиции и язык.
Как бы там ни было и какова бы ни была возможная связь между этим комплексом и развитием индоевропейских языков – товарообмен и перемещения увеличились во всем регионе, способствуя распространению металлического оружия и подъему металлургических центров в сердце континента.
К этому же времени в Западной и Центральной Европе – от Испании и Средиземноморья до Рейна и от берегов Атлантики до Моравии – распространились группы, характеризуемые, помимо прочего, своеобразным типом керамики, которую в разных языках обозначают по-разному: культурой колоколовидных кубков, чашевидных кубков или бикеров ( bell-beakers). Другие находки в захоронениях представителей этой культуры показывают, что они были вооружены луками и кинжалами из меди. Но война имела у них меньшее значение, чем торговая деятельность. Замечено, что они охотно обосновывались вблизи перекрестков и минеральных месторождений. С другой стороны, они демонстрировали замечательную способность адаптироваться в любой местности, куда бы они не проникали. Вазы и типичное для этих групп оружие обнаружены в самых разных захоронениях: армориканских дольменах, сардинских гротах в Ангелу Руйу и курганах рейнского региона.
Поскольку наряду с неолитическими предметами эти погребения содержат изделия из металла, вполне можно допустить, что племена культуры колоколовидных кубков, распространяя металлические предметы и технику металлообработки, стояли у истоков многочисленных цивилизаций северного и западного бронзового века. На Рейне, на востоке современной Франции и в Центральной Европе они вошли в контакт с народами шнуровой керамики и боевого топора, с которыми слились – вероятно, так же, как ранее с местным населением, – чтобы дать рождение амальгамным культурам.
Очень рано представители культуры колоколовидных кубков были вовлечены в отношения с халколитическими цивилизациями Альмерии и, возможно, были оттеснены в атлантическую зону кузнецами, пришедшими из центра Лос-Милларес. Но, как и в случае с группами культуры боевых топоров, мы до сих пор не можем точно определить их исходное местоположение, а сформулированные гипотезы связывают их миграции почти с противоположными направлениями: либо с Западным Средиземноморьем, либо с Центральной Европой, либо с Северной Африкой.
* * *
Отметим, забегая вперед, насколько различными путями, пересекая Европу, распространялась металлургия, зародившаяся на Ближнем Востоке в связи с развитием городов. Цивилизации, которые появились в процессе диффузии новых технологий, крайне разнообразны, но их подробное рассмотрение в рамках данной работы не предполагается. Мы ограничимся лишь главными линиями исторического развития и цивилизациями наиболее важными и наиболее характерными в контексте западной эволюции.
* * *
На Балканах связь между континентом и морскими цивилизациями Эгейского бассейна установилась через Микены. Вся эта восточная зона, которая была центром ранней неолитизации, стала частично урбанизированной и вступила в постоянные торговые отношения с Ближним Востоком. Металлургия здесь распространилась быстро, и, когда ахейцы начали проникать в Грецию (к концу 2-го тыс. до н. э.), они обнаружили там цивилизацию бронзы уже на полном подъеме.
Балканы образовали перекресток, где влияния, пришедшие с Востока через Кавказ, Геллеспонт или Эгейское море, соединились, чтобы распространиться впоследствии по долинам и равнинам вглубь континента. Находки на Кубани и Тисе, где в непосредственной близости от месторождений минералов были созданы крупные пункты металлообработки, убранство царских курганов Майкопа, а также захоронения Бодрогкерестур на территории современной Венгрии отражают значительный масштаб производства. Наряду с золотыми и серебряными украшениями наиболее показательны боевые топоры: они сопровождают богатых воинов, защитников поселений и владельцев стад и в потустороннем мире. В конце этой главы мы вернемся к цивилизациям Восточной Европы. «Венгерские» металлурги экспортировали оружие из меди через большую часть Центральной Европы, где на следующем этапе древнего бронзового века появятся новые центры.
И действительно, в начале 2-го тыс. до н. э. наблюдается значительное развитие торгового обмена. Центры металлургического производства стали еще более многочисленными. На территории современных Тироля, Чехии, Силезии, по всему периметру Альп и Карпат интенсивно эксплуатировались металлоносные залежи. Обширная сеть деревень, таких как Унетице, к югу от Праги, рассыпалась вдоль дорог, которые, дублируя или пересекая прежнюю путевую сеть, связанную с янтарем, соединили в дальнейшем сердце Европы с соседними регионами. Каждая деревня, в которой концентрировалось местное население, имела свои собственные традиции; отсюда и множество культур, которые встречаются в эту эпоху. Но товарообмен и преобладание ремесленной и торговой деятельности способствовали адаптации, а в некоторых случаях и обобщению обычаев и новых навыков, и в частности появлению индивидуальных погребений. Типы гончарных изделий преобладали во многих регионах: колоколовидные кубки с ручкой – в ранний период, обтекаемые чаши – позднее, к началу XVI в. до н. э. В целом сформировалось достаточно эгалитарное общество, например на территории Саксонии и Тюрингии, где курганы выдают влияние групп культуры боевых топоров. Неолитизация, таким образом, не была внезапной: земледельцы, охотники и рыболовы – деревенские жители продемонстрировали полную адаптацию, продолжавшуюся долгое время естественным путем. Оружие и многочисленные тайники торговцев свидетельствуют об эволюции этого общества: соперничество, вызванное в конце неолита поисками новых земель, сменяют войны за контроль над торговыми путями и ключевыми позициями.
К середине 2-го тыс. до н. э. курганы, появившиеся на Востоке и Севере, распространяются по всей Центральной Европе, от северной Германии до Альп и от Рейна до Среднего Дуная. Несколько сот подобных захоронений были обнаружены во Франции, в лесу Агено. Однако принятие этого стиля захоронений не означает приход собственно новой цивилизации: местные традиции остаются очень живучими, судя по различным формам керамики, украшений и самого оружия. Разнообразие традиций дополнялось иногда оригинальными инновациями, такими как, например, щиты с шипами у судетских групп или булавки с двойной спиралью – похожей на очки, – которые найдены только в районе Некара. Однако некоторые общие черты (например, широкое распространение шарообразных амфор, геометрический декор ваз, замена мечей на кинжалы в предшествующий период) свидетельствуют о тесных взаимоотношениях и связях между различными группами. Эти группы, оставив долины, где осели их предшественники, строят и укрепляют деревни на возвышенностях. Это сигнализирует о небезопасности, так же как невероятное количество «тайников» и хранилищ. Хотя торговля по-прежнему была активной, она сопровождалась многочисленными конфликтами, которые приводили в конечном итоге к некоторой изоляции ремесленных центров.
В конце 2-го тыс. до н. э. раздоры усилятся. Долгое время они будут атрибутом перемещений коренных народов Юго-Восточной Европы, иллирийцев или лужичан, которые были инициаторами обряда кремации. Однако этот обряд, действительно распространившийся повсеместно немногим ранее железа в форме полей погребальных урн, уже практиковался в предшествующую эпоху в некоторых регионах Центральной Европы, например в Богемии и Венгрии. В Англии обряд кремации появился в эпоху древней бронзы, задолго до курганных захоронений в Уэссексе. Одновременно с распространением погребальных полей наступает железный век. Мы вернемся к нему позже в связи с цивилизациями Галыптат и Вилланова.
* * *
Так же как на Кубани и в Венгрии, наличие месторождений металлов в Западном Средиземноморье, в частности в Испании, способствовало раннему распространению металлургии. Халколитическая цивилизация Лос-Милларес, стимулированная, возможно, восточными импульсами, на самом деле возникла внутри комплекса колоколовидных кубков. Эти восточные импульсы, ощутимые в Италии и на Сицилии с эпохи неолита, сложно, однако, идентифицировать и датировать: на уровне Трои II найдены сицилийские объекты, которые свидетельствуют о существовании во 2-м тыс. до н. э. торговых отношений между Анатолией и Центральным Средиземноморьем. Но, по сути дела, это связано с деятельностью носителей культуры колоколовидных кубков, которая способствовала проникновению металла в северную Италию (Ремеделло), Сардинию (Ангелу Руйу) и западную Сицилию (Виллафрати). Эти потоки – до первых микенских и финикийских экспедиций второй половины 2-го тыс. до н. э. – в действительности не привели к колонизации, и если островной мост содействовал упрощению связей одного берега с другим в Средиземноморье, то островные цивилизации на западе сохранили самобытность, что объясняется только их изолированностью.
В Италии, где внешние влияния приходили то с континента, то с моря, где север был населен одновременно большими группами культуры колоколовидных кубков и представителями культуры боевых топоров и где восточные импульсы ощущались и ранее – через Адриатику и Ионическое море, – до наступления бронзового века не образовалось по-настоящему единой цивилизации.
В эпоху халколита и ранней бронзы Италия представляла собой лишь мозаику цивилизаций, которые постепенно модифицировались многочисленными взаимными заимствованиями. На севере некрополи Фонтанелла и Ринальдон соответствуют культурам, немного отличающимся от культур стоянки-эпонима Ремеделло. Часть оружия, найденного в захоронениях, близка к некоторым центральноевропейским, другая часть – к критским типам оружия. На юге, в Пунто дель Тонно, рядом с Тарентом, северные элементы, например ручки в форме полумесяца или роговидные ручки, характерные для террамарской керамики, соседствовали с элементами, которые относят к культурам Эгейского бассейна. На Сицилии западная цивилизация Кастеллучо – с расписной керамикой, декорированной в геометрическом стиле, и гробницами, выдолбленными в скалах и украшенными скульптурными мотивами (завитки, пилястры), – сравнима с цивилизацией Средней Эллады.
Так, в озерном крае к середине 2-го тыс. до н. э. начинается настоящий итальянский бронзовый век. Озерные деревни в Ла Полада, восходящие к неолитическим палафитам, познали новый расцвет благодаря расширению товарообмена с дунайскими территориями. Характерное для них гончарное производство распространилось на всем западе Средиземноморья. В период средней бронзы распространяются особенно значительные цивилизации, такие как паданские террамары и террамары Апеннинского полуострова, которые заняли большую часть Италии, от равнины реки По до Тарентского залива. Первая цивилизация, получившая название италийской, была результатом эволюции, которая начиная с середины 2-го тыс. до н. э. превратила пастушеские группы Апеннин в оседлые сообщества, сочетающие занятия земледелием и скотоводством. В могилах и гротах найдена необычная глиняная посуда с характерными большими ручками. Несмотря на некоторые объединяющие черты, эта цивилизация состояла из многих типов. Тогда как на севере преобладали североальпийское и дунайское влияния, которые со временем одержали верх, на юге четко прослеживается влияние Микен.
Примерно в то же время к югу от реки По увеличивается число террамаров – наземных деревень, которые, судя по телям, достигающим значительной высоты, были населены в течение длительного времени – с ранней бронзы до начала железного века. Террамары образовывали агломераты построек, окруженные рвами и палисадами. Что касается погребений, умершие, по крайней мере в более поздний период, кремировались. Жизнь, по-видимому, была спокойной в этих богатых крестьянских деревнях, где склады оружия редки, но в избытке обнаруживается сельскохозяйственный инвентарь из металла, привезенного скорее всего из Тосканы и тщательно обработанного на месте. Металл стал достаточно доступным товаром, чтобы использоваться для производства предметов обихода.
Этот тип цивилизации активно развивался на юге, в то время как на севере Альп распространялось влияние культуры полей погребальных урн. В Фонтанелле, в долине реки По, а также в Апулии распространяются некрополи с биконическими урнами, содержащими прах умерших, а их декор эволюционирует к формам, типичным для протовиллановских.
Как и Сицилия, Сардиния была задета противоположными потоками: рядом с имуществом, типичным для племен культуры колоколовидных кубков, в некрополе Ангелу Руйу найдены предметы эгейского типа. На острове имелась своя медь, и металлургия не нуждалась в торговых поставках первичных материалов. Подземные скальные захоронения, подобно мегалитическим погребениям, создававшимся под землей, содержат следы многих эпох. Эти коллективные могилы относятся к традиционным средиземноморским типам. В них обнаружено значительное количество предметов, но гончарные изделия появятся позже лишь в подземельях Ангелу Руйу.
Несмотря на отсутствие точной хронологии, архитектура нурагов, усложняясь со временем, прошла несколько этапов. Изначально располагаясь особняком и возвышаясь единственной залой, эти башни сооружались из твердого камня и имели форму усеченного конуса. Иногда они разбивались на несколько небольших комнат или ниш, одно помещение нависало над другим, этажи переплетались внутренними винтовыми лестницами. Некоторые крепости-нураги были более сложными, как, например, Барумини, состоящая из высокого центрального нурага и окружающих его менее значимых башен. В то время как создатели мальтийских храмов достигли монументальности в распределении внутреннего пространства, башни-нураги предназначались для защиты от внешних нападений, и прежде всего использовалось внешнее пространство. Эта архитектура, странно вписывавшаяся в пейзаж, соответствовала архитектуре крепко сплоченного патриархального общества, где семьи группировались вокруг главы клана: так, круглые в основании хижины деревенских жителей строились вокруг «сеньориального» нурага. Довольно интересен факт, что эти нурагические центры стали очагами фигуративного искусства, образцом которого являются небольшие бронзовые статуэтки, священный характер которых зачастую сочетается с чисто народным духом и фантазией. Когда финикийцы в VIII в. до н. э. прибыли на остров, там шли непрерывные столкновения между кланами, уничтожавшие воинов: личные племенные раздоры, так же как завоевание, привели к закату нурагической цивилизации и положили конец культурной изоляции Сардинии. Вместе с этим исчезли и последние свидетельства-средиземноморского доисторического периода.
На Балеарских островах цивилизация талайотов зародилась почти так же, как предыдущая. Укрепленные деревни, окруженные земляными насыпями, облицованными камнем и фланкированными мощными башнями-талайотами, круглыми или квадратными, были построены в период средней бронзы. Однако в конце бронзового века, подобно нурагам, они распространились повсеместно. Цивилизация талайотов наследовала более древней цивилизации, характеризуемой захоронениями, устроенными в гротах или высеченными в скалах, а позднее – конструкциями из тесаного камня в форме лодки ( navetas). Как и Сардиния, Балеарские острова были оккупированы в VI в. до й. э. финикийскими колонистами.
Мы не будем возвращаться к истокам 'цивилизации ЛосМилларес, которая отметила в Испании переход от неолита к первым проявлениям металлургии, не очень четким до периода, следующего за Эль-Аргар, – около XV–XIV вв. до н. э.
Но с середины 3-го тыс. металл местного происхождения встречается наряду с каменными находками из пещер-оссуариев. Этот халколит продолжался практически до пробуждения в конце бронзового века нового центра, который относится к атлантической зоне, – Астурии.
Цивилизация Лос-Милларес, расположенная близко к морю, поражает своей грандиозностью. Агломерат, защищенный земляными насыпями и валунами, занимает площадь в пять гектар; его некрополь включает большое количество коллективных погребений. Эти захоронения – по большей части круглые, как в Эгейском бассейне, и скрытые в выступах – строились очень тщательно.
Подобные поселения, сопровождаемые некрополями, находят по соседству с Альмерией, в частности в Альмизараге, а также к западу – в Альгарве (толос Алкала), вплоть до Португалии, где захоронения, так же как в Лос-Милларес, зачастую высечены в скале. В Палмелле (Португалия) были найдены многочисленные колоколовидные кубки. Эти кубки, в гораздо меньшем количестве представленные в Лос-Милларес, кажутся относительно поздними. Отношения между культурой колоколовидных кубков и цивилизацией Лос-Милларес еще не изучены. Некоторые ученые полагают, что группы пастухов-номадов с запада или из центра Испании, возможно благодаря контакту с альмерийским опытом, первыми приобщились к металлу и распространили его по всей Европе.
Ранний расцвет Лос-Милларес и появление современных ей центров в итоге были связаны скорее с коммерцией, чем с самой металлургией. Торговые отношения, истоки которых кроются в необходимости расширения восточного рынка, между тем в определенной форме были установлены только с Африкой, в том числе с Египтом.
В эпоху, следующую за эпохой Эль-Аргар, центры которой занимали почти то же пространство, более ярко проявляясь к северу, значительно развились внутренние рынки. Металл, отныне обрабатывавшийся и использовавшийся на месте, в новых захоронениях, представлен в основном в виде оружия: кинжалов, алебард, плоских или ребристых топоров. Поселения, например в Эль-Аргар или в Эль-Оффисио и Фуэнте Аламо, в основном возводились на возвышенностях, уступах, над лиманами или реками. Укрепления были более мощными и основательными. Появляются индивидуальные погребения в ямах или кофрах, но чаще всего в глиняных сосудах, куда тела помещались в вытянутой позе. Рядом со скелетами найдены многочисленные украшения, особенно красивые серебряные диадемы, жемчужины, ракушки, кольца и трубки из меди, золота и серебра. Эти украшения по большей части уже были известны обитателям ЛосМилларес и ценились ими. В гончарных изделиях сохранились традиционные формы и типы. Однако предметы из Эль-Аргар выделяются своим утонченным качеством и новыми формами, как, например, погребальные урны с ножкой или рифленые кубки.
* * *
На Западе, особенно во Франции, первый век металлов отмечен многочисленными влияниями: атлантическое побережье, долины крупных рек Востока, текущих ссевера на юг, ось восток – запад евро-азиатской равнины, простиравшейся до Бельгии, и Северная Франция открывали пути для экспансии периферийных цивилизаций. Но на пороге этой эпохи два больших комплекса доминировали в культурной жизни: цивилизация боевых топоров и культура колоколовидных кубков. Распространению металла существенно способствовал последний комплекс. Однако существование богатых месторождений металлов также способствовало раннему использованию металла, как, например, и в Ирландии.
Племена культуры колоколовидных кубков перемещались, пересекая Францию в двух основных направлениях: вдоль атлантических берегов и вдоль лангедокского побережья. С другой стороны, эти группы концентрируются в долине Рейна. Они продвигались на дальние расстояния, причем если в одних регионах с уже осевшим населением им удавалось добиться признания или ассимилироваться, то в других эти народы вытесняли местных жителей. Так, на севере они почти не оставили следов на территории мегалитической цивилизации между Сеной и Уазой и на Марне, которая просуществовала здесь без больших изменений вплоть до бронзового века. Напротив, в мегалитической зоне пиренейского и ронского юга их присутствие точно засвидетельствовано вазами, в изобилии найденными в гробницах – галереях и крытых аллеях. В рейнском регионе они контактировали с носителями культуры боевых топоров, образовав смешанные сообщества, следы которых – курганы и разнородная керамика – отражают взаимное влияние этих двух потоков.
Продвигаясь через весь Запад, от Испании до Англии и Рейна, носители культуры колоколовидных кубков открыли новые коммерческие пути и распространили использование металла. Иногда основывая свое поселение, но чаще небольшими группами размещаясь внутри неолитических народов, они приобщали эти народы к технике металлообработки. Некоторые локальные центры производства, которые впоследствии познают быстрый подъем и достигнут исключительной самобытности, сохранили первоначальный импульс. Впоследствии центры французского Запада в период ранней бронзы и центр Пойак в период средней бронзы сохранятся вопреки более поздним влияниям. Вскоре эти центры – крупные производители топоров – или, по крайней мере, один из них дадут жизнь значительному комплексу, который Эванс назвал cap’s tongue complex,или комплекс «носителей мечей» – по характерной форме мечей, найденных в многочисленных тайниках литейщиков конца бронзового века. Но если племена культуры колоколовидных кубков играли большую роль в распространении металла по всему Западу, даже на его западных окраинах, в эпоху расцвета цивилизаций бронзы на востоке и затем на большей части Запада усиливается влияние носителей культуры боевого топора и их преемников.
С конца ранней бронзы племена, пришедшие, скорее всего, из Штраубинга (Бавария), осели в Эльзасе, где и были обнаружены их могильники. Эти группы на периферии пространства Уне-тице начинают адаптировать способ погребений, унаследованный от народов культуры боевого топора. Их курганы содержат оружие, украшения и керамику, типы которой со временем эволюционировали. Курганы фазы II Шеффер датировал приблизительно рубежом XV–XIV вв. до н. э.
Распространение курганов, начавшееся в Центральной Европе примерно в то же время, продолжалось до 1-го тыс. до н. э.
Во Франции влияние этой культуры проявляется в некоторых центральных регионах в эпоху полей погребальных урн, тогда как на юге сохраняются традиции цивилизаций Горген и Ла Полада.
Однако в Англии и Арморике два первоначальных потока, возникших из комплексов колоколовидных кубков и боевых топоров, не так четко дифференцировались. Действительно, иногда они накладывались друг на друга и комбинировались. На обоих полюсах мегалитизм был широко представлен среди неолитического населения. В Англии он достиг Оркадских островов к северо-востоку от Экосса; в Бретани – утвердился вокруг залива Морбиан, где концентрируется наибольшее количество мегалитов на всем континенте. Большое число бикеров, найденных в Великобритании, свидетельствует о колонизации: изобилие меди, золота и олова в горных районах Запада и в Ирландии, янтаря на восточном побережье способствовало их распространению и стимулировало их производство. Контактируя с племенами бикеров, другие группы переселенцев, представлявшие еще мезолитические традиции, например охотники из Петерборо или скотоводы из Скара Брэ, очень быстро перенимали техники металлообработки. Их потомки впоследствии положили начало цивилизации продуктовых ваз – погребальных ваз, в которые складывались продукты, необходимые умершим в загробной жизни. Эта цивилизация распространилась в Йоркшире параллельно с цивилизацией Уэссекса. Именно в этот регион, особенно подвергшийся влиянию металлургов-бикеров, на рубеже XV–XIV вв. до н. э. пришли новые завоеватели, распространившие в Уэссексе индивидуальные погребения под курганами. Укрепленные лагеря предшествующего периода были заброшены, скотоводство и охота победили земледелие, сформировалось более стратифицированное общество, в котором выделялась богатая аристократия, одновременно торговая и военная. В захоронениях вождей увеличивается количество предметов из золота. Появляется новое оружие и орудия труда: кинжалы из меди с продольным выступом и рукояткой, проткнутой золотыми гвоздями, алебарды и т. д. На камнях Стоунхенджа, возведенных в эпоху бикеров и доставлявшихся из гор Прессели, есть следы их присутствия – изображения характерных метательных топоров, а также кинжала микенского типа. Последнее очень важно, поскольку свидетельствует о постепенном развитии торговли в эту эпоху под двойным импульсом – вождей Уэссекса и микенцев.