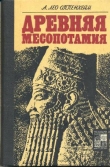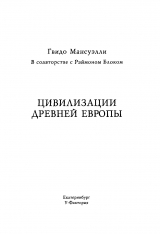
Текст книги "Цивилизации древней Европы"
Автор книги: Реймон Блок
Соавторы: Гвидо Мансуэлли
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 36 страниц)
Равным образом наряду с высшим друидским знанием существовала популярная антропоморфная религия. По крайней мере, в I в. до н. э. кельты имели многочисленные статуи своих богов – plurima simulacra, поЦезарю. Вне всякого сомнения, они свидетельствуют о средиземноморских влияниях, ни одна европейская неклассическая религия не смогла перенести в план искусства образы своих богов; они, возможно, заимствовали традиционные представления доисторического периода. Впрочем, полагают, что аниконийский культ восходит к традиции мегалитизма, процветавшей в конце доисторического периода на земле, которая была позднее занята кельтами. Обряды перехода в мир мертвых и некоторые детали культа героев связаны с этим древним пластом. Но возможно, и не было необходимости обращаться к столь отдаленному прошлому, переплетая традиции, прошедшие через тысячелетия.
К сожалению, мы не имеем ни одного культового изображения, которое можно было бы без колебаний датировать дороманским периодом. Кроме чеканной маски из музея Тарба и божества из Борей-сюр-Жюин (Эссон), деревянные статуи, такие как статуи из святилища у верховий Сены, несомненно, позволяют нам составить представление о кельтских народных образах. Впрочем, осколки галло-римских представлений, проявляющиеся в бесконечном воспроизведении богов и богинь, «одетых поримски», как писал Беренс, – можно также сказать, «одетых на эллинистический манер», – соответствуют дезинтеграции друидизма, трансформации культа по римскому обычаю: был сооружен алтарь, посвященный Риму и Августу, – религиозный центр лояльности трех Галлий, заменивший прежнее святилище карнутов, где собирались друиды. Политическая цель этой религиозной трансформации достаточно ясна: римляне, обычно опиравшиеся на аристократическое меньшинство, таким образом могли получить расположение народных масс.
В кельтской религии не проявляется связь между культом и культовым зданием, древняя космогония не соотносила жилище божества с определенным местом. Место национального собрания друидов скорее всего не было обозначено каким-либо сооружением. Кельтский натурализм находил образы божеств прежде всего в источниках и иных природных элементах: в результате увеличилось количество культовых центров, расположенных на возвышенностях или у воды. Некоторые из них положили начало поселениям. Так было в случае с Бибрактой и Немаусом, тогда как святилище Меркурия в арвернском регионе не идентифицируется с каким-либо агломератом. Наличие культового места на территории некоторых племен, несомненно, представляло собой козырь в политической игре, позволяющий добиться превосходства. Становление демографических и священных центров подтверждает фундаментальный аспект размещения галльского населения: сельское хозяйство, усилившее и стабилиз ировавшеераздробленность, которая характеризует villaeримской эпохи, с этой точки зрения сыграло роль, аналогичную роли религии. Исчезновение всяких следов святилищ во время римского завоевания отчасти объясняется отсутствием интереса к каменным постройкам. Однако под эгидой римлян галлы возвели некоторое число храмов, которые, за исключением лишь тех, что были посвящены римским богам и построены в городах с римским населением, представляют формы, независимые от классических и средиземноморских типов, и если не создают оригинальных способов выражения, то по крайней мере воплощают определенные черты местного прошлого.
В большей части континентальных кельтских регионов мифологические традиции были в основном стерты романизацией и вскоре заменены традициями классического мира: божественные образы были адаптированы к новому пространству греческих сказаний и легенд. Кельты – впрочем, так же, как любой другой неклассический европейский народ – никогда не имели образной мифологии. «Рассказы в картинках» их никогда не интересовали. Поэтому единственное проявление нарративного искусства европейской протоистории – искусство ситулы – воспроизводило только сцены повседневной жизни или обряды. То же самое позже проиллюстрирует котел из Гундеструпа. Греки, которые в VI в. до н. э. создали кратер из Викс, предназначенный для кельтского вождя, на место нарративного фриза поместили лишь вереницу колесниц, имеющую чисто декоративное значение. Это искусство ситулы, само по себе чуждое собственно кельтской среде, способствовало формированию не только искусства Ла Тен, но и его репертуара, часто намекающего на собрания, праздники, пиршества, игры, восходящие к античному образу жизни, который в равной степени был принят историческими кельтами и изображался как классическими авторами, так и в средневековых ирландских сказаниях, свидетельствующих о преемственности.
Празднества, которые проводились каждый год в одно и то же время, являлись одновременно религиозными собраниями и ярмарками; при случае организовывались также политические сборища. Поскольку здесь царила крайняя свобода, а кельты по природе были склонны к внезапным переменам настроения и гневу, гулянье зачастую перерастало в драку, тем более что они часто предавались пьянству. В реальности религия, которую друиды проповедовали на высоком метафизическом и духовном уровне, не могла быть понята всеми и оставалась достоянием меньшинства. Представителем этого меньшинства был друид Дивитиак. Во времена Цезаря галльская аристократия многое переняла в первую очередь у греков; она жила в домах эллинистического типа и хорошо знала риторику. Это было обусловлено важной культурной ролью, которую сыграл не только Марсель, но и соседние территории, сильно эллинизированные, а также Провинция.
Чтобы уловить кельтский дух, мы должны обратиться к искусству. Проблема кельтского искусства – одна из самых сложных, но и наиболее захватывающих проблем Античности. Прежде чем рассматривать ее в эстетическом плане, следует поместить ее в план исторический – как оно формировалось? – и напомнить в связи с этим, до какой степени необходимо отделять художественный феномен от этнических соответствий. Нужно, безусловно, учитывать особенности среды и экономики, хотя они и не имеют определяющего значения. Так, одной только исконной мобильностью кельтских групп, которая сохранялась и в историческую эпоху, нельзя объяснить отсутствие архитектуры, редкость крупной скульптуры и преобладание ремесла, специализирующегося на металлообработке. Архитектура и скульптура отсутствовали даже там, где кельтские племена были оседлыми в течение нескольких веков и где кельтское влияние было в значительной степени ассимилировано. Это объясняется тем фактом, что эта цивилизация сформировалась внутри доисторического субстрата континентальной Европы, для которого всегда и почти повсеместно было характерно отсутствие фигуративное™ и архитектуры. Кельты не имели условий, в которых формировались цивилизации Востока и Греции, а затем и римлян, то есть архитектурные цивилизации, – централизованной городской или государственной политической структуры и связи культа с особым пространством. Неорганический характер народов кельтской культуры не мог привести к подобной манере выражения, иное дело – редкие случаи, когда она была навязана им иноземной средой. В знаменитых святилищах Южной Галлии греческое влияние проявляется скорее в использовании прочных материалов – камня, чем в морфологии или декоре. Что касается знаменитого портика Антремона, единственное, что объединяет его с греческой архитектурой, – трехкаменная система (в архитраве), в то время как его основная функция сводилась к поддержке священных элементов: фигуры души-птицы (не напоминает ли это о птицах, типичных для галыптатского декора?) и вставленных черепов. Эти конструкции, так же как их декоративный аппарат, не связаны с поиском ритма, пространства или массы. После бронзового века, если не считать мегалитических следов, европейская архитектура была деревянной. В начале истории кельтов Гейнебург и некоторые другие крепости являлись исключениями, которые, впрочем, не представляют художественного интереса: речь идет о простых морфологических и технических заимствованиях, которые объясняют появлением иноземных или, по крайней мере, испытавших влияние Греции, Южной Италии или Марселя исполнителей. Что касается погребальной архитектуры, она ограничивалась исключительно традицией курганов, то есть более простыми формами, лишенными геометрии и субконического объема каменных или земляных холмов. Погребальные знаки единичны.
Великое искусство Ла Тен почти никогда не выходило за пределы чисто декоративной атмосферы, в которой оно воплотило неистощимое воображение. Вопрос о соотношении этого нового художественного языка со средиземноморским искусством возникает – и это естественно – в первую очередь. Весьма сомнительно, что декорированные предметы, в частности греческая и италийскаякерамика, привозимая в достаточно большом,но не огромном количестве, на самом деле вызывали интерес своим декором: обнаруженная посуда и орудия отличаются практичностью и добротностью. И если некоторые формы просто копировались, как, например, трилистник, то декоративные элементы не имитировались. Последние выполнялись со вкусом с точки зрения изящества, детали тщательно обрабатывались, отсюда утонченность, которая стала единственной целью в технике и искусстве и которой континентальные ремесленники очень редко достигали. На самом деле можно вспомнить декоративное изображение голов на греческих кубках V–IV вв. до н. э., которые считаются прототипами отрубленных голов, по крайней мере с формальной точки зрения, или трискели. [21]21
Трискель – орнамент, состоящий из трех изображений (например, веток), изогнутых в одном направлении и сходящихся к центру, часто вписанных в треугольник.
[Закрыть]Впрочем, греческое художественное производство вскоре перестало создавать произведения специально для кельтского потребителя: оно так и не адаптировалось к кельтским вкусам, как произошло в случае со скифской клиентурой.
Анализ процесса, через который произошел переход от фигурных типов эллинистических монет к абстрактной линейности кельтской счетной системы, вплоть до серий, называемых «радугой», весьма поучителен: здесь обнаруживается трансформация средиземноморских элементов кельтской средой и реакция на внешние влияния искусства, имеющего уже определенные характерные черты и предпочтения. Фигурные изображения, высоко ценившиеся в классической эстетике, совершенно чужды и непонятны кельтам: абстрактные метаморфозы монетных образов – не неловкие имитации, но вариации, постепенно развивающие тему, которая мало-помалу была ассимилирована и преобразована. Именно у галлов портретные изображения и лошади, которые украшают эллинистические монеты, испытали это постепенное разложение, в процессе которого каждая деталь приобретала индивидуальность, выделяясь из ансамбля и начиная жить собственной жизнью, до тех пор пока одни детали не разрастались настолько, что скрывали другие. В сущности, сходный процесс отмечен в готическом ломбардском или каролингском искусстве, противостоящем современному ему койне, подобному койне уходящей Античности и Византии.
Кельтское искусство, как мы уже говорили, формировалось в среде континентальной геометрики, которая сохранялась до времени последних проявлений гальштатской культуры там, где средиземноморские потоки не трансформировали ее в ориентализированные формы, а затем в фигуративные формы, связанные с греческим влиянием. Впоследствии континентальная геометрика продолжала проявляться в некоторых районах до «дороманского железа» и позже, в период романизации европейских провинций.
Мы уже встречались с феноменом параллельных эволюций: развитие этрусского искусства, ориентализированного, а затем ионизированного на античной основе виллановской геометрики, а также кельто-иберийского искусства на аргарийском фоне. Однако, по различным причинам ограниченное в пространстве и времени, искусство Ла Тен стало койне – интернациональным языком континента. С другой стороны, игнорирование им геометрической традиции свидетельствует о том, что кельтская цивилизация, хотя и вышла из галыптатского опыта, настолько сильно от него отличается, что может быть квалифицирована как революционная. Натурализм, который проявляется в анималистических и растительных мотивах, не оставляет места образным или нарративным конструкциям, особо выделяя детальные элементы, включенные в сложный декоративный синтаксис, всегда связанный, однако, с иррациональным воображением.
Наряду с древним наследием и греко-италийскими влияниями, отмеченными выше, третьим источником вдохновения для этого искусства стал мир, который был, возможно, довольно близок кельтскому, – иранский мир. Регион Северного Понта и пространство «степного искусства» образовывали мостик, соединяя Европу с наиболее удаленными азиатскими зонами. Если, например, мы возьмем для сравнения искусство скифов, то увидим, что сходства многочисленны, хотя, как правило, они чисто внешние. Они проявляются особенно в изолированности образных тем, которым также чужда в скифском искусстве органическая связь, в отсутствии репрезентативных контекстов и в стиле, предпочитающем декоративную пышность, – отсюда преобладание интереса к производству золотых и серебряных украшений. Однако скифское искусство более последовательно в смысле формы и объема.
Из всех этих связей вытекает выразительная оригинальность кельтского искусства, вскормленного внешними влияниями, но поглотившего и синтезировавшего их, – оно может сравниться со многими художественными достижениями Античности, поскольку логически воплощает дух цивилизации.
Одной из характерных черт кельтского декора является внимание к структуре и назначению предмета, которое рассматривалось как основа, а не повод для ремесленных художественных вариаций. Если обратить внимание на технику и типологию, можно узнать элементы, которые, вероятно, восходят к галынтатским основам или связаны с освоением внешнего опыта: фибулы, аграфы [22]22
Аграф – нарядная пряжка или застежка.
[Закрыть]и бляхи поясов, кольцеобразные браслеты – витые, с овами [23]23
Овы – орнаментальный мотив в виде яйцеобразных выпуклостей, обрамленных валиками (ионик),
[Закрыть]и выпуклостями, металлические части конской упряжи, шлемы, вазы. По этим данным, кельтское искусство развивалось с удивительной последовательностью как в пространстве, так и во времени. Остановимся пока на последствиях этого: простая структура предмета, безусловно, расширяется за счет дополнительных элементов, образующих своеобразное кружево, как, например, в некоторых торквесах с Марны, из Богемии, Эльзаса и на браслете из Роденбаха. Или же декорировались отдельные части, например концы торквесов из Филотрано и Вальдалесгейма, из Фенулле и Куртизоль, дужки которых были гладкими или витыми. В некоторых торквесах (Ласграсс, Фенулле, Сен-лье-д’Эссерен) декор растягивается и опоясывает предмет в барочном духе. В других случаях он украшает различные элементы, в частности в браслетах с овами позднего периода Ла Тен и головках палиц, мотивами в форме буквы S, трискелями, а также фигурными элементами, в которых мастерство гравировки подчеркивает нюансы в целом или в деталях. Однако нужно учитывать двусмысленности, порожденные привычкой – хотя иногда это необходимо – представлять эти небольшие предметы в макрофотографии. Во всяком случае, выпуклости, часто ограниченные компактными поверхностями, которые на стыке образуют форму гребня, за счет чего создают эффект блеска и полихромии, напоминают о скифском искусстве, возможно даже создавшем их. Точки соприкосновения между двумя этими областями очевидны: в обоих случаях это показатель стойкого примитивизма, который экспрессионистски передает глаза и губы в украшениях, изображающих людей и животных, используя простые и выпуклые объемы. Но в кельтском искусстве в завитках, в декоративных рядах обнаруживается натуралистическое предпочтение синусоидных линий S-образных элементов, включенных в контекст небольших листьев-пальметок. Эти мотивы заимствованы из растительного мира, но уже пропущены через стилизацию, которая сравнима со стилизацией классического греческого искусства. Таким способом декорированы, например, золотой диск из Овре-сюр-Уаз и надгробие из Галвея (Ирландия) или фалеры из Экюри-сюр-Коль. Но часто кельты используют темы, взятые из человеческого или животного мира, комбинируя их в бесконечных вариациях мотивов и замысловатых арабесок. Эти фигурные элементы ограничиваются обыкновенно изображением человеческих и звериных голов, как, например, в фибулах с маскообразными мотивами, отдельные части которых оживлены человеческими образами в соответствии с уже намеченной, тенденцией к выделению различных частей предмета. В то же время наблюдается продолжение гальштатской традиции фибул с «лошадками» в расположении автономныхфигурных элементов, которые больше не связаны со структурой предмета, как, например, в роскошной золотой фибуле из коллекции Фланри (Вильметт, штат Иллинойс, США), датированной периодом Ла Тен II. Но конечно, декор, рассмотренный на примере фибулымаски, создает впечатление более последовательного декоративного чувства в период среднего и позднего Ла Тен.
Изображения людей или животных включаются в декоративные системы не только для их завершения, но и как элементы последовательности. С этой точки зрения фрагмент портика из Наг (Гард) и золотой браслет из Роденбаха относятся к одному типу. Но изолированность различных элементов в каменной скульптуре и их последовательное чередование и связанность в браслете, очевидно, свидетельствуют о том, что в первом случае речь идет об адаптации кельтской тематики к монументальному типу – в рамках, которые были ей чужды, а во втором случае – о явлении, типичном для кельтского декора. На браслете человеческие маски сочетаются с изображениями лежащих баранов; линейное разъединение фигур определяет мотив, который связывает всю композицию. Или же маски включаются в игру стилизованных растительных элементов, как на бляхе из Вайскирхена (Саар). Завитки S-образной формы обрамляют головы лошадей на торквесе из Фраснес-лезБуиссенал (Эно, Бельгия).
Декоративное изобилие усиливается в период Ла Тен II: элементы выступают над поверхностью, выделяясьчрезмерным богатством, как на колье из Ласграсс (Тарн) и Фенулле, уже упоминавшихся. Также развивается тот «пламенеющий» стиль с барочной тенденцией, который характеризует среди прочих кельтскую Бретань и к которому восходят средневековые вычурные стилизации кельтских форм. Выделенные из органического контекста, человеческие и звериные головы также комбинируются друг с другом, противополагаясь, как на кольце из Роденбаха или на бронзовом браслете из Л а Шарм (Труа, Об), накладывала, друг на друга, как на фрагментах браслетов из Манербио (Брешия, Италия), выстраиваясь в цепочки и круги, как на фалерах того же происхождения.
Последовательность из человеческих масок, фигур животных и различных мотивов обнаруживается на пластинах, которые покрывают деревянные цилиндрические цисты позднего кельтского искусства Великобритании (Марльборо, Вилс), наряду с линейным стилем (зеркала из Trelan Bahow, Корнуолл, из Бердлипа, Глостер, и музея в Ливерпуле, бронзовые умбоны щитов из Баттерси и с реки Витам). Циста из Марльборо возвращает к проблеме, связанной со знаменитым котлом из Гундеструпа (Дания), ритуальный характер которого неоспорим. Он представляет все элементы кельтского стиля, так же как многочисленные технические детали кельтской традиции. Однако нарративный характер, само дробление внешней поверхности на серию метоп, включение растительных, природных элементов, заимствования из классических тем, как, например, битва героя со львом или человек на дельфине, наконец, поздняя датировка помещают это произведение вне кельтской среды. В данном случае наряду с влияниями, проникшими сюда из классического мира, которые не должны слишком удивлять на северной окраине (в зоне, нейтральной в художественном плане и расположенной вне сферы собственно кельтского искусства), можно увидеть следы искусства ситулы, которое уже не кажется чуждым на цисте из Марльборо.
Одной из характерных черт кельтского декора является гармоничная симметрия, абсолютная и всегда соблюдавшаяся. Ремесленники, возможно, сделали это императивной дисциплиной, которая связывает их мир с дои протоисторическим континентальным слоем, на который мы уже намекали. Соответствия проявляются в линиях, объемах, а также в цветах, которые очень живо воспринимались кельтами. Тленные материалы полностью исчезли – кожи и ткани, о которых сообщают авторы, – но остались эмали и инкрустации из полудрагоценных материалов, таких как янтарь и коралл, и стекло, использовавшееся не только как материал для вставок, но и само по себе: кельтские колье и браслеты из разноцветного стекла широко распространены. В золотых и серебряных изделиях и образцах чистой металлообработки – с эпохи бронзы использовавшейся все реже и все больше внимания уделявшей орнаменту и декору – цветные элементы зачастую подчеркивали ту рельефность и ту индивидуализацию частей, о которых мы говорили. Вспомним несколько примеров: бронзовые фибулы из Мюнсингена (Берн, Швейцария) и Басс-Ютца (Мозель). Цвет заполняет узоры на золоте, например на бляхах из Вейскирчена, выделяет глаза на масках из прокатной или литой бронзы из музея Тарб (Пиренеи) и Гарансьеран-Боке (Эр-и-Луара), акцентирует декоративный контекст на шлеме из Амфревиля (Эр) и пряжках из Баттерси (Англия), всегда с крайней умеренностью и органичностью, которые никогда не противоречат друг другу, поскольку ориентированы на барочную несдержанность и поиски «пламенеющего» стиля.
Цветовым контрастам кельтское искусство предпочитает монохромность, которая не искажала ни поверхности, ни природы металла, и остается верным этому на протяжении всей своей истории, в уже отмеченном аспекте функциональности и структуры. Материал, чаще всего металл, но также дерево и кожа, воспринимался и вдохновлял сам по себе, своими собственными оттенками, будь то холодный серый цвет железа, теплая тональность бронзы или золотых фрагментов, украшавших, например, парадное оружие. Чеканные изделия, такие как ажурные фалеры из Сомм-Бионна (Марн), Сен-Жан-сюр-Турб и украшение колесницы из Сомм-Турб (Марн), носят тот же характер и числятся среди самых ранних проявлений кельтского пристрастия к декорированию. Чтобы лучше понять, чем стал этот поиск цвета для кельтов, нужно представить предметы в сочетании с одеждой или лошадиной сбруей, кожаными ремнями, с деревянными фрагментами, как в британских цистах, о которых речь шла выше, или больших щитах. Этому стилю соответствует рост привозных товаров за счет чеканных золотых пластинок и, в частности, аттических чаш из Кляйн-Аспергля (Людвигсбург, Германия) середины V в. до н. э. и кубка из Шварценбаха (Биркенфельд).
Излюбленные техники в производстве золотых украшений – чеканка, часто содержащая вкрапления, в искусстве бронзы – плавка с гравировкой. Ирландские средневековые миниатюры, последние образцы кельтского искусства, своими отдаленными корнями восходят к искусству Ла Тен, по большей части миниатюристическому ввиду склонности к украшению небольших предметов.
Все искусство культуры Ла Тен является, по сути, чисто интеллектуалистическим, сознающим свои собственные пределы, но способно в этих рамках двигаться с крайней свободой и неисчерпаемой фантазией. Думается, именно благодаря декоративному опыту это искусство нашло пластическое воплощение в камне и бронзе: этот процесс был противоположен тому, что происходило в греческом искусстве, где все художественные проявления, какого бы уровня они ни достигли, были обусловлены атмосферой, которая определялась крупными творческими личностями. По-настоящему автономный ремесленник появился не раньше эллинистического периода. В пластических произведениях кельтов, по крайней мере тех, датировка которых возможна и которые, очевидно, не подверглись средиземноморским влияниям, декоративные элементы обыкновенно разрастаются до пропорций скульптуры. Более показательным является бюст из Мшецке Жехровице (Ново Страшече, Чехословакия), уникальное произведение фигуративного искусства Богемии. То же относится к фигурным и символическим элементам стелы из Вальденбаха (Вюртемберг, Германия) и пирамиде из Пфальцвельда (Гуншрук, Германия), напоминающей голову из Гейдельберга. Их сомнительная хронология препятствует в настоящее время точной оценке культовых изображений, таких как божество на торквесе из Бурэ, колоннообразная статуя, по концепции сходная со стелой из Вальденбаха. Интерес к изображению головы проявляется в связи с двумя аспектами особого религиозного видения, откуда и неорганический характер фигур, и декоративное изобилие в скульптуре из Euffigneix (Франция). Головы, даже в их упрощении, выдают греческое влияние, заметное также в маске из Гарансьер, меньше – в абстрактной маске из Тарб, обе, впрочем, далеки от истинного кельтизма бюста из Мшецке Жехровице. Само это влияние переносилось равным образом на скульптуру юга Галлии (структурная взаимосвязанность двуглавого Гермеса из Рокепертуса). Диспропорция реального опыта и культуры воплощалась даже в той форме губ, которая стала считаться типично кельтской. Фрагментарная статуя из Грезана в новом аспекте свидетельствует об интересе к деталям, который связан не с кельтской традицией, а скорее с иберийской скульптурой. Описательный характер ассоциируется с линейным орнаментом в головах из Антремона (Буш-дю-Рон) и из Сен-Верана (Оргон,Буш-дю-Рон), в воине из Вакер (нижние Альпы), благодаря которым зарождается галло-римское искусство, так же как в монументальном воине из Мондрагона (Воклюз), расположенном в соответствии с архитектонической манерой за огромным щитом с умбоном, который принадлежит уже новому миру.
Сосредоточение в Южной Галлии одновременно эллинистических, иберийских и италийских элементов открыло новые художественные горизонты в Провинции, которая испытала оживление в искусстве позднее, чем другие части кельтского мира, и на основах, кельтских лишь отчасти.
Этот эклектизм Южной Галлии привел к тому, что такие произведения, как божество, сидящее в буддийской позе, из Рокепертуса и тараск из Новэ, напоминающий, в частности отрубленными головами, фрагмент аналогичной группы из Антремона, явно контрастируют с бесстрастностью других скульптур из той же среды. Что касается бога из Рокепертуса, а также Меркурия из Пюи-де-Жуэ (Сент-Груссар, Крез), созвучие с греческим архаизмом может стать источником значительных двусмысленностей: речь идет о псевдоархаизме, отсталом архаизме – как в статуях Сьерра-де-лос-Сантоса, – связанном с равнозначной манерой мышления. Контакт с марсельской средой, долгое время остававшейся на архаической стадии, стал, вне всякого сомнения, определяющим для формальных решений. С другой стороны, очевидно, этот фигуративный язык является результатом интенсивного процесса созревания и выбора среди внешних влияний, ставшего внутренне необходимым. В иной среде – италийской в V–III вв. до н. э., балканской и азиатской в эллинистическую эпоху – кельтские группы, даже если касались разнообразных грандиозных фигуративных опытов, не ощущали потребности целиком соответствовать им. Эта необходимость возникла только в Южной Галлии в эпоху, не намного опередившую романизацию, а затем смешавшуюся с ней.
Тараск и подобные ансамбли наводят на иные соображения: они тоже имели архаический характер в декоративной линейной обработке анатомических элементов, но выражали особую атмосферу страха и смерти, весьма далекую от героической идеи смерти, присущей кельтскому сознанию. Некоторые элементы, например акцент на животном символизме, заставляют вспомнить скорее об Иберийском полуострове, чем об Этрурии, отношения с которой являются весьма спорными. Жилистый, линейно выразительйый тараск из Новэ более, чем другие скульптуры Южной Галлии, близок к сущности кельтской декоративности: его части организуются в соответствии не с натуралистическим изображением, но с представлением о потрясающем декоративном предмете, детали которого должны подчеркнуть экспрессионистскую манеру. Впрочем, в зонах, в меньшей степени затронутых иноземными связями, анималистическое искусство достигло совсем других результатов, как, например, в энергичной и абстрактной стилизации кабана из Неви-ан-Сюлли (Луара) или оленя из того же вотивного хранилища. Среди этих находок были, кроме того, две человеческие фигуры – обнаженные танцор и танцовщица, которые своей экспрессивностью напоминают более поздние небольшие бронзовые статуэтки венетов.
Именно в Галлии, наиболее открытой для влияний других цивилизаций, и частично в рейнском регионе и на богемской территории обнаруживают, вне собственно декоративной сферы, наиболее грандиозные проявления кельтского искусства. Кельтоиберийское искусство образует отдельную область, тесно связанную в своей декоративной фантазии с традиционным геометризмом, от которого оно изредка отдаляется, чтобы достичь, в золотой чеканной «диадеме» из Рибадео или в жертвенной повозке из Мериды, фигуративной ценности. Повозка, так же как ножны для кинжала, изображающие сцену жертвоприношения, и фибула в форме всадника, относится к гальштатской традиции. Декоративный характер Ла Тен затронул Испанию только поверхностно. Керамика из Нуманции – только она была фигурной на всем кельтском или кельтизированном пространстве – подверглась влиянию иберийского гончарного производства. Но, за исключением Иберийского полуострова, латенский декор приобретает вид койне, более успешные очаги которого находятся в центре и на западе Европы; что касается других территорий, оно проявилось в менее очевидных, но также связанных друг с другом формах.