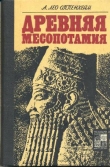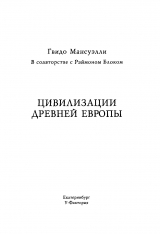
Текст книги "Цивилизации древней Европы"
Автор книги: Реймон Блок
Соавторы: Гвидо Мансуэлли
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц)
Фундаментальное отличие греческой и скифской религии заключается прежде всего в факте, что скифский культ не связан с основанием города и никогда не приводил к сооружению храмов. Места, предназначенные для собраний, не носили сакрального характера. Не найдено ни одной статуи бога, лишь бог войны, идентифицированный греками как Арес, был символически изображен на мече. Необходимо, однако, обратить внимание, что в скифском искусстве фигурирует Великая Богиня, почти всегда ассоциируясь с коронованием правителя.
Глубоко натуралистическая религия – скифов оставалась очень примитивной. Они верили в колдовство и магические практики. Хотя у них и не существовало собственно жреческой организации, служители культа относились к определенной касте. Они были скорее всего евнухами: это наказание было наложено на скифов Великой Богиней за разграбление ее храма Аскалон в Палестине, но эта легенда, очевидно, была создана греками; в реальности некоторые аспекты скифской религии тесно связаны с другими верованиями Малой Азии. Во всяком случае, это касается религии природных стихий: богиня огня Табити, или Великая Богиня, – свидетельница клятв, представительница царской власти и законности, покровительница стад – не была БогинейМатерью. Таким образом, она не отражает матриархальную структуру общества. Ей, вероятно, поклонялись в Южной России до прихода скифов; и ее статуэтки, которые представлены в различных местностях бронзового века, во многом походят на фигурки из Элама и Вавилона, относящиеся к более древней эпохе. Зачастую это культ астральный, хотя у царских скифов божество, идентифицированное греками с Посейдоном, – Фамумасад – особенно почиталось. Ему приносились человеческие жертвы, так же как богу войны, обозначенному именем Арес. Этот обряд, как показывает греческая легенда об Артемиде Таврической и Ифигении, распространенная в Северном Понте, делал умершего героем, подтверждая крепкую веру в бессмертие души. Изобилие приношений, представленных внутри захоронений, подчеркивает эти представления, которые связывают скифский мир с многочисленной серией сходных феноменов доисторической Античности. Чтобы отметить вхождение в общество, молодые воины должны были принести торжественную клятву верности, испив из черепа врага, как из кубка; этот обычай, несомненно имевший религиозный смысл, близок к обряду обезглавливания у кельтов. Кроме того, в первобытных ритуалах, страшная реальность которых, изображенная еще Геродотом, подтверждена раскопками, ни во что не ставилась человеческая жизнь, шла ли речь о рабах, солдатах или женщинах. Традиция древнего матриархата противоречит приниженному положению женщин, хотя они имели право носить роскошные украшения. Скифское общество является исключительно обществом мужчин, тем более что они были полигамны: цари имели «гарем» и, согласно рассказу Геродота, подтвержденному другими историческими источниками и данными раскопок, по крайней мере некоторые супруги правителя предавались смерти и погребались с супругом, так же как рабы и животные. Вероятно, в этом ритуале присутствует сарматское влияние, а на завершающем этапе – эллинистическое; кроме того, в эту эпоху скипетр Боспорского царства несколько раз передавали в руки цариц. Возможно, женщины, которые приносились в жертву на погребальных церемониях, были лишь женами второго ранга. В Пазирике некоторые захоронения, вероятно, принадлежат официальным супругам умершего царя.
У скифов не было настоящей армии, но военные в различных племенах имели своих предводителей: иерархия племен обусловливалась иерархией командиров. В погребальном имуществе и фигурных изображениях скифы предстают прежде всего как лучники на лошадях: кавалерия позволяла им одерживать верх, когда мобильные конные подразделения мерились силами с войсками пехотинцев. Но в эллинистическую эпоху неизменная структура оказалась в невыгодном положении, столкнувшись с военной организацией, разделенной на различные специализированные части. Именно это объясняет упадок скифского господства и его сохранение только в Боспорском царстве, устроенном на эллинистический лад. Соединения пехоты не использовались скифскими племенами: их армия, исключительно конная, типична для народа кочевников-скотоводов. Естественно, оружие, используемое в пешем бою, у них отсутствовало. Их военное снаряжение редко предполагало металлические кирасы и шлемы, введенные, вероятно, в греческой среде или на Ближнем Востоке, тогда как использование короткого меча, называемого акинак,копий и особенно луков и стрел было общим. Некоторые погребения содержат до четырехсот наконечников стрел. Скифская металлургия, таким образом, не специализировалась, как металлургия кельтов, на производстве крупного наступательного оружия – длинных мечей и копий для пехоты; зато скифские ремесленники производили во множестве колчаны, которые позволяли перевозить во время походов лук и стрелы, – гориты.
Мужское одеяние соответствовало образу жизни кочевников-всадников. Оно сохранялось даже при контакте с греками: их развевающиеся драпированные одеяния не заменяли скифскую браку, [13]13
Брака – штаны у скифов, галлов и некоторых других народов.
[Закрыть]обтягивающую тунику с длинными рукавами и капюшоны. Эта манера одеваться, которая напоминает стиль кельтов и германцев, была преподнесена им «классическими» народами; однако это больше чем деталь материальной культуры, – свидетельство образа жизни.
* * *
С конца IV в. до н. э. в Южной России появляются сарматы, также имевшие иранские корни. Этот народ, мы уже говорили, относился к той же лингвистической группе, что и скифы, и имел с ними многочисленные общие черты. Но сарматы изобрели или по крайне мере адаптировали стремя; они противопоставили скифской кавалерии тяжелую конницу, которая великолепно проявила себя. Греки знали сарматов с давних пор, но путали их со скифами. Вероятно, это привело в отношении них к тому же, что произошло в античной традиции в связи с кельтами и германцами: различные территории и иная ступень культурного созревания акцентировали плохо выраженную дифференциацию. Они представляли мощную группу в разнообразном мире кочевников, обитавших к северу от Кавказа, и, проникнув на территории, занятые скифами, они в конечном итоге заняли их место.
Искусство юго-востока России, в зоне, которая простирается в основном от Днепра до Кавказа, принадлежит не только скифам. Предметы греческого и скифского ремесла содержатся одновременно в курганах скифских царей, могилах греков и эллинизированных скифов, свидетельствуя о долговременных и интенсивных контактах. Греко-скифское искусство, или, если угодно, греко-понтийское, представляет, вероятно, особый интерес с нашей западной и средиземноморской точки зрения, но, однако, оно соответствует – в весьма обширном пространстве скифской цивилизации – лишь эпизоду, ограниченному во времени и пространстве ремесленной отраслью. Значение, которое ему приписали, вызвано отчасти «классической поляризацией» исследований, отчасти тем, что находки в Южной России стали лучше известны. Это искусство представляет собой производственную адаптацию греческого ремесла к скифской клиентуре. Таким образом, оно не является ни приобретением, ни локальной культурной обработкой по греческому образцу. Проникновение к скифам классических заимствований происходит, естественно, совсем иначе. Впрочем, они играли, возможно, менее определяющую роль, чем азиатские влияния, в генезисе и распространении собственно скифского искусства, эпицентр которого, во всяком случае, должен был локализоваться внутри цепочки греческих колоний – в Южной Украине, Крыму и бассейне Кубани.
Вклад и роль греческой художественной цивилизации были бы более ощутимыми, если бы северный понтийский регион не создал, как кажется, своего собственного великого искусства. Он ограничивается заимствованиями в своей архитектурной и скульптурной программе, достаточно непритязательной, и, по крайней мере изначально, функциональными потребностями. Однако этот регион достиг блестящих результатов в области производства украшений и изысканной металлургии, и это ремесло очень часто учитывает требования своего основного заказчика, то есть племенной аристократии внутренних регионов. Скифский мир, таким образом, находился в прямом контакте не с оригинальными формами эллинизма, но с колониальными факториями греческой периферии. Он породил крайне любопытный феномен взаимного влияния: с одной стороны, греческие ремесленники интересовались локальными темами, отказываясь от своего собственного воображаемого, мифического мира, а с другой стороны, художественное производство внутренних регионов использовало греческий репертуар, становясь все менее характерным, а порой чуждым для своей протоисторической среды.
Ремесленное производство колоний Понта не имеет ничего общего с ремесленным производством других регионов, удаленных от греческого мира. Поскольку греки работали для кельтов, они всегда представляли свои собственные художественные формы, уступая порой вкусу покупателя лишь в размерах некоторых частей. То же будет с иберами и этрусками, которые адаптировали, хотя и иным способом, греческие заимствования, каждый на свой манер, тогда как греко-понтийское искусство является результатом экономической интеграции и политического подчинения греческих городов скифским царям. Это не было связано с духовной потребностью, но представляло собой плод обстоятельств.
Греко-скифское искусство формируется достаточно поздно, во второй половине V в. до н. э., под влиянием образцов, привезенных из Аттики. Сюда проникает классическая иконография; так, изображение головы Афины Парфенос Фидия украшает чеканный золотой диск из Куль-Обы. Темы этого искусства малочисленны, если представить неисчислимые вариации классической мифологии. Зато греческое ремесло V–IV вв. до н. э. использует анималистический репертуар скифов и выказывает большой интерес к местной среде. Наряду с восточными легендами, например о битвах аримаспов с грифонами, сюжеты которых происходят из Аттики, наблюдаются многочисленные оригинальные сюжеты: на плечиках большой серебряной амфоры из кургана Чертомлык (IV в. до н. э.) изображены скифы в национальном одеянии, укрощающие своих лошадей. Брюшко амфоры роскошно декорировано гроздьями винограда и пальметтой в западном стиле. В аналогичной декоративной манере выполнена ваза из Куль-Обы (IV в. до н. э.), на которой представлены скифские воины, натягивающие лук и ухаживающие за ранеными товарищами; на знаменитом золотом гребне из Солохи (IV в. до н. э.) скифы сражаются верхом: вырезанные фигуры воинов образуют уравновешенную геометрическую композицию в соответствии с техникой, часто используемой в скифском искусстве и достаточно редко у греков. Сцена охоты, изображенная на кубке из Солохи – еще одно произведение греческого чеканщика, – содержит многочисленные иконографические элементы, заимствованные в скифской среде. Возможно, мы недооценивали национальную восприимчивость кочевников, уделяя слишком мало внимания эллинизму.
В начале IV в. до н. э. массивный импорт расписной керамики из Афин, с которой связаны вазы из Керчи, свидетельствует о более широкой эллинизации. Отметим по этому поводу, что ремесло городов Понта не создало своей собственной расписной керамики: здесь производились исключительно металлические изделия, потому что дорогостоящая посуда не входила в специализацию скифского ремесла. С наступлением эллинистической эпохи приходят новые иноземные элементы – прежде всего персидские, – которые пользовались большим спросом, но не были приняты. Знаменитое колье, или «узел Геракла», из кургана Артюковский, украшенное разноцветными камнями, еще одно колье из Херсонеса с богатым рельефным декором и роскошные серьги из Феодосии, с филигранью, розетками, завитками, растительными элементами, небольшими фигурами Ники и лошадей – богатством, которое выходит далеко за греческие рамки, соответствовали в своей барочной вычурности варварскому стилю, но не копировались.
Древние источники скифского искусства связаны с мотивами, широко распространенными в азиатском мире, которые трансформировали стиль кочевников в декоративном плане схематизацией, если не абстракцией. Волны, которые хлынули в это время на равнины бассейна Волги с Нижнего Дона, Днестра и Днепра, контактировали с весьма разнообразной азиатской средой на пространстве огромной протяженности. Очевидно, они принесли, помимо великих достижений главных цивилизаций Азии, преобразования в орнаментальной области; одновременно распространялась и коммерческая продукция. Именно поэтому репрезентативное, нарративное в историческом и мифическом смысле искусство не вызывало отчуждения в скифском сознании, которое, напротив, интересовалось отдельными элементами и декоративными композициями. Скифская религия, спиритуалистическая и магическая, если исключить некоторые остатки тотемизма, не использует в искусстве изображения человека. Фигуры животных – на этом основана уверенность исследователей в тотемических пережитках – доминируют в темах скифского искусства, но наряду с животными, связанными с повседневной жизнью, такими как олени или лошади, появляются, например, кошачьи, которые не были представителями местной фауны. Лев, в частности, заимствуется с Ближнего Востока.
Важно не упускать из виду связь между декоративным элементом и предметом, который он украшает. В общем, не только предмет предопределяет декоративную структуру, но и фигурный элемент диктует форму предмета, в отличие от искусства кельтов, которые украшают, строго соблюдая функциональные формы. Так, например, очень часто элементы фигурного декора проходили тщательную отделку, а затем прилаживались к предмету – речь идет о композициях из Пазирика или статуэтках, встроенных в понтийские деревянные саркофаги. Вот что объясняет золотые и бронзовые вставки и золотые брактеи, которые обнаружены в некоторых курганах юга России и прилегающих районов. Фигуры, как правило, создавались отдельно, затем вставлялись различными способами в декоративную композицию, тогда как в традиции Средней Азии они не образуют симметричного, геральдического равновесия. Поскольку эти элементы не рассматривались с точки зрения других составляющих, они замкнуты на самих себе: отсюда преувеличения, настоящее буйство органической формы, которая, разрушаясь, сводится к абстракции и чистому декору.
У оленя со стоянки Костромская, который датируется VII или VI в. до н. э. – эпохой скифских побед на Ближнем Востоке, – рога выполнены в виде серии спиралей, а пластика сводится к изображению самого существенного; эта несогласованность частей, создававшихся как автономные элементы, является художественной, декоративной. Она присутствует в графических изображениях на золотом листе, который окружает рукоятку железного топора из кургана Келермес (VI в. до н. э.) цветными бликами и оттенками, в пантере из того же кургана, уши которой выполнены в технике клуазоне, а на лапах и хвосте изображены фигурки свернувшихся в клубок животных. Рыба из катаного золота из Веттерсфельде (VI в. до н. э.; современная Восточная Германия) – одна из самых натуралистичных – содержит немало греческих элементов в рельефных изображениях животных на ее поверхности и бараньих голов на концах хвоста; тритон с рыбами в нижней части соответствует греческой архаической детали, которая свидетельствует об эклектическом характере этого ремесла. Подобные замечания можно сделать по поводу схематизированного оленя из Куль-Обы, покрытого изображениями реальных и фантастических животных в эллинизированном стиле. Вопреки общепринятой точке зрения, сомнительно, что это произведение греческого ремесленника. В первой половине V в. до н. э., о которой идет речь, скифские ремесленники начали с интересом обращаться к образному миру греков, но их привлекали в нем только отдельные элементы, а не весь ансамбль и его возможный смысл. На крышке из сплава золота и серебра из кургана Келермес чередуются архаичные ионические элементы (сфинкс) с элементами азиатской традиции, интерпретированными в эллинизированных формах. Патера из Солохи, которая представляет многочисленных животных в поразительных ракурсах, имеет натуралистический характер: никакого схематизма в ее композиции не наблюдается. Эта работа была выполнена греком.
Скифы Запада узнали греков в изображениях, сделанных ими самими, но скифские персонажи, которые украшают многочисленные золотые брактеи с отдельными или объединенными в пары чеканными фигурами, – чужды композиционной структуре, в которую они включены, поскольку декорированы в соответствии с локальной традицией. Их местный характер проявляется в отсутствии композиции, которая поддерживала бы изображения скифов, выполненные греками; их интерес выражается только по отношению к деталям одежды и позам; пропорциональные связи разрушаются. На пластинках, для которых менее характерны фигурные группы, композиция организуется полностью во фронтальной плоскости, как в некоторых поздних и очень редких работах по камню. Благодаря археологическим находкам в Алтайском регионе мы получили представление о границах сравнения, что очень важно. Эта среда, которой не достигли греческие влияния, дает нам подтверждение фундаментального единства Скифии. Алтайские захоронения сохранили множество деталей, имеющих чаще техническую, чем художественную, ценность; многочисленные находки, связанные главным образом с одеждой, свидетельствуют об уже подчеркнутом стиле скифов в одежде, убранстве и роскошной конской сбруе. Открытия в этом регионе составляют особый раздел наших знаний о скифском мире и позволяют составить представление о предметах из тленных материалов, сохранившихся благодаря чрезвычайно холодному климату, тогда как западные находки представлены лишь металлом и керамикой. И даже если речь не идет о произведениях искусства, они показывают, какое значение у скифов имел культ красоты: это изысканные произведения, редкостные вещи. Они увлекают нас чарующей игрой цвета и ярким блеском. Ремесло Алтая по существу своему декоративно и анималистично: поразительно яркие натуралистические черты сопровождаются усовершенствованными стилизациями, фантастическими абстракциями. Среди наиболее красивых из известных рисунков этой группы нужно отметить татуировку предводителя, погребенного во втором кургане Пазирика. Удивительно и невероятно, что обнаружена татуировка, представляющая собой замечательное произведение искусства. Фигура человека не игнорируется: так, на войлочном ковре изображен правитель на лошади перед Великой Богиней, восседающей на троне. До сих пор это самая яркая сцена, найденная у восточных скифов. Они заимствовали изображение человека в искусстве Китая и Ближнего Востока через посредство Ирана, как их братья по расе, обосновавшиеся на другом конце степи и принятые греками.
На Западе, наряду с расцветом греко-понтийского искусства и эллинистическими привнесениями, претерпевает эволюцию скифское искусство: пластический характер анималистических изображений уступает место стилизации и рисунку. Декоративная абстракция остается наследием прежде всего древнего скифского мира: верхняя часть скипетра из Улы, графически воспроизводящая голову птицы, изображение которой накладывается на рельеф небольшой лошади, датируется серединой VI в. до н. э. Это наложение, которое мы уже наблюдали в рыбе из Веттерсфельде и олене из Куль-Обы, является обычным приемом: стилизованное животное на диске из Кулакорски (Симферополь) уже не просто фигурка барана, «двойные животные» на золотых и костяных дощечках Киевской группы – еще один пример. Великолепно стилизованному декору чеканных золотых рыб из Кимбала Могила соответствуют экспрессионистские в гравировках на кости Киевской группы изображения птичьих голов. Головы комбинировались с пальметтой в небольшие декоративные композиции в VII в. до н. э. (Тенир, Келермес), затем в V–IV в. до н. э. (Семибратское, Журовская, Акмечеть). На ручке кубка из Солохи, датированного концом V в. до н. э., они образуют сплошной декоративный ряд, а отдельные их элементы Напоминают непосредственно о кельтском искусстве. Мы уже подчеркнули значение гравированной кости: этот материал сам подсказывал формы и снабдил модели техникой чеканки металла. Но очевидно, нужно учитывать также тенденции и стиль самих скифов, помимо этих простых технических совпадений. На Кубани переход от пластического стиля к простой линейной декоративности хорошо проиллюстрирован изображением двух стоящих друг против друга оленей. Олень с симметричными рогами, пластически выразительный, обнаруженный в Семибратском кургане, встречается и в другой, более поздней группе, по-прежнему на Кубани, но декоративная тема рогов сводится к простому изображению волнообразных мотивов, а фигура оленя растворяется в декоративной гравированной розетке. Этот процесс абстракции длится не более века. Параллельно совершается распад декоративных элементов, как, например, в ажурном киме скипетра из Мелитополя. Различные части рассматриваются как автономные единицы, каждая из которых могла быть одушевлена и индивидуализирована. Этот стиль проявляется также в ремесле Западной Сибири между I в. до н. э. и I в. н. э. в ажурных деталях с тенденцией к абстракции: пантера нападает на оленя, рога и хвост которого оканчиваются головами змей, а тело украшено изображениями различных животных. Другую группу украшают цветные блики вставленных камней, которые сводят на нет пластический элемент, расщепляют форму и орнаментальный стиль и напоминают иногда об античном натурализме, декантированном и обновленном. Так, на сарматской пластинке за динамической линейностью изгибов тел, создающих замкнутую композицию, хотя и в абстрактных и несвязных формах, проступает прыжок пантеры и падение сраженной лошади – такой выразительности скифское искусство еще не знало.
В западном культурном пространстве скифов выделяют различные группы: группы Крыма, Кубани, Верхнего и Нижнего Днепра, близ Воронежа, Киева, Полтавы, – но их различия более ощутимы в деталях, чем в стиле. Это объясняет, если подумать, то, что в открытом и подвижном мире русской равнины, несмотря на огромные расстояния, изменения происходили легко. Здесь предстают перед нами более явные отличия между собственно скифским периодом, который продолжается до конца IV в. до н. э., и сарматским периодом, который характеризуется большей любовью к цвету и греческим влиянием, проявляющимся скорее в технике, чем в иных элементах. Но второй период является лишь продолжением первого и подтверждает, что пространство между Кавказом, Уральскими горами и нижним Дунаем играло роль моста между Европой и необъятным азиатским миром.
К IV в. до н. э. скифские влияния встретились на Балканах с западными влияниями цивилизации Ла Тен.
Этот регион оказался открытым также для потоков, пришедших с Востока, но скифы утратили здесь изначальную оригинальность своего традиционного искусства.