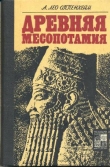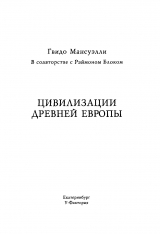
Текст книги "Цивилизации древней Европы"
Автор книги: Реймон Блок
Соавторы: Гвидо Мансуэлли
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
Прочность лимеса и римские контрудары сначала заставляли некоторые из этих племен двигаться в направлении, противоположном нужному. Так, например, готы, направляясь на восток, захватили Северное Причерноморье в ущерб сарматам, но гунны вытеснили их оттуда; таким образом, они были вынуждены вновь повернуть на Запад, опустошив Южные Балканы и Иллирию. Параллельно саксы и англы достигли Британии, франки пересекли лимес в низовьях Рейна, вандалы и бургунды вторглись в Галлию и Испанию.
Прежде чем детально излагать события, которые разворачивались в III–IV вв., на мой взгляд, нужно осветить отношения римского мира с миром варварским.
Существование варваров у ворот империи среди прочих проблем поставило военную проблему, которая со временем усложнялась. История III в. изобилует оборонительными и наступательными операциями, растянувшимися на тысячи километров, которые насчитывал лимес.
Сама тетрархическая структура империи, пытаясь создать более эффективные механизмы обороны, адаптировалась к насущным потребностям, но это повлекло за собой огромные расходы и тяжелым бременем легло на экономику римского мира; это был порочный крут, который делал любое решение практически невозможным. Однако время не ждет, нужно было любой ценой отбросить волны завоевателей.
Римляне испробовали еще одну систему, которая заключалась в противопоставлении одних варваров другим: для этого нужно было либо заручиться их дружбой или обеспечить их нейтралитет, заплатив им, либо поселить союзные племена (федератов) на границах империи и закрепить за ними землю, которую они должны будут защищать. Август подал тому пример, переместив убиев в район будущей Колонии Агриппины и приняв их под римский протекторат.
Последней мерой стало привлечение целых отрядов варваров на военную службу, так что римским в армии осталось только название и военачальники. Это положение вещей восходило, впрочем, к очень древней традиции: римские и италийские легионеры всегда разделяли свою участь со вспомогательными войсками, рекрутировавшимися в провинциях и даже за границей; «специальные должности» каждой армии всегда занимали неримские элементы. [59]59
Автор не вполне прав. Служба в ядре римской армии, в ее легионах, всегда была привилегией римских граждан. Вспомогательные войска, в которых служили представители покоренных народов, имели гораздо более низкий статус. Варваризация же римской армии, возможно подготовленная в правовом отношении эдиктом Каракаллы 212 г., фактически стерла эту разницу.
[Закрыть]Кризис империи своими корнями уходит в наиболее плодотворный процесс романизации – уничтожение социальных и национальных барьеров. Формирование римской цивилизацией провинций сопровождается сокращением древних кастовых привилегий: в основном империю всегда представляли, в противовес сенату, колониальная буржуазия, народ, провинции, армия. Несмотря на формы и риторику, в течение трех веков периферийный римский мир привыкал к сосуществованию с варварами. В некоторой степени, и в степени немалой, этот мир сам по себе содержал варварский компонент. С III в. провинциалы долгое время занимали ключевые имперские позиции. Если римский мир игнорировал происходящее внутри германских и восточных земель, то внутриконтинентальные народы, напротив, очень хорошо представляли условия жизни римского мира и ощущали его привлекательность. Миграции утратили характер движения к неизвестному, что было свойственно им в доисторический период. В отличие от конфликта между римлянами и парфянами, который столкнул две имперские доктрины, войны между империей и варварами имели целью интеграцию. Не случайно конец долгой эволюции социальной истории, отмеченный эдиктом Каракаллы, распространившим на все провинции право римского гражданства, совпадает по времени с тем переворотом, в ходе которого контроль над империей был передан де-факто в руки военных. Последние, осознав свою определяющую роль, не видели больше никакой преграды своим притязаниям, тем более что сами являлись арбитрами высшей власти. Постепенное проникновение варваров в армию открыло им доступ к гражданству, карьере и более высоким чинам. Со временем формируется непреложная солидарность варваров, несмотря на соперничество, которое противопоставляло различные племена и вне этнического сознания. Империя успешно использовала в своих интересах разногласия между потенциальными соперниками, делая невозможным всякий компромисс. Процесс ассимиляции, который мы набросали в общих чертах, породил новую ситуацию и проблемы, решение которых больше не могло откладываться. Зарождение на границах самой империи владычества гуннов усугубило происходящее. Натиск на Запад этого дикого, отсталого народа, возглавляемого вождями насколько предприимчивыми, настолько же и жестокими, привел к подчинению оседлых и кочевых групп и племен Восточной и Центральной Европы. Гунны создали настоящую территориальную империю и беспрестанно грабили римские земли, требуя выплаты тяжелой дани золотом и препятствуя набору наемников из варваров. Впервые, хотя это положение было зыбким, варварский мир предстал компактным, сильным и грозным противником. Закат гуннского господства не решил проблемы; напротив, этот упадок соответствовал кризису, который противопоставил, практически разделив внутренние территории Европы на две части, сторонников и противников интеграции варваров, которая казалась единственной альтернативой ассимиляции. Военачальник Аэций, который оттеснил Аттилу на Запад, на самом деле был одним из защитников варваров; военные были ярыми сторонниками политики интеграции, как чуть раньше Стилихон, тем более что сами предводители племен, опиравшиеся на свои армии, были необходимы империи и вот-вот должны были начать играть первую роль в ее политических и военных делах. История IV–V вв. изобилует именами и лицами этих предприимчивых, ловких предв'одителей, которые занимали главные посты в обоих мирах одновременно. Каждый вел личную политику, которая не обязательно соответствовала политике того или иного народа, но способствовала аннулированию практически всякого различия между «внутренним» и «внешним» – понятиями, ставшими чисто формальными. В самой структуре поздней империи, направленной на то, чтобы свести все проблемы к узкой среде двора, на уровне высоких сфер государства проявилась оппозиция варварам. Она связывалась с потоками, благоприятствующими возвращению к греко-римской культуре и классицизму, отныне лишенному всякого внутреннего смысла. Так, ссора по поводу статуи Победы странным образом смешалась с усилиями, направленными на вытеснение варваров. Старая сенаторская аристократия начала борьбу против новых элементов, которые искали опоры, с одной стороны, в христианской идеологии, а с другой – в силе варваров. Впрочем, политика Константина I практически разрушила низшие классы к выгоде высших классов, крупных собственников и сановников, и трансформировала римское общество, некогда очень разнообразное, в сообщество подчиненных, управляемых тесным меньшинством, во главе которого стоял император. Именно в недрах этого меньшинства нужно искать непосредственных виновников ситуации, которая ускорила распад империи, по крайней мере западной ее части. Вопреки названию invictissimi, [60]60
Превосходная степень от лат. invictus – «непобедимый».
[Закрыть]которым любили похваляться императоры, большая часть Европы оказалась во власти варваров, под одновременным воздействием внешнего давления и внутренней политики военных предводителей. Дата 476 г., – когда Одоакр во главе многообразного формирования заставил последнего императора Западной империи сложить регалии и провозгласил самого себя rex gentium,королем варваров, которые обосновались на Апеннинском полуострове, – остается ценным ориентиром в истории древнего мира.
В IV и V вв. – в ситуации настолько смутной, что страдания затмили все основные линии, прорисовывается, однако, фундаментальная черта: мы впервые оказываемся перед историей унитарной Европы, если не Евразии. Проблемы империи и варваров основывались на единоначалии и дворе в Италии и Константинополе, остававшемся долгое время объектом споров, борьбы и притязаний. Возможно, никогда еще Римская империя не была столь значима в качестве центра континента, как в эпоху своего заката. Это осознавали все, хотя для одних империя была врагом, которого нужно сразить, для других – пространством для оккупации, для третьих – традицией, которую еще нужно было защищать. Крайности противопоставления «варвары – римляне», характерного для всех древних авторов, сближаются. Европа осознала факт, что отношения между различными географическими регионами исобытия, которые там происходили, тесно обусловлены друг другом. Отныне нельзя было оставлять без внимания то, что происходило в отдаленных регионах, то, о чем классический мир мог лишь смутно догадываться или же вовсе не знал. История стала «унитарной» в смысле взаимного познания и взаимных влияний. Географический горизонт расширялся тем же способом, что и политический. Более отдаленные образования, например славяне, которые частично вытеснили германцев на центральном восточном и северном европейском пространстве, быстро освоили динамику перемещений; в начале VII в. их племена уже появляются в древней Паннонии. Они были западной ветвью того огромного сообщества, которому суждено было занять важное место в истории Восточной Европы и которое характеризовалось тесным лингвистическим и культурным родством и ролью посредника между Европой и Азией.
Отныне лишенное своего традиционного смысла в том, что касается общей политики, противоречие между «внутренней» и «внешней частью» империи долгое время сохраняло свое значение с культурной точки зрения. Варвары еще находились на протоисторической и племенной стадии; их королевства, даже самые могущественные, продолжали оставаться стойбищами кочевников, управляемыми военной аристократией. Именно в этом их сила: исторические источники иногда переоценивали численность варварских народов в эпоху переселений. Однако, какой бы она ни была, эти племена представляли угрозу и пока сохраняли свое единство; из-за территориальной разрозненности они утратили силу, их потенциал ослаб, тем более что никакой другой стимул, кроме воинственной природы и личного авторитета предводителей, не толкал их на эти предприятия, если исключить стремление избавиться от преследования более сильных групп и расположиться в удобном жизненном пространстве. Возможно, стремление войти в мир, организованный империей, – очевидное по некоторым следам и рассматриваемое некоторыми современными историками как основная причина попыток прорвать лимес – было порождено самой римской политикой, филоварварской тенденцией, в связи с которой на границах империи обосновались многочисленные группы и в армию проникли иностранные элементы. Но это недостаточное объяснение. Варвары довольно рано, еще до появления национального сознания, смогли оценить свою силу и свою роль перед лицом господства империи, становившегося номинальным.
«Ошибка» Феодосия I, который санкционировал разделение Римской империи, усугубила положение. Богатый Восток мог к тому же подкупить предводителей и группы, чередуя уплату дани и контрнаступления; Запад, экономически ослабленный, отныне стал территорией, открытой для завоевания. Любые политические компромиссы и уловки были бесполезны в эту эпоху, возможно самую смутную и тяжелую в истории Европы.
Глава 15 ЗАКАТ РИМА. ГОСПОДСТВО ВИЗАНТИИ
В эпоху, когда Тит Ливий писал «Историю Рима», империя, казалось, достигла апогея и утвердилась в своем положении универсального господства, не ограниченного ни во времени, ни в пространстве. Но историк, произведение которого было вдохновлено провиденциальной концепцией развития римского народа, уже мучится мрачными предчувствиями: не пострадает ли эта впечатляющая конструкция от своего собственного величия? История поздней империи станет, действительно, историей упадка, логическим завершением серии сложных феноменов, многочисленных аспектов которых мы коснулись в предыдущих главах. Невозможно рассмотреть историю империи в целом, поскольку если здесь и устанавливаются некоторые постоянные связи с логикой самого режима, то от эпохи Августа до эпохи Феодосия проблемы трансформировались до такой степени, что полностью перевернулись. Однако в V в., несмотря на упадок и, казалось бы, приближающийся закат, было достигнуто осознание исторической роли Рима, не известное «золотому веку» империи. Чтобы подвести итог, достаточно лишь сравнить строки из Вергилия (Энеида, VI):
Tu regere imperio populos, Romane, memento;
hae tibi erunt artes, pacique imponere morem
parcere subiectis et debellare superbos [61]61
Римлянин! Ты научись народами править державно!В этом искусство твое, налагать условия мира,милость к покорным являть и смирять войною надменных.(Перевод С. Омерова)
[Закрыть]
– и фрагмент поэмы De reditu suo («О моем возвращении») Рутилия Намациана, галло-римлянина и префекта Рима (415 г.):
Fecisti patriam diversis gentibus unam,
profuit invitis te dominante capi
dumque affers victis proprii consortia iuris
urbem fecisti quod prius orbis erat [62]62
Для разноликих племен ты единую создал отчизну:Тем, кто закона не знал, в пользу господство твое.Ты предложил побежденным участие в собственном праве:То, что миром звалось, городом стало теперь.(Перевод М. Грабаръ-Пассек)
[Закрыть]
Эти тексты не нуждаются в долгих комментариях. Они представляют точку зрения на две различные ситуации, которые современники оценили, каждый по своим соображениям, как успех. В первой сквозит триумфальный дух тех, кто милостью богов покорил мир, тогда как вторая является в некотором роде признанием того, что весь мир был обязан Риму. В двух этих взглядах есть нечто общее: благо права, этого прочного фундамента, на который империя опиралась на всех этапах великого завоевания и наследия.
Теперь попробуем понять причины, по которым diversae gentes, [63]63
Различные народы (лат.).
[Закрыть]составлявшие единое целое, в определенный момент достигли независимости. Отвергли ли они дух того города, который идентифицировался с миром? Или, напротив, они продолжили римский опыт? Именно этот важный вопрос встает перед историком, погруженным в описание этих «ужасных лет», когда закат античного мира сменяется зарождением средневекового.
Дата 11 мая 330 г. является фундаментальной для истории древнего мира. Открытие новой столицы, города Константина, ознаменовало перемещение центра империи на Восток. По замыслу императора, вокруг этого центра при Флавиях должно было образоваться новое единство, что было равноценно поражению Запада и практически понижениюстатуса Европы. Константинополь, так же как столицы тетрархии, был искусственной столицей в том смысле, что его выбрали по чисто функциональным причинам стратегического и экономического порядка. Расположенный в точке соединения Европы и Азии, на средиземноморской оси, он обладал преимуществом как командный пункт, близкий, насколько это было возможно, к наиболее важным фронтам: балканскому и переднеазиатскому. С другой стороны, восточные регионы были более богатыми, поскольку меньше ощутили экономический кризис, начавшийся в III в. Кроме того, они были наиболее благоприятны для монетной реформы Константина, заложившей фундамент для золотого солида [64]64
Солид – золотая монета, введенная в 314 г., равнявшаяся 25 денариям.
[Закрыть]и обозначившей упадок буржуазии и пролетариата к выгоде аристократии, столь же могущественной, сколь узкой. С другой точки зрения, в плане религиозной политики, восточное окружение особенно устраивало Константина: на самом деле он осуществил революционный акт, признав христианскую религию и пожелав стать арбитром в вопросах веры. Новая столица оказалась центром монархии династического и харизматического типа. Восток одержал верх в то же самое время, когда связи с римским прошлым были разорваны. Вся восточная часть древнего мира сгруппировалась вокруг Константинополя, а римское единство стало лишь формальностью. Феодосий в 395 г. утвердил это положение, разделив империю между своими сыновьями. Однако – и это урок, из которого история должна извлечь выводы, – на политически распавшемся Западе вскоре показались новые силы, тогда как история Византии представляла собой лишь долгую и мучительную агонию.
Со времен Августа до эпохи Антонинов различия между Востоком и Западом игнорировались. Этот период, который называли «апогеем империи», казалось, укрепил единство; однако причины распада становились все более очевидными. Они имели социальные и культурные, а не этнические корни. Кризис разразился в то же время, когда на границах усилился натиск варваров и парфян. Именно в этот момент нарушение равновесия между ценой войны и продуктивностью экономики, по выражению Р. Ремондона, проявлялось драматическим образом. Финансовый крах выразился в стремительном обесценивании монеты, что повлекло огромный рост налогов: за несколько десятилетий благосостояние большей части провинций оказалось сведено к нулю. Государственное регулирование экономики, навязанное Северами, лишь частично исправило сложившуюся ситуацию, более того, примененные средства в глазах большинства выглядели как посягательство на свободу. В то же время власть приобрела военный характер, а легионы стали ее арбитрами. Впрочем, империя со времен своего основания, несмотря на все компромиссы, покровительствовала сословию всадников, легионам, народу и провинциям, сталкивая новые силы с сенаторской аристократией. Столкновения мнений и интересов, которые противопоставляли эти социальные слои, не регулировались; со временем рост сознательности отсталых слоев усилился под укрытием институционального единства. Несомненно, в 212 г. распространение права римского гражданства на всех свободных жителей империи упразднило все юридические привилегии, но это право очень быстро потеряло свою ценность, поскольку экономический кризис допускал лишь формальную свободу населения. Общее обеднение заставило колонов и мелких ремесленников смешаться в едином низшем классе, управляемом плутократической и бюрократической аристократией. Эта новая аристократия, которая выделилась в ходе реформ Диоклетиана, происходила из того среднего класса, который одновременно был воспитан Италией и провинциями и в который со временем войдут варварские элементы. «Провинциальная империя» в III в., когда августы были, по сути дела, представителями военного класса,проводит черту между ранней либеральной империей и поздней империей абсолютной, харизматической монархии. В этом неуравновешенном сообществе доступ к высшей власти становился объектом ожесточенного соперничества, это выражалось в появлении сторонников независимого управления, таких как Оденат в Пальмире и Латаний Постум в Галлии. Диоклетиан ясно осознавал эту ситуацию, когда разрабатывал систему тетрархии: децентрализация власти должна была решить двойную проблему защиты и сохранения единства империи. Его замысел политического и экономического обновления целиком ориентировался на принцип верности.
Но равновесие, достигнутое с таким трудом, оказалось непрочным. К экономическим, политическим и военным трудностям добавились столь же серьезные идеологические и моральные. Кризис, как это часто бывает, повлек за собой состояние длительной неопределенности, тенденцию к поиску спасения в иррациональности – религии и мистериях, что закрепило первенство Востока в духовной сфере, прежде чем завершилась ориентализация империи. Это массивное влияние проникло прежде всего в средние и низшие слои населения – философия, в дальнейшем также трансцендентная и мистическая, была уделом образованного меньшинства, – однако на Западе сохранялись и локальные культы доримского происхождения, более или менее модифицированные interpretation. [65]65
Истолкованием, интерпретацией (лат.).
[Закрыть]В обеих частях империи это был духовный реванш прошлого, которое казалось давно минувшим. Протоисторическим основам локальных европейских культов соответствовали очень древние пласты, прошедшие через религии и восточные мистерии. Этому смешению верований, которые давали беспокойным душам достаточно смутную надежду на бегство за пределы опасного, а иногда даже отвратительного настоящего, христианство противопоставило прозрачность своих догм и гуманистическую направленность, намного глубже проникая в реальность и проблемы времени, разоблаченные без всякой двусмысленности христианскими авторами. Труды апологетов христианства, особенно западных, приобрели революционный оттенок. Мистические религиозные культы имели абстрактный и эзотерический характер, тогда как христианское учение было основано на последовательной доктрине, открыто обращалось к менее благополучным, презираемым слоям и отвечало социальным проблемам. Противопоставление града Божия и человеческой организации, утверждавшее истинность идеального бытия вне материальной реальности империи, объясняет то, что Константин, по-видимому, нашел в христианской религии объединяющий фактор. Но в то же время, сделав христианство государственной религией, он лишил его того революционного облика, который в предшествующую эпоху – героический период – составлял значительную часть притягательной силы и авторитета этой религии. Впрочем, в течение долгого времени в Азии и Африке, в Испании и Галлии различные «еретические» интерпретации христианской догмы приобрели окраску национальных притязаний. Политика Константина была направлена на согласование различных тенденций и устранение тех поводов для разногласий, которые сохранятся несмотря ни на что и приведут к схизмам [66]66
Восточная схизма – конфликт, который привел к расколу христианской Церкви на Римско-католическую и Восточную (Православную). Первый раскол произошел в 863–867 гг. при патриархе Фотии. Окончательный раскол относится к 1054 г. Попытка примирения двух церквей в 1065 г. не привела к истинному единению. Западная (великая) схизма – конфликт, который расколол церковь и в ходе которого (1378–1417 гг.) римский престол одновременно занимали несколько пап. У истоков лежали двойные выборы 1378 г., когда выбору папой Урбана VI воспротивилось большинство неитальянских кардиналов и избрали француза Клемента VII. Последний в качестве резиденции остановился в Авиньоне. Ситуация осложнилась, когда в Пизе был избран третий папа – Александр V (1409 г.), которому в 1410 г. наследовал Иоанн XXIII. Наконец, на соборе 1414–1418 гг. было принято решение о низложении трех пап, что спровоцировало созыв нового конклава и выбор единственного папы – Мартина V (1417 г.).
[Закрыть]одной из исторических особенностей христианства бйла, несомненно, возможность адаптации к потребностям различных слоев: оно было настолько гибким, что многочисленные народы могли создавать каждый свое собственное христианство. Впрочем, этот факт скорее не причина, а следствие исторической ситуации, симптомы дезинтеграции накануне всеобщего принятия христианства были уже очевидны. Культурное и идеологическое преобладание Востока начало проявляться при Септимии Севере. Хотя история поздней империи не может ограничиваться своего рода восточным детерминизмом, он вызвал расслоение между двумя частями римского мира, которое постепенно усиливается, по мере того как завоеванные народы, как на Востоке, так и на Западе, развиваются в осознании самих себя благодаря возможностям, предоставленным зависимостью от Рима.
Этот феномен, который мы затронули в отношении Европы, равным образом проявляется в Африке и на Востоке, где благодаря римской политике эллинизм наконец проник в среду, едва затронутую эпохой великих эллинистических монархий. Именно это культурное развитие, происходившее в течение многих веков, позже позволилоразным народам подняться до ранга главных действующих лиц истории. Отныне они становятся различными, по мере того как утверждаются присущие им черты. Вслед за нивелированием, характерным для полутора веков империи, проявилось общее стремление народов к собственной автономии. Дополнительным «ферментом», как мы видели, стали иммиграции, особенно в Европе и Африке. Но они заставали уже сложившуюся среду.
* * *
Вопрос Иллирии в эпоху Стилихона хорошо показывает, что восточная часть (pars Orientis)подчиняла своим интересам общие потребности в защите. Два мира отныне следовали каждый своей собственной дорогой, Восток по отношению к Западу осуществлял своего рода опеку. Таким образом, внутри усиливался раскол, первичные причины которого мы проанализировали. К этим причинам добавилось влияние новых элементов. Было бы исторической ошибкой приписывать тому или иному отдельному фактору упадок римского единства, будь то вторжение варваров, победа христианства, крах экономики, бессилие армии горожан или превосходство Востока. В реальности именно стечение многих обстоятельств объясняет данный исторический феномен.
Прежде всего, не следует переоценивать значения собственно пережитков: на самом деле национальное государство, одновременно с этнической и языковой точки зрения, существовало только у кельтов Арморика. Оно представляло собой последнее проявление единой кельтской цивилизации в наименее романизированной части Галлии. Армориканское государство обязано своей автономией, впрочем непродолжительной, чрезвычайному расцвету кельтской культуры, которая равным образом задевала часть Британии и Гибернии (Ирландии). Его образование кажется, помимо прочего, связанным с кризисом центральной власти в древнем галло-римском пространстве. Этот довод объясняет появление «королевства» Эгидия и Сиагрия, в котором сохранялась римская структура. Сиагрий, вероятно, был знаком с правом Византии; наиболее примечательный аспект его политики – попытка «культурного завоевания» германцев и заключение соглашения между ними и галло-римлянами, попытка, которая соответствовала эпохе и которой, возможно, воспользовался победитель Сиагрия – Хлодвиг. Но армориканское государство, так же как галло-римское государ-ство Сиагрия, было анахронизмом: решающими стали новые исторические элементы.
Удивляет то, что никакая сила не смогла подняться в Италии, для того чтобы попытаться исправить ситуацию. В этой стране, где в течение веков несоответствия сглаживались под влиянием римской цивилизации, ни одно проявление государства не вызвало проблем, между цивилизацией и каждым городом не возникло никаких промежуточных образований. Именно варварские группы впервые принесли в Италию концепцию территориального государства, которую реализовали готы в V–VI вв. То же самое было в Испании, древней романизированной провинции, которая проявляла ту же пассивность, столкнувшись с вторжением вестготов, свевов и вандалов. Но в Испании, как и в Италии, двойственность романизированных слоев и вновь прибывших сохранялась долгое время. В Испании, так же как в Галлии, в эпоху империи уже проявились националистические «ферменты» в местных интерпретациях, различные христианские конфессии и оппозиция официальной Церкви легко приобрели политический оттенок. Достаточно вспомнить донатизм, который свидетельствует, впрочем, о важности африканской среды в цивилизации Западной Европы в период поздней империи. Но эти тенденции практически исчерпались, когда появились королевства, которые называют романо-германскими: готов, бургундов и вандалов. Эти королевства политически сохранили принадлежность к арианскому вероисповеданию, со временем приняли римско-католическое, которое, разбитое имперским единством, все же станет «общим знаменателем» для римлян.
Наконец, новые события, вызванные Великим переселением, поразят Европу в эпоху, характеризуемую скорее в культурном отношении, нежели в политическом, когда вот-вот должны были проявиться национальные тенденции; народы переселенцев и завоевателей объединялись, порой неожиданным образом, этими тенденциями согласно собственным склонностям и организовали соответствующие территориальные образования. Античность знала только две формы государственного объединения: город и империю. Приблизительно к началу Средних веков мы относим рождение третьей формы – национального государства.
В этом участвовали многие факторы: понятие государства, которое постепенно усвоили варвары, в своей основе было наследием средиземноморских цивилизаций; что касается форм, они были заимствованы из недавнего прошлого Римской империи и в Константинополе. Их склонность к раздельному сосуществованию, противоречащему имперской универсальной концепции и эффективному нивелированию различий, была связана, напротив, с наследием континентального мира и новых германских племенных образований.
Одним из наиболее заметных симптомов затянувшегося кризиса римской Европы является лингвистическая эволюция. Свидетельства, впрочем достаточно поздние, новых романских наречий показывают тем не менее, что начало этого процесса предшествовало миграциям. Официальная и литературная латынь, как мы видели, никогда не была разговорным языком ни для жителей провинций, ни для населения Италии. Существование художественной культуры, и особенно литературной элиты, контрастировало с недостаточным культурным развитием масс, долгое время остававшимся фактором разъединения. Литературный латинский язык еще сохранялся в школах, прежде чем действительно стал мертвым. С этой точки зрения искусство, особенно фигуративное, удивительным образом отразило эпоху через параллелизм и связь с исторической реальностью. Что касается литературных свидетельств, все они происходят из элитных кругов и школ. Художественные свидетельства, с другой стороны, несут на себе отпечаток экономических условий: вот почему они становятся редкостью в эпоху, когда они более всего необходимы нам в качестве ориентира.
* * *
Перемещение столицы на Восток увенчало это положение вещей. Благодаря своей многовековой традиции Восток, все еще представленный сложным этническим смешением, был более единообразным с культурной точки зрения, более приспособленным к подчинению абсолютной монархии. Запад, который начиная с протоисторической стадии очень быстро интегрировался в экуменическое сообщество, сохранял множество зачатков, оставшихся незадействованными и способных возродиться. Исторически романизация привела к ускорению цивилизационных процессов у различных покоренных народов, предоставив им возможность развиваться и не принуждая их принимать заранее установленные решения. В IV в. к последствиям этого процесса добавилось недовольство и общий беспорядок; теперь в небольших политических образованиях, подобных империи галлов, искали уверенность и безопасность, которые больше не находили в универсальном организме.
Образовавшейся в результате расщепления римского мира Византийской империи вскоре суждено было стать государством скорее азиатским, чем европейским, и его языком будет греческий. По сути, «империя римлян» было лишь название. Ее греческие основы на Западе осознали очень рано. Но не стоит забывать, что десять веков миновало со времен классической цивилизации и что собственно эллинистическая традиция не была ее прямым продолжением. Присутствие в империи азиатских сообществ и групп, древние традиции которых были пробуждены длительными контактами с восточной цивилизацией парфян и Сасанидов, изменило жизнь. Греческий язык и эллинистическая культура зачастую позволяли только внешне скрыть мир, оставшийся глубоко чуждым. Тем не менее культурные проявления – можно сказать, культурные привычки – были многочисленны, развиваясь в основном в крупных центрах, каковыми по-прежнему были города. Религиозные войны, которые долгое время потрясали византийское государство и отличались невиданной на Западе жестокостью, свидетельствуют о сближении в христианской среде эллинистического рационализма, одновременно логического и демагогического, и восточного детерминизма. Древняя восточная концепция господства божественного права должна была проникнуть в христианскую империю; как только появилась возможность допустить, что монарх имеет божественное происхождение, он стал главой церковной организации и арбитром в религиозных вопросах. Константин подал тому пример, созвав в 325 г. Никейский собор. Верховенство светской власти над духовенством было закреплено в момент иконоборческого кризиса. Константин хорошо представлял доводы, действовавшие в пользу восточной столицы, но он, конечно, не предвидел, что его политика, направленная на объединение, разрушит романское единство. Возвращение к децентрализации после смерти Феодосия I привело к окончательному разделению, которое день за днем становилось все заметнее. Отношения между восточной и западной частью империи (pars Orientisи pars Occidentis), которая формально еще провозглашалась единой, были не намного проще, чем отношения между двумя империями или разными странами. В действительности Константинополь рассматривал западную часть как зависимое пространство и использовал для ее ослабления соперничество между предводителями варваров, ставших решающим элементом как во внутренней, так и во внешней политике. Перемещение на Восток политического центра ввергло Запад в анархию, тогда как прежняя столица приняла на себя новую роль идеологического центра западного христианства. В то время как на Востоке иерархия Церкви была подчинена монархам, на Западе отсутствие действительной политической власти повысило авторитет римского епископа.