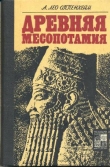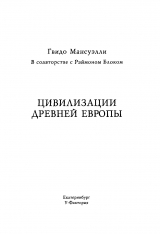
Текст книги "Цивилизации древней Европы"
Автор книги: Реймон Блок
Соавторы: Гвидо Мансуэлли
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 36 страниц)
При этом Рим играл роль не просто катализатора сторонних идей, он осуществлял синтез, благодаря которому развитие и обновление продолжалось несколько веков. Это открывает истоки римского превосходства, которое проявилось сначала в Лации, затем в Центральной Италии и, наконец, во всей Италии.
Хотя ожесточенные войны долгое время сталкивали их с этрусками, римляне всегда добровольно признавали свой долг перед ними, иногда очевидно преувеличивая его, но это легко объяснить. Римская эрудиция развивалась в эпоху, когда сильное влияние оказывала эллинистическая культура, однако римляне плохо относились к грекам, которые искали в собственном прошлом и в своем интеллектуальном превосходстве компенсацию политического упадка. Значит, мы должны искать истоки римской цивилизации в Италии. Поскольку римляне не могли, за неимением документов, восстановить свое собственное прошлое, они не отказывались признавать за этрусками авторитет и престиж ведущей нации. Было создано нечто вроде мифа об Этрурии. Мы уже намекали на некоторые сферы, в которых римляне ощущали себя должниками этрусков. Они были обязаны этрускам за обычай основания городов, разделения территорий, за искусство предсказания воли богов. Последнее было полностью заимствовано у этрусков, хотя примитивная латинская религия земледельческого, довольно отсталого характера, весьма отличная от религии этрусков, изначально плохо поддавалась этому влиянию. Римляне, впрочем, использовали это знание в практических и политических целях и организовали свои города оригинальным способом: прямоугольный план – наследие Средиземноморья, которому этруски придали религиозное значение, – у римлян принял военный характер; в колониях благодаря четырехугольному периметру можно было наблюдать извне за внутренним порядком. Более того, в центре новых городов форумобразовывал ансамбль, отвечавший различным потребностям каждого сообщества. Действительно, форум был одновременно религиозным, политическим и экономическим центром; он также использовался для зрелищ; капитолий, возвышавшийся с одной из сторон, являл собой главное сооружение, но выполнял не только религиозную функцию. Эту неспособность разграничить, разделить разные аспекты или цели жизни также считают особенностью римского гения.
Долгое время обсуждали – и еще долго будут обсуждать – связи между этрусским храмом и римским. Конечно, как показывает традиция, сЬязанная с капитолийским храмом Юпитера, этот тип здания должен был существовать в Этрурии еще до того, как греческое влияние трансформировало его. Недавние исследования, в особенности исследование Л. Банти, доказывают, что три целлы здания соответствуют адаптации этрусской техники к религиозным потребностям римлян; кроме того, высокий фундамент, подиум, просторные, массивные формы первоначального римского храма, который называют тосканским, также обнаруживаются в этрусском храме; то же самое наблюдается в декоре из обожженной глины – simulacra pictilia, – образах, представлявших богов, которые в эпоху Катона Старшего [28]28
Марк Порций Катон Старший Цензор (234–149 гг. до н. э.), римский политический деятель, консул (195 г. до н. э.), цензор (184 г. до н. э.), радикальный сторонник возрождения пошатнувшихся под греческим влиянием суровых древних римских традиций, идеолог политической партии, выступавшей за полное уничтожение давнего соперника Рима – Карфагена.
[Закрыть]дискредитировали интеллигенцию, пропитанную эллинистической культурой. Нет сомнений, что изначально именно этруски научили римлян придавать человеческие формы божествам, но мы забываем, что римляне на первых порах связывали своих божеств с мифами, заимствованными из греческих легенд в эллинистическую эпоху. К заимствованиям из этрусского искусства относится, кроме того, введение тосканского ордера, упомянутого выше. Витрувий приписывал им также изобретение атрия– центральной части римского дома, – крыша которого над имплювиемимела отверстие.
Хотя слово зилати переводят как претор, [29]29
Одна из римских магистратур. Главная роль преторов состояла в руководстве судопроизводством. Они определяли процедуру суда, судили иностранцев, председательствовали в чрезвычайных трибуналах. Имели право военного командования, созыва сената комиций, издания законов. Им доверялось также управление провинциями.
[Закрыть]этрусские магистратуры, впрочем плохо известные, практически не соответствуют римским. Как представляется, коллегиальность магистратов была институтом собственно римского происхождения. Она неизвестна другим цивилизациям Античности. В Италии, у самнитов, верховный магистрат, meddix tuticus,имел коллегу, meddix minor,но если говорить о магистрате второго ранга, это был скорее magister equitum [30]30
Начальник конницы» – экстраординарная должность, помощник диктатора, избираемый на полгода в момент грозящей государству чрезвычайной опасности. Несмотря на название, его функции не исчерпывались лишь командованием кавалерией. Фактически в период диктатуры начальник конницы являлся вторым лицом в республике. То есть известная тождественность его функций с обязанностями самнитского meddix minor вполне очевидна.
[Закрыть]приближенный к римскому диктатору. Нам ничего не известно об организации магистратур в этрусских городах, которые не имели царя. Однако знаки должностных отличий, подобные фасциям ликторов, составляли элемент этрусского церемониала и были, возможно, наследием монархической традиции. То же самое относится к триумфу и toga picta– пурпурной тоге триумфатора, расшитой золотом: торжественные кортежи появляются в искусстве только в погребальном репертуаре и лишь в более позднюю эпоху, но они отражают, несомненно, обычный, реальный факт. И наконец, обычай шествия, характерный для церемонии триумфа, благодаря которому появилась арка, соотносится с этрусским погребальным культом. Эти связи вызывают большой интерес еще и потому, что римляне интерпретировали эти концепции и формы согласно своему духу. Их колебания между этрусской традицией и Сибилловыми книгами, тем более что они не подвержены влияниям, показывают характерную черту римской религиозной мысли – стремление ничего не оставлять без внимания, даже вне привычных форм, что приводило к некоторому синкретизму, совершенно чуждому, казалось бы, концепциям этрусков.
Что касается права, позиция Рима, по-видимому, была полностью независима. По правде сказать, нам почти ничего не известно об этрусском праве. Законы XII таблиц (451–450 г. до н. э.), которые восхищали Цицерона как памятник юридической мудрости и которые коррелировали с законами Солона, [31]31
Солон – реформатор законодательства и государственного устройства Афин. В частности, по инициативе Солона было отменено долговое рабство, введен, выражаясь современным языком, суд присяжных, все население было разделено на имущественные страты, согласно которым определялись права граждан и их обязанности (прежде всего по несению военной службы) перед государством.
[Закрыть]хотя и появились на полтора столетия позже, кажутся крайне примитивными. Известно, что магистраты кодифицировали их под давлением плебса, следуя в первую очередь греческим законам, в частности законодательству западных греческих колоний, консервативный характер которого привел к отставанию в политическом и социальном развитии по сравнению с Афинами.
Но законы XII таблиц не стремились ни зафиксировать конституцию, ни установить политические отношения, это был лишь гражданский и уголовный кодекс. Они ограничивались изложением правил и обычаев. Их суровость отражала жесткую строгость mos majorum [32]32
Нрав, закон предков (лат.).
[Закрыть]этих крестьян-солдат, добродетелей, немного идеализированных позже, которые лежали в основе римской морали. При этом поражает, что народ, которому нравилось обновлять правовые институты, даже новые, придавал некодифицированным принципам большее значение, чем писаным законам. Так, в начале римской правовой деятельности весьма обширный материал был преднамеренно изъят из законодательства. Эта гибкость, связанная, нужно сказать, со стойкими консервативными тенденциями, была одной из сильных сторон римлян; долгое время она позволяла им избегать твердых позиций, возведенных в ранг принципов, и адаптироваться к различным ситуациям как внутри, так и вне своего общества.
В недрах города, таким образом, право сложилось в процессе расширения права, первоначально характерного для среды патрициев. Типично, что обновление происходило на протяжении всего дальнейшего процесса эволюции Рима. Этим объясняется значение, придаваемое римлянами индивидууму, и особый оттенок, который приобрело у них понятие свободы. В этом патриархальном обществе грозная власть была сосредоточена в руках dominusи pater familias. [33]33
Dominus – господин ( лат.); в данном случае – глава патриархальной семьи; pater familias – отец, глава семейства (лат.).
[Закрыть]Магистраты частично наследовали эту силу и власть некоторых из них – власть почти абсолютную. Триумф чуть ли не обожествлял победителей, возродился культ предков, и возводились почетные статуи магистратов, погибших на службе государству.
Что касается почетных памятников, состоявших из статуи и надписи, которые были связаны не с погребением, а явно с гражданскими мотивами, они восходят к более раннему периоду. Права индивида резюмировались в понятии libertas, [34]34
Свобода (лат.).
[Закрыть]которое абсолютно оригинально и не должно смешиваться ни с греческой eleutheria,ни с современным понятием демократии. Оно соединяло права и привилегии, которые в реальности принадлежали только ограниченной категории, по крайней мере в эпоху архаики; это был удел аристократии, прерогатива которой ревностно оберегалась. Ничего подобного мы не обнаруживаем у италиков, во всяком случае при нынешнем состоянии знаний. Зато можно сравнить свободу, которой обладали римские женщины, со свободой, знакомой этрускам, той самой, которая удивляла греков и о которой они старались не говорить.
Как видно, в культурном плане Рим не претендовал на роль ведущей нации. Однако он осознавал свое превосходство в правовом и организационном отношении. Фактически он преуспел там, где другие потерпели неудачу. В основе Рима было не что иное, как город-государство – полис. Но по мере того как его могущество разрасталось, возникла проблема постоянного поддержания сплоченности завоеванных земель. После заключения на равных началах договора с латинскими городами Рим заставляет их признать себя главой конфедерации, к которой он присоединил смежные территории. Когда он расширил свои завоевания, аннексия перестала быть возможной. Именно тогда Рим прибегнул к колонизации и договорам. В конечном счете все было регламентировано соглашениями. Напомним, что греческие колонии, однажды организованные, становятся независимыми от метрополии. Этрусская колонизация в Кампании и Цизальпинии – колонизация территориальная, а не морская – носила, возможно, тот же характер. Римляне заимствовали у этрусков систему территориальной колонизации, но все их колонии получили один статут – lex data, [35]35
Дарованный закон (лат.).
[Закрыть]который определял их связи с Римом, то есть права, которые получали или сохраняли колонии. Это и единые права для граждан-солдат собственно римских колоний, каждая из которых была настоящим маленьким Римом, расположенным на покоренной территории, [36]36
Муниципии римского права, то есть города, жители которых пользовались полным правом римского гражданства на основе самоуправления и под контролем консулов и находились под непосредственной властью Рима.
[Закрыть]и более ограниченные права для жителей латинских колоний. [37]37
Муниципии латинского права – их жители пользовались только гражданскими, но не политическими правами. Назывались также префектурами, так как правосудие в них осуществлялось присланными из Рима префектами.
[Закрыть]Эти колонии были одним из средств, используемых Римом для сохранения своего положения на завоеванных землях и укрепления экономического влияния. Но, организуя в инородной среде очаги римской жизни, Рим равным образом укреплял свою власть, договариваясь с завоеванными регионами. Безусловно, в этом случае устанавливались различные типы соглашений или союзов – foedera,но в любом случае они предполагали взаимные обязательства, обеспечивавшие двустороннюю связь. Союзники – foederati, socii– в основном сохраняли свою политическую индивидуальность и институты, а значит, свою свободу на собственных территориях, но зато они больше не были независимыми в своей внешней политике. Рим всем гарантировал безопасность, но взамен требовал контрибуции в виде людей, денег, продовольствия. Римских завоевателей часто упрекали в лишении народов их свободы: все завоеватели действовали одинаково, но мало кто навязывал завоеванным территориям порядок, из которого потом сам извлекал выгоду. Разумеется, римское налогообложение было жестким, репрессии по отношению к «мятежникам» безжалостными, но эта суровая система, которая требовала жертв, особенно в первое время, позволила городам и народам Италии мирно развиваться под римским покровительством. Она способствовала также экономическому и культурному сотрудничеству: циркуляция продукции и идей внутри полуострова стала более широкой, если не более быстрой. Древние исторические источники рассматривали эту систему прежде всего с военной точки зрения. Современные ученые вернулись к изучению экономических отношений, этого мощного средства объединения. В действительности римляне монополизировали экономическую жизнь Италии; хотя изначально они были не особенно компетентны в управлении экономикой государства, они вынуждены были стать арбитрами итальянской экономики, особенно после того, как римская монета, распространившись по всей Италии, уничтожила или вытеснила все другие автономные монетные системы. Сельское хозяйство контролировалось и стимулировалось колониями; кроме того, расширялось ager publicus– земли, принадлежавшие завоеванной территории, которые переходили в собственность римского народа. Торговля и индустрия, в которых патриции в принципе отказывались участвовать, фактически контролировались ими и сословием всадников, и развитие этих сфер стало одной из важных проблем политической жизни Рима. Увеличение общих интересов сопровождалось укреплением правовых отношений и военного союза; в результате образовалось практически единое италийское государство. В силу названных обстоятельств вся Италия вошла в это единство, которое получило название «республика римского народа» – res publica populi Romani.
Особенность этого процесса заключалась в уважении римлян к местным традиционным устоям. Романизация не была обязательной-.колонии, очаги романизации, жили своей собственной жизнью; с другой стороны, союзники и подданные сохраняли свой язык, свои нравы и религию. Отметим еще раз, что римляне не стали спешить. Со временем последствия проявились сами собой: положение римского гражданина стало рассматриваться как необходимая цель, своего рода награда, компенсация, которую можно получить за лояльность и дисциплину. Это была идеальная система, которая должна была привести к романизации; постепенно локальные особенности тускнели, различия стирались. Распространялся латинский язык; из официального языка он превратился в национальный. Цивилизация стала единообразной, но не только италики подражали Риму; в равной степени происходило обратное движение. Этот обмен упрощался тем, что культурный уровень у завоевателей и завоеванных был примерно одинаковым. Впрочем, Рим, имеющий древние италийские корни, никогда не упускал случая обогатиться опытом других народов, и это касалось не только формы шлема или меча. Такое экстраординарное начало, которое, возможно, оставило наиболее оригинальный след в этой цивилизации, позволило ей в результате тщательного и внимательного отбора ценностей осуществить синтез всех италийских традиций. Подобным образом сформировались основы духовного единства Италии, а Рим подтвердил свою роль столицы по отношению к другим городам полуострова. Так постепенно складывался крепкий союз, который волновал его врагов и которым объясняется финальная неудача Пирра и Ганнибала после всех их громких побед. Оба были великолепными военачальниками, обладали значительно более высокими стратегическими и тактическими способностями, чем противостоящие им римские полководцы, но они недооценили силу римской организации, испытанной временем.
Живым символом этого победного сопротивления политической организации военному гению стал во время Второй Пунической войны (219–201 гг. до н. э.) диктатор Фабий Максим, получивший прозвище Кунктатор – Медлитель. Во II в. до н. э. твердость римской республики засвидетельствована греческим историком Полибием, наиболее внимательным и критичным наблюдателем той эпохи. Он объяснил успехи Рима его государственным устройством, в котором видел пример тех смешанных политических систем, которые Аристотель считал совершенными, потому что они были основаны на лучших принципах простых систем – монархии, олигархии и демократии. В своем восхищении Полибий идет еще дальше: наблюдая за этим небольшим крестьянским народом, практически достигшим господства над всем средиземноморским миром, он выдвинул знаменитую теорию о провиденциальном значении Рима, которую очень быстро приняли эллинизированные римляне.
Однако не стоит переоценивать влияние этой мистической концепции на римскую политическую идеологию и на самих квиритов, слишком реалистичных, для того чтобы с полной серьезностью предаваться фантазиям подобного рода. Практически не склонные к умозрительным построениям и формулированию историософских систем, римляне пытались мыслить – в философском смысле слова – только под воздействием эллинизма. Римская экспансия на юг Италии и завоевание Великой Греции отмечают в истории римлян новую точку отсчета.
К концу III в. до н. э. за счет государства были построены новые дороги – viae publicae, [38]38
Дороги народа (лат.)
[Закрыть]– две основные имели южное и северное направление. [39]39
Первая шла из Рима через Капую в Кампанию и далее, в Тарент и Брундизий; вторая вела к Аквилее и Аримину.
[Закрыть]Та, что стала первым открытым путем на юг, носила имя Аппия Клавдия Цека, [40]40
Аппий Клавдий Цек (Слепой) – выдающийся римский государственный деятель, строитель не только первой римской дороги, но и первого водопровода, по мнению древних – основатель римского правоведения и латинской грамматики. В старости ослеп, за что и получил свое прозвище.
[Закрыть]цензора 312 г., который воспротивился принятию мира, предполагавшего передачу Кампании Пирру. Другая была названа в честь Гнея Фламиния, который командовал первой римской экспедицией на северный берег реки По после разгрома галлов при Теламоне в Этрурии (225 г. до н. э.). Эти дороги, которые стали стратегическими путями, показывают два направления, в которых развивалась, беря начало в Центральной Италии, новая экспансия Рима. Война против Тарента завершилась в 272 г. до н. э., а в 222 г. и Северная Италия оказалась частично оккупированной. Накануне нападения Ганнибала Рим стал господином всей Италии до самых Альп.
Эти два предприятия имели различные последствия. Последствия экспансии на юге сказались незамедлительно. Тарент и другие города Великой Греции, ограниченные условиями союза, пробудили склонность римлян к морской торговле и морскому господству, которая проявилась еще во время первого договора с Карфагеном. Завоевание Южной Италии, а затем Сицилии (264–212 гг. до н. э.) [41]41
Сицилия была признана римской сферой влияния еще по мирному договору с Карфагеном в 241 г. до н. э. Приводимая автором дата (212 г. до н. э.) связана не с покорением собственно всей Сицилии, а со взятием римлянами Сиракуз, поддержавших Карфаген во Второй Пунической войне.
[Закрыть]превратило Рим в морскую державу. С Апеннинского полуострова он мог контролировать одновременно Запад и Восток. Рим вынужден был направить свои войска и силы своих италийских союзников на поля сражений, простиравшиеся от Испании до Передней Азии и от Галлии до Африки. В связи с этим развивалась сеть дипломатических отношений, охватившая почти весь древний мир. С другой стороны, контролирование городов и народов, которые ассимилировали добрую часть греческого искусства и культурной мысли, оживило древние греко-латинские культурные отношения. Упадок побежденной Этрурии лишил этот древний очаг цивилизации всякой способности влиять на Рим.
Теперь, наоборот, Рим навязывает Этрурии некоторые особенности, например в сфере погребального искусства: прежде всего это проявляется в портретах, мемориальных изображениях и надписях на гробницах и саркофагах. Этрусская аристократия романизировалась, вопреки враждебной настроенности некоторых групп этрусского населения, оскорбленных этой зависимостью. Во всяком случае, принятие греческой культуры стало для Рима политической необходимостью: это был способ выйти за пределы италийской среды, включиться в международную жизнь, расширить отношения с миром, где в культурном плане господствовал эллинизм. В ходе экспансии Рим воспринял школу греков. Ее представителем был родившийся в Таренте Ливий Андроник, который создал первые образцы римской литературы. Выходец из Кампании Гней Невий сложил первую национальную поэму, тогда как Квинт Энний, полугрек из Рудии, используя гомеровский гекзаметр, воспел историю Рима в своих эпических «Анналах». Комедия и трагедия – palliataи cothurnata,заимствованные из Греции, – распространили литературную культуру Греции II в. до н. э. в народной среде. Однако в просвещенной среде столицы вспыхнула борьба между защитниками национальной традиции и сторонниками эллинизации. Имена Катона Старшего и Сципионов фигурируют во всех воспоминаниях современников. За этой культурной и литературной дискуссией в действительности скрывался глубокий политический и социальный кризис, который задевал mos majorum– сами основы традиционных отношений между гражданами и государством. И вновь речь шла о болезни роста.
В ходе Второй Пунической войны союзные отношения, которые связывали Ганнибала и Филиппа V Македонского (221–179 гг. до н. э.), втянули Рим в войны на Востоке, так же как чуть раньше открытие в Испании «второго фронта» против карфагенян подтолкнуло его к завоеванию Западного Средиземноморья. Эта двойная экспансияпридала новое значение, новый масштаб завоевательной политике Рима. Здесь кстати пришелся человек, который в одной-единственной перспективе объял всебезграничное пространство новых проблем, – Сципиор Старший, первый «универсальный человек» римской истории. Победив Карфаген после установления римского господства в Испании, он стал инициатором новой политики в отношении Востока. Опорные пункты империи оказались распространены повсеместно. Сципион стал также, в отличие от Катона и традиционалистов, убежденным сторонником культурной интеграции Рима с эллинизмом. Но эти перемены – novae res– во всех отношениях путали римский господствующий класс, который испытывал отвращение к радикальным мерам. Его политика, чередующая осмотрительность и уступки, крестьянская недоверчивость натолкнулись теперь на мощный прогрессистский импульс. Дерзость Сципиона противостояла выжидательности Фабия. Однако противоречие между этими двумя позициями не было непримиримым. Превосходство эллинистического мира заключалось прежде всего в активности духа, а превосходство римского – в способности к организации. Нужно было синтезировать эти начала в мировом масштабе. Для создания новых необходимых отношений римляне воспользовались длительным опытом, приобретенным Италией. Опыт Великой Греции в целом соответствовал лишь «домашней» форме эллинизации, но в результате войн на Востоке она приобрела более широкий и ясный характер, став мощным катализатором грандиозного синтеза, который приведет к созданию империи. Рим стал пропагандистом эллинизма на Западе, одновременно осуществляя культурную интеграцию на своем собственном пространстве. В Италии это особенно ощущалось в искусстве; изменения проявились в Этрурии, Кампании, Лации и в самом Риме, где было создано наиболее значительное собрание произведений классического и эллинистического искусства. Кроме того, влияние Греции, адаптируясь, впрочем, к своеобразию и потребностям каждой культурной среды, находило здесь свой способ выражения.
Именно во II в. до н. э. прорисовывается также историческая роль Рима в отношении Европы. Конечно, характер и масштаб римской экспансии в этом направлении показывают, что приоритетным в плане завоевания и установления гегемонии пока еще остается восточное направление. Но захват Северной Италии, окончательно закрепленный итогами Второй Пунической войны, поставил Рим на исходные позиции для подчинения континентальных территорий, так же как завоевание Сицилии в свое время дало импульс для покорения Средиземноморья. Захват Испании после долгих и кровавых военных кампаний повлек за собой завоевание юга Галлии, необходимое для создания непрерывной полосы владений от Пиренеев до Альп. На востоке, напротив, наступление в Иллирии ограничилось запугивающими экспедициями и разгромом пиратских гнезд. [42]42
Изрезанное морское побережье Иллирии в древности было излюбленным пристанищем для многочисленных пиратов. Лишь в I в. до н. э. Гнею Помпею удалось в результате масштабной военной экспедиции на время покончить с этой угрозой.
[Закрыть]От Галлии до Норика и Паннонии при помощи дипломатии пытались сохранить равновесие, необходимое для безопасности Италии и ее западных провинций. Европейская роль севера Италии, по-видимому, оставалась еще недостаточно ясной, даже для главных действующих лиц римской политики. Мы к этому вернемся. Этот регион покорялся мирно, в течение полутора веков, осуществляя полную интеграцию, благодаря которой в I в. до н. э. снискал гражданское право и похвалу Цицерона. Это позволит ему впоследствии очень быстро стать связующим звеном континентальной экспансии, которая развивается с конца I в. до н. э.
Последние акты италийской унификации сопровождались новым, крайне опасным кризисом, который достиг кульминации в Союзнической войне 90–89 гг. I века до н. э. На самом деле уже во II в. до н. э. термин «римский гражданин» по большей части потерял свою изначальную ценность. Римская олигархия продолжала искусственно дистанцировать «римлян» от «италиков». Союзническая война, которая стала следствием войн на Востоке, оказалась связана с борьбой за права италиков, колонистов и союзников, на плечи которых всей тяжестью ложились непрерывныевойны Рима. Проблема пролетариата, которая волновала греков, была тесно связана с юридическими и экономическими требованиями народов Италии. Завершение Союзнической войны военной победой римлян и вместе с тем признанием за италиками их прав доказывает, что Италия не могла существовать без Рима, а Рим – без Италии. Чтобы создать свою республику в Корфинии, [43]43
Корфиний – главный город Самнии.
[Закрыть]восставшие взяли за образец римскую конституцию, – это показывает, что они в первую очередь пытались подражать римской организации, а не противостояли ей. Название «Италия» тогда впервые приняло политическое значение, однако оно обозначало пока лишь некоторые регионы центральной части полуострова. Союзническая война отметила последний кризис организации Италии; после 89 г. до н. э. вспыхивают новые войны, но речь шла об отражении во всей Италии соперничества между политическими партиями Рима. Организация, созданная в Северной Италии Помпеем Страбоном, [44]44
Гней Помпей Страбон (ум. в 87 г. до н. э.) – консул (89 г. до н. э.), полководец в Союзнической войне, отец Гнея Помпея Великого.
[Закрыть]развитая Цезарем, а затем Октавианом, лишила ее статуса провинции и завершила объединение Италии пожалованием права римского гражданства. Концепция гегемонии одного города канула в лету одновременно с поражением римской аристократии. Начавшись с военных действий, это объединение завершилось социальной политикой. В эпоху Августа Страбон мог сказать, что весь мир стал римским, однако некоторые именуются этрусками, умбрами, лигурами, инсубрами. Это замечание, отражающее ситуацию в Цизальпинии, можно отнести ко всему Апеннинскому полуострову. За некоторыми исключениями провинции во времена Августа брали названия, принадлежавшие наиболее значительным народам до римского завоевания. Не опасаясь сепаратизма, политика и даже пропаганда империи могли отныне взывать к традициям доримского прошлого. Тогда как Тит Ливий в начале своей «Истории» воскрешал в памяти кровожадность римлян и верность венетов, «Энеида» Вергилия воспевает роль италиков в завоевании Лация Энеем и подводит итог обширному наследию италийских, греческих и римских легенд. Накануне сражения при Акции [45]45
Акций – город и мыс в Аркании, где в 31 г. до н. э. Октавиан нанес сокрушительное поражение Марку Антонию и Клеопатре, фактически положив конец долгой эпохе гражданских войн в Римском государстве.
[Закрыть]Италия подтвердила свое идейное единство клятвой верности Октавиану, которую принес каждый из ее городов. Сам образ действий объединенной Италии показывает, что нужно понимать в эту эпоху под Италией – не одну нацию в современном смысле слова, но плотную сеть городов, пользовавшихся единым правом; это было «расширение» столицы, благодаря которому Италия формировала географическую и политическую базу, необходимую для управления империей.
Повторим еще раз: история Рима – это история длительной интеграции. Это одна из составляющих римской оригинальности. С давних пор римляне в собственном смысле слова, то есть те, кто был рожден в Риме, были лишь меньшинством. В I в. до н. э. кризис старой аристократии привел к смене господствующего класса; новые родовые имена утвердились наряду с прежними. Первый век до н. э. стал эпохой «новых людей», которые не имели славы именитых предков. Сначала италики были обеспечены вспомогательными войсками, затем они поднялись до литературных и художественных достижений; наконец, при Флавиях они получили верховную власть. Марий, Помпей, Страбон и его сын Помпей Великий, Цицерон были италиками, так же как Азиний Поллион [46]46
Гай Азиний Поллион (76 г. до н. э. – 5 г. н. э.) – народный трибун (47 г. до н. э.)> консул (40 г. до н. э.), сторонник Цезаря в гражданской войне, наместник Дальней Испании (44–43 г. до н. э.), сторонник Цезаря, присоединившийся к Антонию, затем сторонник Октавиана. Поэт и оратор.
[Закрыть]и Меценат, не говоря уже об офицерских кадрах в армии и должностных лицах в провинциях. Римские политические деятели, за исключением Юлия Цезаря, семья которого только недавно получила доступ в курульные магистратуры, [47]47
Курульными назывались магистратуры, которые давали право на курульное (почетное) кресло и считались более престижными. К ним относились консул, диктатор, претор, цензор, курульный эдил.
[Закрыть]были по большей части италиками; потомки прежних противников и бывших подданных добились теперь самых высоких политических, военных и административных должностей. Затем италики юга, ставшие жителями Северной Италии, Цизальпинии, заняли первые роли: они дали Риму его великих поэтов и, возможно, его самого страстного историка.
Эта ситуация объяснялась эволюцией, историю которой можно проследить, отталкиваясь от некоторых фактов: опираясь, в соответствии со своей традиционной тактикой, на местную элиту для управления союзниками, римская аристократия в то же время способствовала усилению их позиции. Столица, кроме того, привлекала много людей, тем более что невозможно было осуществлять политические права вне Рима, и все это способствовало расширению функций и деятельности италийской клиентелы аристократов. Затем Сулла, [48]48
Луций Корнелий Сулла (138—78 гг. до н. э.) – консул (88 гг. до н. э.), полководец, победитель Митридата, руководитель консервативно-аристократической партии в гражданской войне 33–82 гг. до н. э., диктатор (82–79 гг. до н. э.).
[Закрыть]Помпей [49]49
Гней Помпей Магн (Великий; 106—48 гг. до н. э.) – римский полководец и политический деятель, консул (70, 55, 52 гг. до н. э.), участник Первого триумвирата (совместно с Цезарем и Крассом), вождь оптиматов и противник Цезаря в гражданской войне 50–48 гг. до н. э.
[Закрыть]и Цезарь ввели новую связь между военачальником и его солдатами, а эта связь также изменила отношения между колониями и столицей, новые колониальные потери были вызваны необходимостью восполнить уход ветеранов и вступлением колоний и муниципий [50]50
Муниципия – город, получивший право римского гражданства и самоуправления.
[Закрыть]в политические партии Рима, который впоследствии вовлек их в гражданские войны. К прежним отношениям клиентелы и патроната добавился, следовательно, новый колонизационный приток, чисто политический: глава каждой партии пытался таким способом создать условия, благоприятные для своей деятельности. Впрочем, хотя она и потребовала невероятных жертв и спровоцировала начало политических и экономических трудностей, передача земель этим новым переселенцам, прежним солдатам, ускорила этническое смешение в Италии, а предшествующие исторические единства утратили свое значение. Тип римского гражданина – togatus,который воспроизводят многочисленные образцы погребальной скульптуры, от Юга до Альп, передает состояние духа, которое проявилось во всем и везде: сознание того, что звание римского гражданина превыше всего.