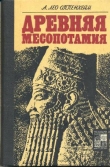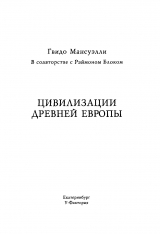
Текст книги "Цивилизации древней Европы"
Автор книги: Реймон Блок
Соавторы: Гвидо Мансуэлли
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц)
Цивилизация армориканских курганов, которые в тот же период проникли на запад Британии, имеет тесное сходство с цивилизацией Уэссекса. Но в то время, когда в Англии продолжается подъем металлургии, в фазе II армориканских курганов ощущается заметный спад, компенсируемый, впрочем, значительным развитием керамики.
Общие истоки обеих цивилизаций сегодня не вызывают сомнений. В Арморику, как и в Англию, первые импульсы пришли с юга: мегалитические миграции и перемещения групп культуры колоколовидных кубков следовали почти одними путями. Но этот поток, двигавшийся с юга на север, непрерывно обновлялся в плане торговли, смешиваясь с другим потоком, шедшим с востока на запад, который в конце концов одержит верх. Последующая экспансия культуры полей погребальных урн, затем – распространение кельтских курганов, влияния, пришедшие из Центральной Европы, наложатся на движение племен колоколовидных кубков, вышедших скорее всего из района Рейна, где несколько веков назад встретились две культуры. Возможно, именно этот регион стал источником последовательных миграционных волн племен цивилизации курганов. Используя морской путь, они распространились вдоль побережья Ла-Манша от Англии до Нормандии – где они почти не оставили следов – вплоть до западной Арморики.
* * *
Одновременно (XV в. до н. э.) на севере Европы неолит почти без переходной ступени сменился бронзовым веком. Сельскохозяйственная экономика, которая медленно трансформировалась на плодородных землях морен, – цивилизация Эртебелле – долгое время задерживала развитие европейской периферии. К середине 3-го тыс. до н. э. мегалитические мореплаватели достигли территории современной Дании. Однако, в то время как предметы из коллективных захоронений Великобритании иллюстрируют широкое использование меди и золота с начала 2-го тыс., на берегах Балтики металл остается практически неизвестным. Он появляется лишь на рубеже XVII–XVI вв. до н. э., параллельно с развитием торговли янтарем. Вместе с колоколовидными кубками были привезены и первые металлические орудия. Каменное производство достигло к тому времени максимального расцвета и высшей ступени совершенства. Боевые топоры, найденные в курганах с индивидуальными погребениями в Ютландии, имитируют модели из металла, производившиеся в Центральной Европе. Это влияние металлургии оставалось там еще некоторое время. Когда в следующем веке объем товарообмена позволил импортировать необходимые металлы в достаточном количестве, индустрия бронзы очень быстро достигла блестящего расцвета.
В дальнейшем металл в слитках стало перевозить гораздо проще, транспортируя его, в частности, на тяжелых колесных повозках, но прежде всего – на вьючных животных. Олово добывалось в Богемии, Тироле и скорее всего на суднах доставлялось из Корнуолла, а с конца 3-го тыс. до н. э. – экспортировалось по всему Западу. Иногда металл вывозили в виде готовой продукции, например тяжелых рапир, найденных в Зеландии, и зачастую это были предметы восточного происхождения.
Торговля обогащала и земледельцев, но прежде всего скотоводов. Владельцы стад довольно часто практиковали угоны скота: вооруженных групп становилось все больше, потребности в оружии возрастали. Бронзовый век на севере продолжался до более позднего появления железа. Это произошло в середине следующего тысячелетия и отмечено распространением курганов, содержимое которых представляет, благодаря особой консервации погребальных реликвий, ценные сведения о народах бронзового века. Глинистая и железистая почва курганов, где покоились мертвые, прикрывала тела погребенных, одежду и предметы, образуя своего рода защитную камеру, и обеспечила их долговременную сохранность. То же касается многочисленных находок в торфяниках и болотах, вода и почва которых, как известно, защищает металл от окисления.
Сохранилось также одеяние, в которое облачали умерших. В Эгтведе в дубовом гробу обнаружен труп молодой женщины, одетой в шерстяную рубаху и короткую юбку, изготовленную из веревок, связанных друг с другом, и стянутую на талии поясом. В Мульдбьерге обнаружено тело мужчины, облаченного в длинную мантию, на голове – шапка из буклированной шерсти. Но самой удивительной находкой стала солнечная колесница из Трундхольма. Ансамбль представлен лошадью, которая катит диск, подобный громадному колесу. Вероятно, речь идет о символическом объекте, связанном с культом солнца.
Благодаря этим замечательным свидетельствам можно проследить всю эволюцию общества, повседневной жизни и религиозных убеждений вплоть до конца первобытной истории. Котел из Гундеструпа, который датируется железным веком, устанавливает связь между доисторическим и кельтским миром.
* * *
В настоящее время благодаря упорным поискам, проводившимся в последние годы русскими археологами, значительно расширились наши знания о цивилизациях Восточной Европы. Эти исследования подтвердили важность отношений между Азией и Европой. Изначально эти две зоны были четко разделены. На севере долгое время сохранялась практика охоты и рыбалки – пережиток палеолита. На юге эволюция происходила значительно быстрее. На севере сельское хозяйство оставалось дополнительным, вторичным занятием, так же как скотоводство. Однако неолитизация утвердилась и здесь, о чем свидетельствует существование деревень и использование керамики. Медь появилась позднее, когда завязались отношения с цивилизацией Кавказа. Об этом свидетельствуют поселения, обнаруженные на Волге и в Андроново. На юго-востоке между тем развивались отношения прежде всего между степными кочевниками и ближневосточными земледельцами. Богатая цивилизация Майкопа была самой значительной. Народности Кубани, возглавляемые военной аристократией, жили в деревнях из хижин (Долинск), а в их курганах сочетается техника несущих конструкций (Майкоп) и мегалитическая техника (Новосвободная). Очень быстро каменные орудия труда были заменены бронзовыми. Эта цивилизация на последней стадии эволюции испытывала влияние катакомбных культур и культур Абхазии, долгое время сохраняя свои погребальные обряды. Металлургия ограничивалась здесь локальным производством, а скотоводство было направлено на вывоз сельхозпродукции. На рубеже XVI–XV вв. до н. э. была одомашнена лошадь. Позднее эту разнородную цивилизацию вытеснила кобанская цивилизация, где после распада хеттской империи распространилось железо, несмотря на консервативность этой среды.
На юго-западе развивалось несколько цивилизаций, имевших важное значение. Например, цивилизация Триполье, занимавшая территорию между Днестром и Днепром, установила связь между Россией и Балканами и поддерживала на западе отношения с культурой Кукутени. Трипольцы культивировали хлебные злаки и ячмень, переезжая с места на место каждый раз, когда почва истощалась, и практиковали скотоводство в большом масштабе. Они создали замечательные образцы керамической живописи и малых пластических форм.
В бронзовый век пространства, на которых появились эти новые цивилизации, изменились. Например, погребения в ямах распространились в степях между Днепром и Волгой. Специалисты главным образом изучили некрополи, так что у нас до сих пор мало сведений об экономике и типах поселений. Некоторые признаки все-таки указывают на использование колесниц. Напротив, цивилизация Фатьяново, которая имеет связь с комплексом боевых топоров, известна своими поселениями, построенными вдоль рек и на берегах озер. Скотоводство, вероятно, играло здесь важную роль, и интенсивные торговые отношения с юго-восточными территориями и Северным Кавказом, с одной стороны, и с Севером и балтийскими регионами – с другой, свидетельствуют о ее жизнеспособности и посреднической роли. На востоке родственная группа Баланова своей автономностью доказывает обратное. Балановские деревни занимали вершины холмов, возвышавшихся над реками. Носители этой культуры, также связанные с культурой боевых топоров, пришли, возможно, из южных областей. Они приобщились к земледелию и скотоводству и хоронили усопших в подземных гробницах со стенами, обшитыми деревом. В этих погребениях обнаружены каменные топоры, предметы из бронзы и золота, замечательная керамика, иногда украшенная солярной символикой. На территории самого Фатьянова б середине бронзового века распространяется цивилизация Сейма, известная поразительным развитием металлургии, специализировавшейся на изготовлении оружия: торговые связи этой цивилизации простирались до Балтики и территорий Андронова и степей. Тотемический культ змеи был заимствован у неолитических культур Урала.
Наконец, на территории между Доном и Нижней Волгой главной цивилизацией была катакомбная. Ее экономика основывалась на мотыжном земледелии и скотоводстве, а металлургия зависела от рудников Кавказа. Пространство катакомбной культуры, в частности Полтавкин, впоследствии было занято народом срубных погребений, но экономическая основа осталась прежней, соответствовавшей предшествующей эпохе. Глиняные модели показывают, что носителям этой культуры была знакома двухколесная колесница. Металлообработка, достигнув здесь высокого уровня – об этом свидетельствуют многочисленные находки бронзовых и литых изделий, – распространилась по всей Южной России.
Часть вторая
Европа и Средиземноморье
Глава 4 ВЛИЯНИЕ АРХАИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ
В первой половине 1 – го тыс. до н. э. архаическаяя Греция открывает историю собственно Европы и закладывает основы, на которых Греция классическая и эллинистическая построит затем нашу цивилизацию. В этот период Греция играла роль ведущей цивилизации по отношению не только к Средиземноморью, но и к внутренним континентальным территориям. Ее опыт представлял собой удачный синтез сложных заимствований, вытекающих друг из друга и происходящих отчасти с Востока и из Египта, а отчасти – из доисторической Европы: Микены, о которых речь шла выше, на самом деле уже представляли собой европейскую цивилизацию. Вполне понятно, что греческая цивилизация, являясь продуктом синтеза, стала катализатором для возникновения мощного центра.
С Востока и из Египта, через посредство Эгеиды, и прежде всего Крита, она восприняла элементы, которые составят впоследствии общеионийское койне. Но некоторые элементы микенской эпохи, такие как мегароны дворцов и крепостей, обнаруженные в глубоких слоях Трои, были отнесены, как мы отмечали ранее, к континентальному неолитическому наследию. По своей структуре эти государства «пастушеских народов», как назвал их Гомер, были родоплеменным обществом, достигшим пика своего развития, и копировали восточные и египетские монархические империи. Общины свободного населения, damosна микенских табличках, смягчая власть вассальных правителей – апах, – стали зародышем той демократии, которая с полным правом считается достижением греков, но «темные времена» эволюции почти не позволяют проследить ее начальные этапы.
С «вторжением» дорийцев связывают перемены, происшедшие в Греции в хронологическом интервале между микенским периодом и геометрической архаикой – в IX–VIII вв. до н. э. С самого заката микенской цивилизации начались первые набеги дорийцев, спровоцированные, вероятно, постоянными конфликтами между ахейскими правителями и небезопасностью, прежде всего связанной с пиратством и рейдами «народов моря». Расселение из районов Малой Азии, которое положило начало ионийским городам, осуществлялось непрерывными волнами по следам героев троянского цикла и пионеров, основывавших там колонии со времен Микен. Образное искусство Крита и Микен в то время приходит в упадок, вскоре в искусстве стал преобладать геометрический декор. Вероятно, приток дорийских групп способствовал подъему искусства в Греции, но, по сути, это было лишь возвращение к искусству, которое прежде было распространено по всему континенту. В начале греческой архаики геометрическое искусство стремилось исключительно к более стройным и рациональным формам. Этот рационализм, наделенный удивительной энергией, пытался найти логическую модель отражения жизни и привести описание различных социальных или эстетических структур в соответствие с идеальным космосом. В этом рационализированном единстве форм человеческая фигура выражена сначала нечетко, затем становится основным элементом, прежде чем достичь формы, в высшей степени совершенной. Но эта эволюция совершалась в различных регионах в разном ритме и на разных уровнях. Если в Афинах изображения на вазах открывали двери фундаментальному антропоморфизму классической эпохи, то дорический храм жестко вытеснял космический идеал математическими связями и соответствиями. Этот разрыв между дорической и ионической группой, который проявляется в Афинах, не задетых вторжениями, остался, как будет видно позже, одним из катализаторов греческого динамизма. В находках из Дипилона человеческие фигуры, вписанные в строгую декоративную композицию, одновременно становятся более четкими. Отметим, что для греков характерно последовательное убеждение в главенствующей роли человека. Оно реализовалось как в искусстве, так и в организации жизни города. В завершение этого процесса ремесленник и художник ставят человека в центр внимания, отодвигая декор на второй план: отныне человек становится «мерой всех вещей» – задолго до того, как философская мысль сформулировала фундаментальный принцип эллинистической цивилизации.
Разрыв между ионийцами и дорийцами начинается в то же время. Для первых он связан с довольно свободными и, как правило, менее организованными политическими структурами, хорошо поддающимися, однако, эволюции в сторону демократии, с оригинальной архитектурой и нюансированным фигуративным искусством; для других характерны более жесткие, военизированные образования, математическая точность в архитектуре и формы, блокирующие пластику. Ионийский мир более открыт, порой более восприимчив и предприимчив. Его географическое положение на середине пути между Востоком и Европой объясняет изобилие восточных заимствований, о которых свидетельствует грандиозность строений и городских планов, а также мягкость нравов, поражавшая древних. Морские связи, растянувшиеся от Черного моря до Испании, и отношения с внутриконтинентальными восточными странами развивали здесь живой дух наблюдательности и любознательности, которые положат начало письменности и научным интересам, предшествовавшим историческому поиску и философской мысли. Именно ионийский мир стал источником как географических знаний, так и философских систем, быстро распространившихся на Западе, поскольку ионийцы, находясь ближе к Востоку по сравнению с другими греками, явились также первыми колонизаторами Запада. Эти восточные влияния, воплотившись в греческом искусстве в простом подражании, основанном на внешних сходствах, нашли глубокий отклик в восхищении Геродота египетским миром и в притягательности Востока для греков, несмотря на их политическое и идеологическое противостояние. Отметим, что противопоставление греков и варваров не было явным до тех пор, пока персидское государство не покорило ионийские города и не оккупировало Грецию и пока греческие полисы не оказались разгромлены при Марафоне и Саламине иноземными армиями. До этого времени варвара называли просто alloglotte:судя по тому, что Гомер употребляет этот термин только по отношению к карийцам, он скорее всего не содержал в себе ни малейшего оттенка презрения. Миф об амазонках, напоминающий о древней вражде с азиатскими племенами, только в V в. до н. э. приобрел символическую и аллегорическую ценность, которая открылась нам в произведениях искусства данной эпохи. Зарождается противоречие между силой разума греческого человека и иррациональной hybris [3]3
Гибрис – олицетворение желания сравняться с богами и превзойти их, нарушить установленный порядок.
[Закрыть]мифов, воплощенной прежде в подвигах таких героев, как Тезей и Геракл, против чудовищ – кентавров и Минотавра. Эпоха архаики завершилась в тот момент, когда hybris проникла в сферу политики и стала использоваться как основная характеристика персидской монархии и иных политических врагов Греции.
Древнеперсидской монархии – варварской организации – противопоставлялся греческий полис. Он был создан именно в архаическую эпоху, хотя его организация разрабатывалась медленно и тщательно, вплоть до внешнего устройства и городских планов, вслед за стадиями аристократической организации и более или менее продолжительного опыта тирании. Архаическая эпоха стала во всех отношениях самой свободной и счастливой в длинной истории греческого народа – лакедемоняне еще не закрылись в том аристократическом милитаризме, непроницаемом для культуры, по отношению к которому афинские демократы демонстрировали позже свое презрение. Эта внутренняя оппозиция между двумя концепциями, дорической и ионической, не проявлялась пока еще столь категорично. Что касается искусства, дорийцы достигли заметного прогресса в музыке и поэзии, тогда как ионийцы дали жизнь монодической лирике. Ионическая поэзия и поэзия дорическая совместно способствовали формированию драматического искусства, которое стало, возможно, величайшим творением греческого гения. Этот фундаментальный дуализм, который позже обострится, сопровождался всевозможными вариациями. Каждый или почти каждый город стал очагом особого искусства. Никогда больше после эпохи архаики не встретится подобное изобилие локальных школ, особенно в области скульптуры и керамики. Если личность художников редко ощущается, то тщательные поиски смогли прояснить некоторое количество индивидуумов-горожан. Их жизненная сила находилась тогда на ступени наивысшего подъема и расцвета как в плане искусства, так и в плане экономики и политики. По-прежнему оставалось свободное пространство для экспансии и широкого распространения коринфской керамики, что, впрочем, не привело здесь к ее абсолютной монополии, которой позже достигнет афинская керамика. Тем не менее свободная фантазия ориентального искусства повсеместно ограничивалась рациональной строгостью геометрического искусства. Добавим, что именно к архаической эпохе восходит оригинальная, невозможная в иной художественной цивилизации, концепция скульптуры, в которой понятие божества воплощается через антропоморфизм.
В заключение отметим, в более узкой перспективе этой книги, что в результате колониального расселения на всей территории Средиземноморья распространятся и утвердятся городские структуры греческого типа. Под влиянием греческой экономики повсеместно стала использоваться монета, а развитие колоний внесло свой мощный вклад, способствуя единству континентальной экономики. Урбанизм, распространявшийся в процессе греческой колонизации, в конце концов упростит эволюцию протоисторических структур Этрурии, так же как архаический греческий дух повлияет на развитие искусства. Со временем наследие греческой архаики станет богатой основой для эволюции периферийного искусства Средиземноморья, в среде менее образованной и духовно развитой.
Таков мир, одновременно многообразный и единый, вокруг которого в течение почти половины тысячелетия развивалось огромное европейское пространство.
Глава 5 КОЛОНИЗАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
Если восток Средиземноморья за счет ближневосточного динамизма активно участвовал в становлении и развитии цивилизации, то запад пробудился к истории только благодаря стимулирующей роли колонизации. После упадка Микен финикийские мореплаватели стали первыми частыми посетителями берегов Западного Средиземноморья, ранее достигнутых ионийцами. В пунической традиции в начале IX в. до н. э. зафиксировано основание финикийского Кадиса, а в VIII в. до н. э. в повествованиях об Одиссее упоминается о возобновлении отношений азиатских греков, наследников афинян, с тогда еще сказочной страной Запада. С этих первых экспедиций зарождается мощный поток, который, начавшись в IX в. до н. э. и продолжаясь в VIII–VII вв. до н. э., охватит все средиземноморское побережье за счет городов-колоний греческих и финикийских метрополий, породив небывалую активность в этом приморском пространстве как с точки зрения торгового обмена, так и в отношении культурных связей.
О колонизации вообще и колониях в частности очень много написано. Поэтому мы не будем останавливаться на деталях. Здесь важно вспомнить об основополагающих аспектах этого феномена, в которых отражена деятельность замечательной цивилизации и которые имеют решающие последствия для истории всего континента.
* * *
Основной движущей силой являлся, по-видимому, экономический порядок. Главной целью было захватить минеральные ресурсы, и прежде всего металлы, необходимые (задолго до распространения железа) для изготовления сплавов. Финикийская фактория Кадис, возможно самая древняя на Западе, стала одновременно рынком сбыта для богатых рудниковых областей Иберийского полуострова и аванпостом для каботажного атлантического плавания, организуемого прежде всего в целях транспортировки олова с Британских островов. Достаточно вспомнить торговлю между странами в Средние века и в начале Нового времени, чтобы утверждать, что только эта задача могла оправдать огромные затраты средств и энергии, риск и сложности деятельности, простирающейся на тысячи миль.
Нужно было наладить систему опорных пунктов, что было вызвано необходимостью расширения сети дорог, а также нестабильностью политических условий; оборудовать места якорной стоянки, склады, организовать охрану – фактории должны были иметь возможность обходиться собственными силами, если местные ресурсы иссякали, а добрая воля жителей ослабевала. Несомненно, организовывались и налаживались торговые пути и внутри континента, известно также, что металл перевозился по ним чаще, чем янтарь, торговля которым практиковалась еще микенцами, однако дороги были длинными и опасными. Морские порты устраивались также в точках пересечения морских и караванных дорог. Замечено, что микенцы не располагали достаточными минеральными ресурсами, в частности оловом и медью, и вынуждены были импортировать их с Кипра или Кикладских островов. Континентальная Греция, а позже Карфаген были еще менее обеспечены ими. Эти потребности в сырье возрастали параллельно с техническим прогрессом и повсеместным распространением товарообмена, который подтолкнет и тех и других к берегам Запада.
Однако начиная с IX в. до н. э. вмешиваются другие факторы, более заметные у греков, история которых нам лучше известна и колонизация которых, кроме того, отличается особой сложностью. Греки будут искать не только металлы, хотя континентальное золото продолжает притягивать их к негостеприимным берегам Фракии, но и другие необходимые продукты и материалы: зерно с Черного моря и дерево с Кавказа. Огромное население городов, прежде всего в Малой Азии, требует привоза необходимых товаров, а уже потом, в V в. до н. э., приводит к созданию клерухий – военных аванпостов и населенных колоний, куда Афины выселяют излишки бедного крестьянства. С VIII в. до н. э. колонизация служит регулятором перенаселения и недостатка возделываемой земли – об этом свидетельствуют многочисленные дорийские и ионийские колонии в Великой Греции, а также Кирена на африканском побережье (середина VII в. до н. э.), которые обязаны своим появлением сложившейся ситуации. Таким образом, изначально в некоторых колониях торговля и производство являлись лишь элементами локальной экономики: бурная негативная реакция коренного населения иногда вынуждала отказаться от земледельческих планов и ограничиться сугубо морским образом жизни.
Финикийцы, напротив, ориентировались сначала на устройство простых торговых опорных пунктов, и только много позже их переселенцы станут образовывать территориальные государства – в период, когда ассирийское, а затем нововавилонское господство в 574 г. до н. э. положат конец независимости метрополии. Позже ионийцы покинут свои города под угрозой персидской экспансии, и массовая миграция из Фокеи в Массалию и на Корсику в 544 г. до н. э. приведет к первому большому столкновению между Карфагеном и Грецией – битве при Алалии (535 г. до н. э.).
Другие переселения, не менее массовые, но имеющие совсем иной характер – переселение изгнанников после политических мятежей, а также нежелательных лиц, выселенных из городов, – увеличили в конечном итоге колонизационные волны. Поэт Архилох, принимавший участие в колониальных экспедициях фасийцев к берегам Фракии, говорит по этому поводу о «панэллиническом сброде», имея в виду изгнанников, пришедших с разных сторон. Известно, что Тарент обязан своим основанием изгнанию политических элементов, дискредитированных в Лаконии. А легенда, которая называет царицу Дидон «беглянкой», наводит на мысль о подобных случаях у финикийцев.
* * *
Необходимость дальнейшего распространения колонизации создала условия для соперничества – либо между метрополиями, либо' между самими колониями, либо, наконец, на уровне главных действующих лиц в регионе. Стремление к обладанию ключевыми позициями, прежде всего с коммерческой, а не территориальной точки зрения, к концу VI в. до н. э. также приводит к длительной борьбе за гегемонию. Изначально многочисленность греческих метрополий породила между ними соперничество в колониальной экспансии. Каждый город хотел повысить свой авторитет, основав новые города-сателлиты, которые позволяли значительно укрепить власть. Одни в ходе своей экспансии обращались к наемникам и иностранцам, у других городскую верхушку образовывали собственно горожане. Так на обширных колониальных пространствах появились небольшие мегарские колонии. Но позже политические конфликты между метрополиями, прежде всего дорийскими и ионийскими, а позже между Спартой и Афинами, осложняют отношения между колониями. Последствия перемен, которых добились метрополии, развивались и умножались; чередование колоний различного происхождения, которое препятствовало их объединению, еще больше усложняло отношения. В колониях и их метрополиях – первые чаще были олигархическими, вторые – либо аристократическими, либо демократическими – разногласия между классами по отношению к власти влекли за собой конфликты, которые принимали иногда вооруженный оборот.
Перед лицом греческой экспансии финикийцы, которые полностью зависели от той же метрополии, почти всегда сохраняли свое единство, за исключением периода, когда Карфаген, опасаясь дробления после падения тирренской метрополии, навязал свое владычество ближайшим колониям, являвшимся автономными.
Этот эпизод предвещает конфликт, который впоследствии приобретет небывалый размах, когда Карфаген, сменив свою метрополию, павшую и ушедшую в прошлое в результате персидского вторжения в азиатский лагерь (морское сражение при Милете), займет свое место в конфликте, который отныне станет главным, – между Западом и Востоком. Новому расколу, образовавшемуся в Эгеиде после персидской оккупации ионийских городов, на Западе соответствует все более явный раскол между Карфагеном и Грецией, которые не были напрямую захвачены грозными силами Азии.
Далее, затрагивая Грецию и Рим классической эпохи, мы вернемся к этому изменению общей ситуации. А сейчас нужно подчеркнуть, что конкуренция наметилась уже в момент распределения колоний между главными действующими лицами – греками и финикийцами.
Нам плохо известна история этой конкурентной борьбы на ее начальных этапах. Возможно, она обозначилась уже в VII в. до н. э., пока в ограниченных рамках, между наиболее предприимчивыми греческими городами – особенно Милетом – и финикийцами, обосновавшимися в Египте и торгующими с Понтом Эвксинским. Захват ассирийцами в конце века Финикии способствовал переходу инициативы к грекам. Дорийцы острова Феры (Теры), возглавляемые критянами, обосновываются на Киренаике. После захвата Тира вавилонцами (574 г. до н. э.) соперничество обострилось: Карфаген начинает энергично противостоять новым попыткам дорийцев закрепиться в Африке. Но в начале VI в. до н. э. это противостояние оказалось безуспешным, ибо он так и не сумел воспрепятствовать основанию Массалии фокейскими колонистами, которые после морского путешествия Колая с острова Самос пытались обойти карфагенцев с севера. После этого фокейцы создают уже реальную угрозу карфагенским колониям в Испании, о чем сообщает Геродот. От него же нам известно, что царь Аргантоний из Тартесса в первой половине VI в. до н. э., до того как Фокея попала в руки персов (546 г. до н. э.), пытался основать в данном регионе фокейскую колонию, по-видимому, с целью избавиться от притеснительной монополии финикийцев. Территория Тартесса долгое время находилась в сфере финикийского влияния. Когда же первые рейды ассирийцев на Тир привели к изменениям в колонизационной политике этой метрополии, Тир стал данником Ассирии, речь шла прежде всего о дани тартезийских правителей. Однако события, развернувшиеся в Азии позже, после падения Ассирийской империи, дают тартезийцам некоторую отсрочку и надежду на возможное распространение греческой монополии на иберийскую торговлю. Но Карфаген, хорошо организованный и взявший в свои руки управление финикийцами на Западе, контролировал древнюю балеарскую колонию (Эбус на острове Ибица, основан в 654 г. до н. э.) и, в то время как персидское господство в середине VI в. до н. э. остановило экспансию ионийцев в Фокее, объединился с этрусками и стал проводить антигреческую политику в Тирренском море. В 535 г. до н. э. битва при Алалии, выигранная фокейцами в военном отношении, но проигранная по существу, остановила продвижение греков на север и, препятствуя усилению колонии Массалия, нанесла очень тяжелый удар по возможностям ионийской экспансии на запад. Крах ионийской инициативы, помешав другим грекам отправиться на запад за Сицилию, привел к виртуальному разделению сфер влияния между греческой территорией и пунической империей. Последняя, от обширного побережья Сирта до берегов Нумидии, через владения в западной Сицилии, практически блокировала переход между двумя средиземноморскими бассейнами, а ее колонии на Сардинии и Балеарских островах способствовали распространению ее собственной монополии на иберийские ресурсы и атлантическую навигацию. Греки же обосновываются в Италии и на востоке Сицилии, которая станет три века спустя ареной беспощадной борьбы и огромных, но напрасных потерь как для греков, так и для карфагенян. Карфагену удавалось поддерживать внутри острова враждебность по отношению к грекам; позже, когда Сиракузы станут главным центром сицилийской политики, он будет настраивать против них некоторые греческие города. Впрочем, нет оснований думать, что греки никогда не предпринимали усилий для сокрушения внутренне компактной пунической цивилизации. После Алалии Центральное и Западное Средиземноморье предстает разделенным на две основные сферы влияния – карфагенскую, в обозначенных границах, и греческую, включавшую, помимо Ионии, Тирренское море вплоть до Кум. Для Греции, кроме того, без видимых ограничений было открыто Адриатическое море, где не установилось чье-либо господство, что могло бы в данном секторе создать преграду продвижению греков. Тирренское море к северу от Кум находилось в сфере морского влияния этрусков, которые размещались между карфагенскими колониями и более расчлененными греческими. Таким образом, присутствие этрусков делило данный регион на две части, поскольку этрусское влияние распространялось на Лигурию и дальше, а соседство с карфагенским пространством позволяло изолировать массалийскую сферу влияния на севере линией, проходящей от Корсики до Балеарских островов и до Эбра. На иберийских берегах, от Гемероскопейона включительно и до Гибралтара, древние греческие поселения были поглощены пунической колонизацией. Впоследствии это привело к событиям, о которых мы ничего точно не знаем, но можем догадываться. Таким образом, этруски выступали арбитрами в ситуации, от которой в то же время они полностью зависели, что было естественным следствием их политики равновесия по отношению к карфагенянам и грекам.