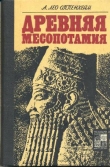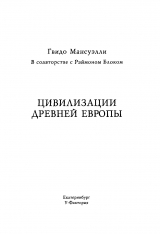
Текст книги "Цивилизации древней Европы"
Автор книги: Реймон Блок
Соавторы: Гвидо Мансуэлли
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
Восточный характер Византийской империи полностью проявился в результате долгого развития. Но в эпоху Юстиниана агрессивная политика, направленная на то, чтобы отвоевать территории, потерянные на Западе, приобретает вид настоящего завоевания. Речь шла не о восстановлении Римской империи, но об утверждении главенства Византии. Знаменитые памятники Равенны, не имея прямого отношения к локальной традиции, хорошо это показывают. Кроме Италии, новая «романизация» Запада затрагивала только более или менее ограниченные прибрежные регионы. Восточная империя, которая не смогла помешать падению Западной империи в 476 г., а также направила в Италию Теодориха [67]67
Теодорих – король остготов (493–526), под предводительством которого они уничтожили государство Одоакра и завоевали Италию.
[Закрыть]и его готов, слишком поздно осознала опасность западной ситуации. Попытка взять реванш у варваров закончилась поражением. Внутри компактной структуры империи наиболее слабые западные образования были покорены, особенно в Италии и Африке, где интеграция происходила медленнее в силу римской традиции. Варварские королевства, с другой стороны, консолидировались. С политической точки зрения история Византийской империи – это история длительной инерции. Тогда как Запад был организован на базе национальных государств, а Италия была почти полностью разорена вследствие переселений лангобардов, на Балканах продвигались славяне и болгары, так что Константинополь вынужден был уступить территории, и его европейское значение свелось к роли европейской столицы азиатского государства. Византийская империя после длинной полосы успехов и поражений просуществовала до XV в. Она до конца оставалась экономическим посредником между Европой и Азией, что объясняет ее благополучие. Что касается ее политической роли в Европе, она имела лишь второстепенное значение. Даже перед общей опасностью, которую представляло движение арабов, двум частям континента не удалось прийти к согласию. Конфликт между ними, впредь непримиримый, был связан с совокупностью причин, одновременно политических и религиозных: «великая схизма» на Западе действительно разделила на две части сразу и христианство, и Европу. Временное единство образовалось в империи, основанной Карлом Великим (768–814), который воспротивился, хотя и не явно, восточному единению с Константинополем. Первенство Востока, таким образом, оказалось довольно недолгим, пока это владычество было действительным и на Востоке, и на Западе.
Византийская империя играла роль наследницы Римской империи в эпоху, которая предшествовала ее распаду. Это теократическое, бюрократическое и космополитичное государство в реальности было поздней империей, которая в течение десяти веков использовала историческую ситуацию, давшую ей начало. С точки зрения права Константинополю предписывалось быть легитимным хранителем наследия Римской империи. Юстиниан I ярко продемонстрировал это своим законодательством, которое, наряду с построенными им памятниками, представляет, несомненно, наиболее заметный результат его правления. Поскольку Восточная империя, по крайней мере до коронации Карла Великого в 800 г., представляла для Запада центр законности, фундамент власти, западные властители смотрели на Константинополь, понимая его превосходство. Даже его прямые противники, например болгары, ценили наследие этой традиции власти, в которой религиозная харизма смешалась с юридическим смыслом.
Но римское право Константинополя было перенесено на основание, корни которого уходили в восточные традиции; в реальности древний, одновременно практичный и религиозный характер римского права был противоположностью утонченному духу греческой среды. Проявляя глубокую политическую мудрость, Рим всегда позволял народам эллинистической культуры править по их собственным законам. Византийский мир способствовал крайним последствиям некоторых неявных тенденций римского права: praxis, внешняя сторона, одержал верх над истинным юридическим сознанием, формализм – над конкретностью. Именно поэтому «византийской» называют вводящую в заблуждение манеру, которая формам уделяет внимания больше, чем сути.
Искусство сублимировало эту манеру. Конкретная классическая форма, соответствующая человеческому измерению, уступает место метафизике символов. Хорошо известно, что в определенный момент византийский мир столкнулся с иконоборческим кризисом. Византийское искусство, по большей части религиозное, могло отстраниться от создания образов. Оно проявляет такую силу в своей способности к абстракции, что приводит к отказу от иконографических изображений, – талант художника и возвышенность тем позволяли это сделать. В определенном смысле не имело значения, представлять ли великое божество в образе Пантократора, Владыки Вселенной, или через большой золотой крест, усыпанный драгоценными камнями. Это образ метафизический, выходящий за пределы человеческой системы координат. Разумеется, на протяжении долгой истории византийское искусство обращается и к реализму, особенно в нарративных формах, более или менее связанных с потребностями культа и народных масс, которым нужно было доступно, через образы, передать содержание священных книг. Такой сложный мир не мог на протяжении десяти веков находить отражение в одних и тех же формах. Абстракция развила тенденции, возникшие в результате синтеза восточных влияний и популярных течений, характерных для поздней империи, которую называют поздней Античностью или Spatantike– немецким термином, ставшим общепринятым у археологов. Византийское искусство развивалось вокруг двух полюсов – придворных и клириков.
Таким образом, речь идет об элитарном искусстве; оно было народным лишь в той мере, в которой популяризировало понятия и способы выражения, упомянутые выше.
Одной из наиболее примечательных черт византийского искусства является отсутствие скульптуры. Его основные формы – архитектура и живопись. Зачастую они дополняли друг друга: большая часть шедевров византийской живописи представлена фресками и мозаиками, выполненными на стенах монументальных зданий: фигуры «на престоле» Пантократора или Богородицы, Богоматери, являются только в вышине небесного свода купола или в глубине апсиды, завершая вместе с тем архитектурные линии и ансамбль живописного декора. Интерьер здания ставит и в то же время решает проблемы пространства и цвета. С этой точки зрения византийское искусство развивает искусство Spatantike.Однако отказ от классической формы, склонность решать изобразительную задачу при помощи линии и цвета, фронтальность, наконец, столь же характерные для этого искусства, отражают преобладание восточных влияний. Впрочем, это лишь ясное свидетельство исторической ситуации.
В связи с византийским искусством часто говорят о наследии, или ренессансе, эллинизма, но, возможно, не всегда достаточно глубоко понимают значение собственно эллинистического искусства. Разумеется, искусство Византии является отчасти эллинистическим, но так же можно сказать, хотя и в разной степени, обо всех художественных проявлениях, последовавших за III в. до н. э. Эллинизм представляет собой общее достояние, которое принесло пользу всему миру, но не стоит связывать с эллинистическим ренессансом иконографическое наследие, которое восходит лишь к эпохе Антонинов, – в тот период изменилась фундаментальная концепция искусства.
Литературная деятельность, так же как искусство, оставалась привилегией меньшинства. Византийский двор явил многочисленные примеры, очень редкие в других странах, принцев и принцесс – писателей, ученых и поэтов. Наряду с тем, что можно было бы назвать культурой государства, довольно высокого уровня благодаря монастырям достигла религиозная культура. Именно византийским ученым принадлежит заслуга сохранения большей части античного литературного наследия Греции и эллинизма. Именно образованным кругам, интеллектуальной элите, принадлежат формы искусства, которые, по-видимому, заимствовались из эллинистических источников. Византийцы, особенно в области ремесла, широко использовали также опыт варварского мира, который, как мы видели, пробудил на Западе интерес к полихромной бижутерии и который уделял больше внимания богатству материала, чем художественной обработке, и декору – больше, чем образным изображениям. Со временем эти тенденции привели к чрезвычайному изяществу в технике, благодаря которому византийский ремесленник занял одно из первых мест в истории древних цивилизаций. Необходимо добавить, что, хотя Запад никогда полностью не примет византийские художественные формы, византийская ремесленная продукция, однако, очень широко распространится не только в славянском пространстве, которое сохранило это наследие до новых времен, но и во всей Европе.
На Балканском полуострове, как в Иллирии, так и в Болгарии, византийское искусство подарило нам наиболее значимые шедевры Средневековья. То же самое произошло на Руси. Византийские ремесленники в период иконоборческого кризиса внесли свой вклад в западное искусство и, более того, в искусство мусульманских государств. Влияние Византии ощущалось непрерывно, даже в период упадка, уже в названных областях и, более того, в мусульманской среде, так же как у коптов Верхнего Египта и Эфиопии.
Роль христианства среди таких же сложных проблем требует отдельного разговора. Миланский эдикт 313 г. устранил опасность раскола христианства, который, казалось, наметился раньше. Вне всякого сомнения, христианство, широко распространившись в менее развитых кругах, противопоставляло свой по существу демократический дух государственной организации империи, тогда как его культура, обращенная к массам, сталкивалась с аристократической языческой культурой. Христианская культура концентрировалась не на знаниях и формальном поиске, но на насущных проблемах. После 313 г. это оригинальное наследие отчасти исчерпалось. Отношения между государством и христианством, которые установил Миланский эдикт, уже не были отношениями гонителей и гонимых. Экономические аспекты этого длительного противостояния исчезли, а Церковь официально стала представлять собой экономическую силу и центр власти. Однако появились новые причины для оппозиции, которые касались взаимной автономии двух структур или, точнее, доминирования одной над другой. В сущности их контрастность была абсолютна, христианский идеал отличался от идеала империи, так же как духовная жизнь отличается от материальной, христианская универсальность не знала границ. Политический, культурный, экономический и религиозный разрывы между Востоком и Западом дополняли друг друга, соответствуя различным, но тесно связанным сторонам многогранника, объединяющим различные аспекты и причины упадка античного мира.
Глава 16
ОТ АНТИЧНОСТИ К СРЕДНЕВЕКОВЬЮ
Начиная с Великого переселения народов история Европы, как мы видели, приобретает новый масштаб: ее географический горизонт расширился поразительным образом. Каждое событие, имеющее хоть какое-нибудь значение, отражалось во всех уголках континента, где факты, элементы, силы отныне оказывали взаимное влияние, несмотря на различия в интеллектуальном уровне и пестрое многообразие народов. Одна фраза Лукреция передает всю ситуацию: rerum concordia discors. [68]68
Ситуация примирения непримиримого (лam.).
[Закрыть]Эту сложность осознавали все: различные народы и страны получают непосредственные знания друг о друге, а политические программы должны теперь учитывать и сдерживать последствия, которые влекли за собой любую инициативу. Последующий динамизм миграций расширил также контакты между Европой и необъятными азиатскими территориями, которые по большей части утратили свою фантастичность. Константинополь долгое время оставался центром политической жизни Восточной Европы: это был мощный культурный очаг и заслон от натиска варваров. Их оттесняли контрударами или, чаще, переключали их внимание на другую цель в соответствии с древней тактикой, которая заключалась в противопоставлении, сталкивании друг с другом различных государств или племен; однако, с другой стороны, армия басилевса, «царя» римлян, принимала наемников любого происхождения. Нигде больше, кроме как в византийской столице, не было стольких возможностей для пересечения людей из Европы и Азии. Европейские силы были мобилизованы в Азии для защиты византийских позиций, тогда как азиатские играли ту же роль в отношении Европы. Но еще больше, чем политика Византии, вовлекла Азию в международные отношения арабская экспансия. Древние отсталые народы этой части света со своей стороны стали главными действующими лицами истории. При равных условиях эту арабскую экспансию можно сравнить с германскими или славянскими миграциями, с той лишь разницей, что арабы были носителями духовного наследия, во имя которого они и начали распространять свое влияние за пределами своих исконных территорий; тогда как европейские народы лишь стремились достичь единства за счет своих передвижений и интеграционного процесса, который после IV в. займет главное место в истории.
* * *
Как следствие политики поздней Римской и Византийской империй, племена и племенные союзы оседают на определенных территориях и переходят от кочевой и племенной стадии к государственной и оседлой. Нужно отметить, что движение германцев и славян в III–IV вв. н. э. было вызвано той же необходимостью, что и у галлов в IV в. до н. э.: они нуждались в землях. Заселение и колонизация вновь занятых территорий были скорее результатом их собственных усилий, а не проявлением провиденциальной имперской власти. Варвары проделали путь от состояния зависимости от империи до положения завоевателей: готы в Италии и Испании, вандалы в Африке, бургунды и франки в Галлии стали владыками римского или романизированного населения.
Интеграция варваров в Европе была более или менее сложной в зависимости от того, на каких территориях она разворачивалась, соответствовали ли эти территории прежней империи Запада или входили в зону влияния Византии. На Западе можно увидеть некоторое единообразие в поведении германцев по отношению к римлянам: различным племенам повсеместно предоставлялось привилегированное правовое положение, тогда как римляне рассматривались как подчиненные. У готов и вандалов арианское вероучение установило дистанцию между завоевателями и покоренными католиками. На самом деле ни германские народы, ни их предводители не интересовались теологическими проблемами, но, возможно не осознавая этого, они стремились таким способом дистанцироваться от латинян. Они утверждали право силы, положение свободного человека было доступно только завоевателям. Эти народы игнорировали гражданское право, основанное на гуманистической и рациональной концепции общества; они сохранили сепаратистский ревнивый дух, выше которого смог подняться только римский гений, хотя и гораздо позже. Эгалитарные принципы христианской доктрины, и особенно католическая и римская традиция, противопоставлялись аристократической концепции, в которой привилегии базировались главным образом на военной силе. То же самое можно сказать о духе римских законов, которые в IV в. Юстиниан собрал в один монументальный труд. [69]69
При Юстиниане под руководством Трибониана было кодифицировано все римское законодательство, получившее общее название Corpus juris: император скиеуказы («Кодекс Юстиниана» в 12 книгах); извлечения из сочинений правоведов («Дигесты» в 50 книгах); руководство законоведения («Наставления» в книгах) и «Новеллы» (примечания на греческом языке).
[Закрыть]Таким образом, политические образования варваров противопоставлялись западным по протоисторическому образу жизни; долгое время это были варварские войска, лагерями располагавшиеся на территориях, которые снабжали их продовольствием, и лишь позже они организовали территориальные государства. Внешняя политика новых королевств не брала в расчет покоренные народы: это была политика готов, вандалов, франков, бургундов, а не смешанных обществ, образованных в результате слияния или наложения разных народов. Если сказать более точно, это была персональная политика варварских королейконунгов. Долгая история германцев, славян и объединений, рожденных в процессе миграций, представляла собой лишь непрерывную серию альянсов и конфликтов, в которой нередко можно было увидеть, как один и тот же народ или племя с поразительной скоростью меняет свою политическую ориентацию.
Врагом была не только Римская империя или Византия: новые государства вступили друг с другом в борьбу за новые земли, не руководствуясь при этом ни этническими, ни религиозными соображениями.
* * *
В Европе миграции не встречали каких-либо природных барьеров; переселения не имели иных границ, кроме морского побережья на крайнем Западе, и поэтому переход к оседлой стадии на Западе произошел быстрее. В то время как на Балканах и части Восточной Европы политика Византии прилагала все усилия, чтобы воспрепятствовать вторжению и расселению варварских племен, на Западе начиная с IV в. ничто не могло помешать созданию и укреплению новых государств. Производство благ и экономика находились в руках зависимых народов, и варвары были вынуждены, для того чтобы осуществлять контроль над ними и взимать налоги, согласовать свои организационные формы с римскими структурами, и чем более протяженными были завоеванные территории, тем более рассеянным становилось их население. Эта ситуация, вероятно, объясняет новое стремление королей ограничить роль древнего собрания свободных воинов, по сути демократического института, и заменить его советом короны, который пришел на смену собранию, избиравшему короля, и намного меньше ограничивал его абсолютную власть. Военные предводители, следовательно, были заинтересованы в образовании государств, по крайней мере в юридическом и политическом плане: они стремились лишь перенять методы централизации римского государства в эту позднюю эпоху. Монархия поздней империи поражала их своим блеском и престижем, но еще больше тем, что она ограничивала власть императора намного меньше, чем власть, которой располагали племенные вожди варваров. Это притязание послужило поводом для борьбы в рамках остготского государства, связанного с исключительной личностью Теодориха.
Теодорих оказался перед лицом сложнейшей ситуации. Как официальному представителю Византии, где он был консулом и военачальником, ему было поручено освободить Италию от узурпатора Одоакра. Но Италия по-прежнему оставалась древним центром империи: Рим был не только местонахождением сената, но и резиденцией папы, духовного лидера, авторитет которого только возрастал за счет несостоятельности политической власти. Все более тяжелые отношения папства и Византии еще больше осложняли политические отношения между восточным двором и королем готов. Сверх того, приходилось гарантировать своим сторонникам сохранение арианской веры. Жесткое разделение военных функций готов и гражданских функций римлян было только теоретическим. Военная власть не упускала случая, чтобы выйти за установленные границы. Противоречия между обычным правом германцев и юридическим сознанием римлян не могли, с другой стороны, быть сняты эдиктами короля, несмотря на усилия последнего примирить два противодействующих принципа. Если экономическая проблема была частично решена благодаря импульсу со стороны земледелия – продовольственной базы меньшинства завоевателей, то в культурном плане оппозиция оставалась явно выраженной: готы отвергали римскую цивилизацию. Попытки короля достичь согласия с римским элементом – длительная благосклонность по отношению к римским ученым и интеллектуалам, политические функции, которые им доверялись, – свелись в конечном итоге к чисто формальным мерам. Их военачальниками являлись германцы, но король сохранил в должности римлян, служивших при дворе и в сенате. Он активно заботился о том, чтобы выглядеть не как предводитель варваров, но как представитель и источник императорской власти и узаконить свою власть в глазах покоренных римлян, – он облачался в пурпур и носил императорские знаки отличия. «Теодорих, король Божьей милостью, прославленный в войне и в мире» – гласит надпись в Равенне: Rex Theodoricus favente Domino et bello gloriosus et otio.Впрочем, этот король народа воинов, казалось, не любил войну. Он осознал, что период мира ему необходим, для того чтобы достичь двух целей: создать единое государство римлян и готов и сделать свое королевство политическим центром западного мира. Хотя это так и осталось мечтой, попытка политического объединения стала, несомненно, наиболее оригинальным проявлением гения Теодориха.
Политика короля готов проясняет нам ситуацию V–VI вв. – ситуацию стремительного упадка Западной империи: две основные составляющие новой европейской реальности оставались еще слишком чуждыми друг другу, чтобы отказаться от своей исключительности, от своих традиций и своего духа ради объединения. Возможно, проявляя меньший талант, короли вестготов в Испании и вандалов в Африке сталкивались с аналогичными трудностями. Их власти не удалось глубоко укорениться в толще романизированного пласта: несколько десятков лет не могли стереть века романизации. Перед лицом крепкой политической организации и грозного военного могущества эти варварские меньшинства оказались не способными сопротивляться: готы Италии и вандалы Африки быстро уступили при попытке отвоевания земель, предпринятой Юстинианом.
* * *
Однако в ту же эпоху варвары нашли путь к успеху в Галлии. Галло-римская среда своим устройством существенно не отличалась от африканской и испанской: государство Сиагрия сохранило римскую структуру. Но франкам, более прагматичным, удалось заложить фундамент, на котором два века спустя Карл Великий возведет грандиозное здание своей империи. Хлодвиг, возможно менее образованный, чем Теодорих, и отнюдь не превосходивший его в знании империи Востока, ловко используя римскую организацию, добился, однако, более тесного сближения двух народов. Он реализовал их духовное единство, которое обратило его и франкскую аристократию в католицизм. Отныне франки были интегрированы в западное сообщество, которое своим духовным центром признавало резиденцию папы римского. Папство и Византийская империя, несомненно, способствовали реализации политической программы Хлодвига, но именно ему самому и франкам, которые не колеблясь вступили на путь интеграции, принадлежит заслуга создания условий долговременного соглашения. Исключительная разумность этой политики становится очевидной, если учитывать слабость, присущую франкскому государству, разделенному по праву наследования между многочисленными правителями и раздираемому амбициями аристократии. [70]70
Последние годы правления меровингских королей ознаменовались ростом крупного землевладения и частной власти крупных земельных собственников и зарождением нового феодального уклада. Поэтому уже при сыновьях Хлодвига произошло сильное ослабление королевской власти, что впоследствии привело и к смене королевской династии (751).
[Закрыть]Эта ситуация была вызвана несостоятельностью королей и, кроме того, глубокими различиями в структуре между западной частью домена, где сохранялась галлоримская организация, и восточной частью, верной своим исконным порядкам. Монархия Хлодвига играла роль катализатора; франкское право явно, сознательно искало путей примирения германской и римской систем. Дух франков, более реалистичный и независимый, чем у готов и вандалов, слишком послушно воспринявших восточный пример Византийской империи, характеризует их как истинных основателей средневековой организации. Именно у них феодальная система оформилась юридически и начала реализоваться на практике. Средневековый феодальный строй привел также к встрече двух различных традиций: традиции римского патроната, которая все чаще побуждала humiliores [71]71
Унижаемых (лат.).
[Закрыть]искать покровительства potentiores [72]72
Власть имущих (лат.).
[Закрыть]и которая со временем заменила прежнее право, и германской концепции необходимости аристократии, концепции, происхождение которой связано с племенной организацией и которая предполагала на самом деле расширение территориальных владений, управление ими и их защиту. Но, жалуя бенефиции [73]73
Бенефиции (от лат. beneficium – благодеяние, милость) – в раннем Средневековье этот термин обозначал земельное пожалование на условии выполнения конной или иной службы. После смерти жалователя или получателя земли возвращались собственнику или его наследникам.
[Закрыть]своим верноподданным, король тем самым способствовал настоящей децентрализации. [74]74
Бенефициальная реформа была осуществлена при майордоме Карле Мартелле (715–741). Невзирая на то что на первых порах эта реформа позволила усилить центральную власть, в то же время она способствовала установлению и укреплению личных связей между жалователем и получателем, то есть формированию в дальнейшем вассально-ленных связей, что в свою очередь усиливало военное влияние крупных магнатов и в конечном итоге привело к политической децентрализации.
[Закрыть]
Несомненно, в феодальном феномене германский элемент одержал верх над римским. У ряда народов, история которых также начиналась с миграций, например у славян, всякое влияние римского прошлого исключалось: несмотря на очевидные аналогии, процесс феодализации здесь происходил иначе. Но это различие процессов отнюдь не было полным. И можно сказать, что феодальная система представляет один из общих аспектов средневековой Европы.
* * *
Домениальный строй, по существу сельскохозяйственный, повлек за собой упадок городов и всего того, что было связано с городской жизнью; он характеризует феодализм с экономической точки зрения и представляет собой, как было точно подмечено, временную систему; он привел к закату античного мира и подготовил наступление новой эпохи. Экономика такого же обширного комплекса, как Римская империя, логически не могла продолжать существовать в столь различных структурах. Впрочем, экономически Европа значительно расширилась. Экономическая реальность со временем сообразовывалась с исторической. Скандинавские племена варягов, которые предприняли завоевание русской равнины и основали там Киевское государство, [75]75
По-видимому, речь идет об одной из теорий происхождения первого русского государства – Киевской Руси, согласно которой славянские племена были завоеваны и завоеватели образовали здесь свое государство. Эта теория вполне вписывается в историю происхождения варварских королевств на Западе. Но существует и другая теория, согласно которой сларянские племена сумели отстоять свою независимость, а впоследствии добровольно призвали варяжских князей.
[Закрыть]придали до тех пор невиданный импульс торговле, которая от Балтики до Каспия и отдаленных евро-азиатских окраин развивалась, как мы видели, с доисторических времен. Очень древние дороги стали вновь использоваться. Эти дороги, важные с доисторических времен, но разделенные римским лимесом, были соединены, образовав западную дорожную сеть, благодаря движению мигрирующих групп, в частности гуннов, аваров и аланов.
Искусство отражает нестабильность этой эпохи, когда одно за другим создавались неустойчивые образования, завоевания чередовались с новыми перемещениями и миграциями. Европейское искусство за пределами Римской империи представляет собой искусство кочевников. Так же как у скифов, это прежде всего мобильное искусство. Опыт, приобретенный в скифо-сарматском пространстве во времена ранней империи, быстро распространился на Западе. Украшения западных провинций свидетельствуют о внимании к цвету, сочетаниям полудрагоценных камней, эмалей и золота. Но фигуративная составляющая этих изделий весьма посредственна. Преобладание цветовых решений сопровождается возвращением к геометрическому декору и использованием эффектов поверхности – блеска металлов и сияния камней. Азиатские влияния, принесенные кочевниками из Южной России и с Кавказа, ставшие наиболее ощутимыми после вторжений гуннов, сохраняли контакт с Центральной Азией и Дальним Востоком. Евро-азиатский характер искусства варваров очевиден. Собственно римское искусство поздней империи также дорожило цветом и уже продемонстрировало тот роскошный стиль, которым воспользовалась впоследствии Византия. Между двумя мирами, римским и византийским, с одной стороны, и варварским – с другой, происходил непрерывный тесный обмен. В производстве золотых и серебряных украшений поздней империи очень часто использовалась техника клуазоне (перегородчатая эмаль) и шамплеве (выемчатая эмаль), филиграни и грануляции. По всей Европе распространились великолепные ткани и красочные ковры, а вместе с ними – декоративное своеобразие Азии. Долгое время лишенные архитектуры и постоянных сооружений, германские, азиатские и славянские народы больше прельщались искусством декорирования тканей, кож, парадного оружия и украшений. Это также обусловлено их экономикой и культурными предпочтениями.
Азиатские заимствования, передаваемые от одной племенной группы к другой, смешивались с другими элементами, столь же значительными, связанными с древними континентальными основами. Искусство германского народа по своей манере и техникам соотносится с искусством Ла Тен, что объясняется не только значительным распространением латенской культуры по всему континенту, но и общими древними основами, истоки которых уходят в более отдаленное континентальное прошлое. Германское искусство столь же фантастично, сколь кельтское, но, возможно, менее склонно к барочному изобилию, предпочитая геометризированную ритмичность и симметричные композиции. После миграций кельтское искусство, еще долго процветавшее на западных окраийах древнего мира – в Британии и Ирландии, увековечит эту традицию, интегрировавшись в культурный комплекс, из которого позже выйдет средневековое искусство. Другие импульсы пришли из Скандинавии, где исконные темы сочетались с древними или недавними заимствованиями, принесенными по континентальным дорогам. Испытывая эти различные влияния, новое искусство стремилось охватить весь древний мир, локальные проявления этого сложного искусства крайне разнообразны, но свободный обмен способствовал повсеместному распространению большинства элементов.
Переселенцы, обосновавшиеся на территории империи, переняли ее архитектуру, но только применительно к VIII–IX вв. действительно можно говорить об оригинальной европейской архитектуре, возникшей в новой исторической ситуации. Распространение христианства, с другой стороны, способствовало распространению как на Западе, так и на Востоке форм и концепций средиземноморской эстетики, которые оказали глубокое влияние на континентальную среду. Использование образов было необходимостью для христианского культа и апостольства, и эта потребность способствовала подъему фигуративного искусства в средневековой Европе, вопреки иконоборческим тенденциям VIII в., которые, впрочем, нашли отклик только на католическом Западе. Конечный триумф иконопочитания на Востоке обусловил расцвет образного искусства славян. Так впервые во всей Европе утвердилась потребность в образных изображениях. Влияние христианской иконографии ощущалось даже у народов, долгое время сохранявших верность язычеству, в частности у народов Северной Германии и Скандинавии.
Богатое мифологическое наследие западных кельтов и германцев свидетельствует о христианских заимствованиях, так же как мифология славян. Славянские национальныекорни, недостаточно изученные в деталях, несут на себе следы северных влияний, принесенных варягами. Византийское евангельское учение, распространяясь к северу, соединялось с другими элементами. Германские легенды, до того как были зафиксированы письменно, представляли собой смешение очень древних мифов, отражающих космогонические представления, и более поздних легенд, прославляющих подвиги героев – современников миграций и завоевания Запада. Сказания и легенды, которые дошли до нас, не дают нам ясного представления о традициях, предшествовавших Средневековью; тем не менее они показывают, что переход, впрочем умело подготовленный некоторыми миссионерами, от иррационального язычества варваров к христианству происходил без тех конфликтов и сопротивления, которые сопровождали противостояние рационального язычества классической Античности и религии таинств. Многообразные верования, которые не могли быть организованы рациональным образом, уступили место христианской универсальности и сохранились только в мифах, сказках и иных фольклорных формах.