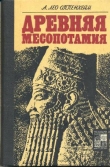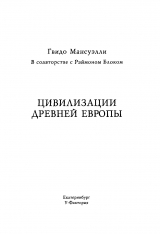
Текст книги "Цивилизации древней Европы"
Автор книги: Реймон Блок
Соавторы: Гвидо Мансуэлли
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц)
Равным образом эволюция городов проявляется в политическом плане. Синойкизм повсеместно расширил рамки города. Те, что не зависели от крупных монархий, объединялись в конфедерации, где каждый город отказывался от части своей политической автономии в пользу федерального организма, как было, например, в Этолии и Ахайе. В лоне монархии они находились под контролем правителя, который ограничивал некоторые проявления их автономии. Свободно организованная политическая жизнь, не имея иных ограничений, кроме собственных законов каждого города, оказалась здесь в тесных рамках или ограничивалась административной деятельностью. Даже в независимых городах, таких как Рода, конституции приняли функциональный характер, как смешанные конституции колониального происхождения, которые, как мы знаем, восхвалял Аристотель. Цари увеличивали число этих функциональных структур, что позволяло им организовать контроль и избегать идеологических дебатов. Морские выходы составляли нервные узлы демографической сети внутренних территорий, а города перестали быть свободными и автономными сообществами, чтобы стать, по сути, экономическими центрами, жизнь в которых была более преуспевающей. Доступные варварам так же, как грекам, они больше не являлись тем элементом, тем диалектическим пределом, противопоставившим цивилизацию и варварство, как в классическую эпоху.
В культурном плане Аристотель, которого можно считать теоретиком эллинизма, хотя он и был учеником Платона, в историческом поиске ориентировался на изучение человеческих деяний и, вместо анализа и интерпретации современных событий, обратился к изучению более общих сюжетов, чтобы установить универсальную хронологию, привлекая эрудицию и географические и этнологические исследования.
Расширение мира спровоцировало в науках, имевших тенденцию сводиться к науке о логике, новые открытия, которые выразились в развитии естественной истории, географии и астрономии. Литературная история, основанная Аристотелем, принимается за критическое изучение греческого прошлого, намеченное в общих чертах и начатое гомеровскими поэмами. Эллинизм подводит в некотором роде итог всему предыдущему опыту Греции, результаты которого были осознаны. Этот гуманизм, распространенный в различных панэллинских кругах, выразился в философских доктринах, прежде всего посвященных проблемам человека и человеческому предназначению, разумеется в общем смысле, независимо от времени и места: философия, подвергшись влиянию натурализма научного происхождения, оказалась ближе к морали, чем к метафизике. Сам Александр оставил изучение мифов и политических систем ради проблем человеческой души. Лисипп противопоставил концепции Поликлета свою концепцию личного понимания сюжета. В то же время Лисипп и Апеллес создали в искусстве направление, которое привело к разрыву с классической формой, хотя сами они целиком были классиками. Что касается Гермогена, этот архитектор, влияние которого было огромно, вновь ввел в обращение ионийский опыт, противопоставив новые методы жесткой дорической системе.
Так положено начало универсальному космополитическому духу, который стал кульминационной точкой греческой цивилизации и который можно объяснить лишь длительной разработкой. Греческому языку суждено было стать языком всей восточной части древнего мира. Происшедший по сути из ионийского и аттического языков, употребление которых преобладало при дворе Александра и на большей части Эгейского сектора, греческий язык стал лингвистическим койне – смесью диалектов – нового греческого мира. Этот процесс отбора, влияя в целом на цивилизацию, позволил исключить все, что не соответствовало потребностям новой исторической реальности. Именно благодаря этому эллинистический опыт приобрел свойства, которые сделали его доступным для всех.
Можно задаться вопросом, действительно ли и всецело Античность приняла классицизм? Существует большое искушение усомниться в этом. Эллинизм своей эрудицией и мыслью, своим особым художественным видением реорганизовал классицизм, установив шкалу ценностей иучредив некую иерархию поэтов и философов, скульпторов и художников, государственных и военных деятелей. Она также подтвердила концепцию классицизма, которая только в наши дни – можно с уверенностью сказать – была заменена более приемлемой точкой зрения в результате современных исторических, археологических и философских изысканий. Мы так превозносили классицизм, особенно в его художественных проявлениях, что считали эллинизм декадансом греческой цивилизации. Именно эллинистическая критика провозгласила это негативное суждение, и – повторим – только в наши дни мы узнали истинную историческую роль эллинизма. Устойчивое противоречие в греческом сознании – одно из потрясающих открытий этой цивилизации – иногда приводило к довольно жесткой фиксации категорий. Но в конечном счете эллинский дух скорее представлен эклектическими попытками в области искусства и философии примирить традиции и различные опыты стараниями, которые прилагались с целью найти новый язык. Возможно, в вопросе эстетики и умозрительных построений результаты были порой достаточно скромными, однако достоинство подобных усилий не стоит недооценивать. Это проявляется в наивысшем достижении эллинистического искусства – фризе знаменитого алтаря в Пергаме, где многочисленные заимствования были интегрированы и идеализированы в оригинальном индивидуальном видении. Мифологическая эрудиция здесь частность, а ставка сделана на использование космической концепции, которая возвышает старую тему войны гигантов над всеми второстепенными эпизодами. В целом это можно считать величайшим достижением греческого искусства.
Еще одно замечание: эллинизм, несмотря на избыток поэтов и мифографов, в большей степени воплощался через образы фигуративного искусства, чем через образы поэзии. Этот космополитичный мир возвращал к архаичным взглядам и признавал, что язык форм легче воспринимается, чем язык слов.
При сопоставлении фактов и проблем, связанных с цивилизацией, история царств диадохов представляется вторичной, так же как соперничество греческих полисов было в свое время общим фоном для классической эпохи. Их судьбы похожи: и те и другие были истощены в бесплодных войнах за главенство. Два разных государства, римлян и парфян, в итоге были уничтожены, и их место в борьбе за первенство на Ближнем Востоке было занято. Тем не менее если иранский натиск и повлек за собой упадок эллинистических государств, то он не уничтожил на Востоке культурной традиции, введенной эллинизмом. Что касается римлян, их роль была на самом деле иной: именно они проделали работу по распространению эллинистической цивилизации на Западе, сначала в Средиземноморье, а затем на значительной части континента, по мере его завоевания.
Часть третья
Континентальная Европа
Глава 9 ЕВРО-АЗИАТСКИЕ ПОТОКИ. СКИФЫ
Древние оставили нам представление о Евразии как о мире без границ. Народы, которые населяли его, скрыты за пеленой легенд и неясных традиций и не поддаются хронологическому определению. Благодаря археологическим находкам, сделанным в течение XX в., и особенно в его последние десятилетия, русскими учеными, наши знания в этой области далеко продвинулись. Раскопки значительно расширили зоны, имеющие сходные признаки. Невероятное расстояние, которое разделяет окраины этого мира, несомненно, сказалось на отношениях и товарообмене – это замечание станет наиважнейшим в связи с установлением относительной хронологии, – но отсутствие крупных естественных препятствий способствовало этим отношениям больше, чем что бы то ни было. К востоку Европы стекались – и археологические данные показывают это лучше, чем историческая традиция, – не только пробные движения, но целые потоки, пришедшие со Среднего и Дальнего Востока, из Индии через Иран, из Китая и Монголии через Алтай и степную зону. Сам Алтай знаком с цивилизацией, очень близкой в различных аспектах к цивилизации скифов в их историческом устройстве: погребения, движимое имущество, и прежде всего художественные формы, представляют многочисленные аналогии, а также явные хронологические соответствия.
Киммерийцы, скифы и сарматы поочередно заняли район Понта, к которому тяготели основные интересы греческих городов и азиатских государств, находящихся в контакте с эллинистической цивилизацией; вот почему наши знания об этих народах достаточно прозрачны, хотя не исключают легендарных и фантастических данных. Наш основной источник – «История» Геродота, вокруг которой можно сгруппировать всю серию классических источников; упомянем, кроме того, ассирийские документы предшествующей эпохи и аллюзии китайских источников. Именно благодаря этим контактам окраинных земель народы Востока заняли место в истории древнего мира.
В IX–VIII вв. до н. э. степи, расположенные к северу и востоку от Казахстана, которые видели развитие цивилизаций Андроново и Амирабад, были заняты народами кочевниковвсадников – киммерийцами. Они совершали опустошительные набеги вплоть до Малой Азии; некоторые ученые обнаружили следы их присутствия в Центральной Европе и Италии, но, возможно, речь идет всего лишь о предметах, имитирующих восточные формы. В эту эпоху Ближний Восток испытывает встречный удар азиатских событий. В самом деле, китайский император Суан теснит к западу Гиунг-Ну, племя воинственных кочевников Центральной Азии, которые иногда считались предками гуннов: именно они потеснили своих западных соседей, которые со своей стороны напали на племена, жившие еще западнее. Массагеты, осев в верховьях бассейна Оксуса (в настоящее время Амударья), были вовлечены в это общее движение: они заняли территории скифов, которые напали на киммерийцев понтийских степей. Последние, признав поражение, отдают свои территории противнику, уходят через Кавказ и сосредоточиваются в Урарту, где их настойчиво преследуют скифы. Так исчезло Урартское царство; в стенах среди развалин крепостей Армении еще можно увидеть характерные для скифов трехгранные стрелы. Быстрые разрушения объясняются вторжением скифской конницы: впервые Юго-Восточная Европа испытывала потрясение от действий организованной конницы. Киммерийцы нашли последнее прибежище в Малой Азии. Опустошая Фригию (595 г. до н. э.) и Лидию, они грабят греческие города ионийского побережья и исчезают из истории. В то же время скифские племена, оставшиеся в Западной Азии, достигли окраин Ассирии, с которой они станут союзниками: неутомимые, они устремились через Средний и Ближний Восток и достигли Египта, где фараон Псамметих I заплатил им дань, чтобы они ушли (611 г. до н. э.). Но мидийцы, целью которых было захватить Ниневию (612 г. до н. э.), разворачиваются против них. Скифы, разбитые, вновь пересекают Кавказ и остаются в Южной России. Так после долгих волнений восстановился баланс сил, а скифы вступили в период интеграции и ассимиляции покоренных народов. Их размещение к северу от Черного моря совпадает с греческой колонизацией: от устья Дуная до Кавказа побережье было усыпано греческими городами, основанными Мегарами и прежде всего ионийцами Малой Азии: Тир на Днестре, Танаис на Дону, Ольвия, которая контролировала одновременно устья Буга и Днепра, Пантикапей в Крыму – наиболее значительные. Они стали морскими посредниками скифской экономики: как мы увидим дальше, это способствовало ее процветанию в торговле с Грецией.
В 514 г. до н. э. Ахеменид Дарий I, правитель персов, который завоевал Малую Азию и покорил ионийские города, организовал кампанию против скифов. Его успех удвоился: европейская Греция была лишена основной части снабжения и были ослаблены формирования, которые могли угрожать на севере новой империи «великого царя». Он пересек Геллеспонт и, совершая окружной маневр, начиная с Фракии, проник в Скифию. Но его попытка потерпела неудачу перед тактикой выжженной земли, используемой скифами: они отступили вглубь, опустошая все на своем пути, персидская армия была вынуждена продвигаться по пустыне. Согласно рассказу Геродота, их царь ответил на послание, которое отправил ему Дарий, вызвав этим тщетную погоню за неуловимым врагом. Эта стратегия была естественной у кочевников, которые не имели ни городов, ни постоянных защищенных поселений. Греки, пользуясь неудачей персов, объединились со скифами для совместных действий; но Спарта отстранилась, беспокоясь, скорее всего, о вероятных последствиях внутри Греции и последствиях персидского контрнаступления. Несколько лет спустя, в битве при Марафоне (490 г. до н. э.), она не пришла на помощь Афинам. Скифы заняли Фракию, которая была включена в сферу афинского влияния; Херсонес управлялся афинянином Мильтиадом. В V в. до н. э. Афины пришли на смену ионийским метрополиям, оккупированным персами, и захватили инициативу в организации торговли в понтийском регионе. С тех пор связи, которые объединяли греческие города и скифов, выходят на свет: противники первых оказались также противниками вторых.
В пределах степи образовалось конфедеративное государство, которое включало полуостров Тамань и племена Кубани, а также коренные сообщества, группировавшиеся вокруг Пантикапея, которые были подчинены в первые десятилетия V в. до н. э. власти Археанатидов, выходцев из Ионии, – власти, которую Диодор представляет как настоящую наследственную монархию. Пантикапей, крупный портовый и производственный центр со смешанным греческим и скифским населением, занял главенствующее положение в Боспорском царстве, в первую очередь экономически. Кроме греков и скифов в этом участвовали фракийцы – именно от них произошла династия Спартокидов, которые управляли Пантикапеем начиная с 40-х гг. V в. до н. э. Археанатиды и Спартокиды укрепляют греческий элемент, объединяя в греческой системе несколько новых городов, но этим они способствовали, тем не менее, развитию коренного населения, которое извлекло из этой интеграции значительную выгоду. Боспорское царство было культурным и экономическим посредником между греческим миром и Скифией, находившейся под властью кочевников. Его политическая оригинальность заключалась в примирении монархического режима и полисного строя (Ростовцев), что отразилось в двойном названии местных правителей: архонты по отношению к грекам и цари (басилевсы) для коренных жителей, – предвосхищая аналогичные компромиссы эллинистической эпохи. Греко-скифское искусство иллюстрирует этот синтез, параллельное и взаимное превозношение его составляющих. Филэллинизм скифов и факт, что политический горизонт греков не ограничивался узкими приморскими зонами, объясняют нейтралитет последних перед проникновением скифов на Балканы. Они достигают Румынии в середине IV в. до н. э., возможно, под давлением сарматов, своих восточных соседей. Это были кочевники, принадлежавшие к той же лингвистической группе, что и скифы, и к достаточно близкой цивилизации, хотя в целом и немного более отсталой. Этот воинственный народ, где молодые девушки сражались наравне с мужчинами, породил миф об амазонках задолго до их появления в историческом и этнографическом пространстве греков. Но скифская экспансия была остановлена Филиппом II Македонским, ставшим повелителем греческих городов. Немного позже Александр Великий, в то же время, когда он готовился напасть на Персию, отправил против них экспедицию, опиравшуюся на силы кельтов. Разгром македонских войск был, тем не менее, следствием временного скифского отступления ввиду сарматской угрозы, все более настойчивой, отзывавшей на Восток, тогда как кельтские объединения были склонны направить свои силы скорее на балканские авантюры, чем на помощь грекам в Ольвии, о которой те настойчиво просили. Кельты, на самом деле, настойчиво продолжали наступление вплоть до территорий, непосредственно прилегающих к Босфору.
Македония, ослабляя мир греческих городов, способствовала иранизации смешанной среды северного побережья Понта. Ее политическая роль переместилась в Азию, где на руинах империи Ахеменидов образовались государства диадохов; в то время как сама Македония была уменьшенным придатком греко-азиатской системы, греческие города Северного Понта оказались во власти скифов. Эта ситуация сказалась особенно в Ольвии, древней милезийской колонии, которая еще недавно была могущественным посредником между скифскими племенами и греческим миром. В итоге город полностью оказался в руках скифов; их царь Скилур к 110 г. до н. э. начал чеканить свою монету. В то же время в районе Крыма, организованном по эллинистическому типу, на пространстве между Кубанью и Дунаем, распространялись за счет греков скифские элементы. Компромисс Спартокидов со временем стал недопустимым. В конце концов греческие города вынуждены были обратиться за защитой к правителю Понта Митридату VI Евпатору, который заменил локальные династии, а затем, после поражения, которое ему в Азии нанес Помпей (66 г. до н. э.), сконцентрировал на Босфоре все оставшиеся силы в целях наступления на Рим. Но этот замысел потух после его смерти, а Боспорское государство, входившее тогда в орбиту римских интересов, стало вассалом империи, тогда как скифский элемент оказался полностью раздробленным.
* * *
Таковы главные направления истории скифов – народа, который античные авторы считали самым древним на земле. Их иранское происхождение несомненно, даже если они смешались с другими элементами. Лингвистические исследования и топонимика подтвердили эти многообразные смешения: новые переходы на незаселенные пространства и взаимодействия осуществлялись тем более легко, что кочевники занимали огромные пространства и имели ничтожную демографическую плотность. Добавим к этому союзы с покоренными народами.
Национальная традиция связывает происхождение скифов с мифическим царем Колаксисом: он разделил свое государство между тремя своими сыновьями, отсюда появилось деление войск на три части, которое сохранялось в течение многих веков. Геродот, вернувшийся в Ольвию, чтобы собрать материалы об этом народе, выделил несколько племен скифов-земледельцев и скифов-кочевников – первые подчинялись «пахарям», а другие – царским скифам, обосновавшимся на берегах Дона. По ту сторону реки, согласно Геродоту, вплоть до Уральских гор простиралась обширная зона смешанных, наполовину греческих, этносов, естественно ограниченная горами. Некоторые оседлые народы, возможно в большей степени смешанные, были покорены всадниками, которые образовали аристократию, напрямую подчиненную царям. Археологические данные указывают, кроме того, на многие аспекты их экономики, социальной жизни и организации.
Для кочевников основным ресурсом являлось скотоводство: оно снабжало продуктами, давало материал для одежды и позволяло, кроме того, проводить свою политику на обширных территориях. Скифы – мы уже говорили об этом – появились в истории как первый в евро-азиатском пространстве крупный народ всадников. Данная территория характеризовалась условиями, особенно благоприятными для земледелия, следы которого обнаружены в южных пределах современной России и свидетельствуют о том, что часть кочевников адаптировалась к оседлому образу жизни, к экономике, по сути своей земледельческой. Эта эволюция в некоторой степени параллельна эволюции кельтов Галлии. Кроме того что они жили в деревнях, пахари отличаются от кочевников также религиозными институтами и наличием храмов. По уровню их экономика не сравнима с экономикой степных кочевников, а социальное неравенство у них было менее явным. Именно им принадлежит заслуга в реализации экономической интеграции с греческими городами и факториями, через которую скифский мир вошел в жизнь Средиземноморья. Греки нуждались прежде всего в зерне – бедная земля их родины не способна была прокормить непрестанно увеличивающееся население. Продукты рыболовства, особенно тунец и осетр, и скотоводства – мясо, молоко, кожи – становились объектами торговли, так же как рабы. Кроме вина, до которого они были большие любители, бижутерии и керамики, скифы покупали предметы из металла. Последняя деталь остается неясной, поскольку сами скифы были известными металлургами: греческая импортируемая продукция, то есть произведенная не в прибрежных городах Понта, не выходила за пределы соседних с морем регионов. Художественная индустрия греков Понта, о которой мы поговорим позже, адаптировалась к стилю скифов, не без принуждения. Возможно, речь идет о настоящей конкуренции между греческим и скифским производством, в которой экономические обстоятельства сопровождались политическими действиями и сменой тенденций. Город Ольвия распространял свою продукцию в основном во внутренних регионах, вдоль Днепра до Киева и частично в верховьях Днестра и Верхнего Бута; на востоке она обнаруживается вплоть до Среднего Урала, но лишь спорадически.
Нужно разделять на необъятном пространстве скифского влияния экономику западную, сосредоточенную в греческих и грекоскифских городах Черного моря, населенных скифами-пахарями, таких как Каменское и Никополь, и основанную на различных, дополняющих друг друга элементах – земледелии, скотоводстве, индустрии. Драгоценные металлы поставлялись с Уральских гор, с которыми связана легенда об Аримаспе – хранителе великих сокровищ. Этот сектор характеризуется открытостью для морских отношений и доминированием скифов-кочевников, могущественной аристократии, о богатстве которой свидетельствует убранство курганных погребений. Большое количество греческих амфор доказывает продолжительность отношений с эллинистическим миром: Аттика была, особенно в V–IV вв. до н. э., одним из наиболее активных центров скифского товарообмена. Внутренние территории поддерживали интенсивные и непрерывные торговые отношения с Персией и, более или менее непосредственно, с Востоком. Напротив, восточная экономика, как показали находки на Алтае, основана на кочевом земледелии, отношениях большой амплитуды, от Китая до Персии, и в основном на караванной торговле. Поразительные культурные аналогии между этими двумя пространствами наталкивают нас на мысль, что они образовывали фундаментальное экономическое единство, имевшее вариации лишь в деталях, зависящих от окружающей среды. Охота и рыбалка повсюду занимали важное место в снабжении пищевыми продуктами и обеспечивали, кроме того, особенно охота, необходимым сырьем ремесленников.
Скифы, несомненно, были самым богатым народом Античности благодаря золоту. Изобилие этого металла в украшениях, вооружении и конской сбруе остается объектом изумления, хотя скифские могилы были разграблены в различные времена, древние и относительно недавние. Огромное количество драгоценных предметов, привезенных или произведенных на месте, кожи, ткани, меха производят впечатление невероятной роскоши и свидетельствуют о контактах, гораздо более широких, чем контакты любой другой западной страны.
Цари и члены крупных аристократических семей были обладателями огромных ресурсов. Подробное описание захоронений на Алтае очень показательно в этом отношении. Скифы, согласно общему доисторическому обычаю, верили, что найдут в потустороннем мире условия земной жизни: погребения содержали все то, что принадлежало умершему при жизни, включая жен, рабов и лошадей. Число этих животных, принесенных в жертву в момент погребения господина, варьируется в зависимости от зон; в некрополях Кубани их насчитывается несколько сот. Этот погребальный ритуал доказывает, что разведение лошадей, использовавшихся в качестве транспортного средства, необходимого и в земледелии, и в войне, было как раз одним из наиболее важных ресурсов. С другой стороны, факт, что в более бедных захоронениях обнаруживается лишь небольшое их число, даже если они не были просто символически принесены в жертву, подтверждает ощутимое неравенство в распределении богатств.
Рассмотрим подробнее европейский сектор, который непосредственно интересует нас. Археологические находки позволяют сегодня представить эволюцию, немного отличную от традиционной точки зрения: между VIII и VII в. до н. э. на правом берегу Днепра появляются небольшие укрепленные поселения, которые были оставлены к середине VII в. до н. э. – в эпоху, когда образуются более обширные агломераты, оснащенные менее примитивными укреплениями. Переход от ограниченной племенной системы к более обширным сообществам совершился, таким образом, прежде, чем скифы окончательно закрепились на данной территории. Впрочем, здесь сохраняется преобладание последних, что не исключало из жизни предшествующее коренное население, которое было весьма активно ассимилировано, тогда как в степях, от Волги до Азовского моря, оседлое скотоводство уступило место перегонному. Во всей южной зоне и некоторых внутренних регионах, в Киеве, Полтаве, Кракове и на нижних течениях Днепра и Буга, обнаружена целая группа стоянок и некрополей. Обширное поле Каменское, обнаруженное близ Никополя, на берегу Днепра, считается столицей скифской монархии, которая активно развивалась в VI–II вв. до н. э. Занимая площадь более семи квадратных километров, она являлась металлургическим центром, снабжаемым сырьем из железных рудников соседней стоянки Кривой Рог. Внутри города каменные дома, имевшие анфиладу из двух-трех помещений, принадлежали довольно зажиточному классу и занимали ограниченную площадь; а более распространенные скромные жилища были построены из дерева и имели овальную форму.
Современное Каменскому, но не столь значительное поселение Широкая Балка, по-видимому, было в конечном итоге поглощено Ольвией. Многочисленные ямы-хранилища, например в Николаеве, показывают, что основной деятельностью являлось создание запасов зерна, предназначенного для экспорта за море. В качестве хранилищ использовались также круглые хижины небольшой стоянки Немирово, близ Винницы, возникшей в VII в. до н. э. и оставленной в середине V-в. до н. э. Стоянка Карповка носит тот же сельскохозяйственный характер. Поселения Крыма и прибрежной континентальной части почти все оседлые. Существование жилищ, особенно крупных, доказывает, что кочевничество не было общим феноменом; впрочем, практика металлургии и земледелия неизбежно предполагает оседлость населения. Считается, и не без оснований, что эти поселения были заняты смешанными группами, включавшими скифские элементы в стабильную локальную основу.
Город Неаполис (Симферополь) – ключевое место скифской династии в Крыму в позднюю эллинистическую эпоху – является исключением: основанный только в III в. до н. э., своими каменными оборонительными сооружениями и наличием общественных и жилых строений каменной кладки он явно свидетельствует о греческих влияниях.
В континентальной жизни превалировало скотоводство, практикуемое в оседлых поселениях: многочисленных деревень Средней Волги, которые растягиваются до бассейна Оки и дальше на запад до Эстонии, насчитывают, по крайней мере наиболее древних, около пятисот; состоящие из полуземлянок, располагавшихся вдоль рек, эти поселения составляют дьяковский культурный тип, по названию деревни Дьяково близ Москвы. Эти группы были причислены к австро-венгерским народностям. Небольшие размеры поселений показывают ограниченную организацию патриархальных сообществ, которые совсем не имели металлов и широко практиковали костяной промысел. Поэтому подобные деревни получили название «костяные стоянки».
Начиная с VIII–VII вв. до н. э. в бассейне Камы наблюдается развитие достаточно ограниченной цивилизации Ананьино: речь идет о культуре «запоздавшей» бронзы, характеризуемой жилищами, близкими к дьяковскому типу, и некрополями, содержимое которых, весьма богатое, украшено анималистическими и геометрическими мотивами. Напрямую она продолжается в культуре Пьяный Бор, которая определяется к 300 г. до н. э., воспроизводит те же типы сооружений, практикует железную металлургию и использует фигурный и символический орнамент. К ней относят многочисленные культовые холмы, содержащие слои пепла и костей.
Социальная организация базировалась на монархическом режиме на юге и юго-востоке, то есть на территории Кубани, культура которой отличается от собственно скифской цивилизации лишь в деталях, тогда как их общий уровень вполне сопоставим.
Только у царских скифов существовали правители. Чем больше мы обращаемся к внутреннему устройству, тем больше кажется, что социальное единство было фрагментарным; в более южных областях совпадение экономических интересов и возможность интеграции в общую политику привели к образованию сообществ с централизованной властью – за исключением Боспорского царства, – которая подразумевала гегемонию некоторых племен, например царских скифов. Кельтский мир пережил сходную эволюцию. В поселениях, о которых идет речь, прослеживается также очевидный параллелизм с галльским оппидумом: едва ли можно говорить о столицах, они определяются скорее экономическими и стратегическими функциями, чем политическими в узком смысле слова. Распространение во времени и пространстве монументальных родовых захоронений свидетельствует тем не менее об относительной стабильности главных центров скифского мира. Таким образом, традиция, восходящая к Геродоту, который представляет скифов живущими в повозках, не соответствует не только реальности в целом, но и феномену оседлого поселения. Кочевничество, кроме того, не позволяло организовать систему дистриктов, о которой говорит сам Геродот.
Скифская религия скорее всего не подвергалась значительным модификациям с течением времени, и рассказ Геродота, где основные божества обозначены греческими именами, является примером интерпретации, а отнюдь не свидетельством греческого влияния. Скифские культы имели в некоторых городах особенности, но не стоит объяснять их ассимиляцией. Смерть мудрого Анахарсиса, убитого по приказу своего брата за участие в греческих обрядах, и смерть царя Скилы от своих же воинов, после того как его увидели выходящим из святилища Вакха, в таинства которого он был посвящен, – явно свидетельствуют о сопротивлении скифов эллинизации. Первый среди скифских царей, Скила воздвиг дом в Ольвии и предпочитал вести городскую жизнь: возможно, именно здесь кроется основная причина его убийства. Традиция требовала, чтобы правители жили в деревнях, окруженные своими воинами и стадами. Именно поэтому скифское общество, даже частично эллинизированное, все еще оставалось полукочевым в римскую эпоху: росписи гробниц в Пантикапее хорошо это показывают. С другой стороны, легенда об Анахарсисе, царе, влюбленном в мудрость и истину, отражает высокую идею, что греки восприняли духовную жизнь скифов, даже несмотря на филэллинизм. Установлено, по крайней мере, что они культивировали музыку: у них найдены изображения музыкантов со струнными инструментами. Контакты скифов с народами, духовная жизнь которых достигла очень высокого уровня, в частности с китайцами, несомненно, поддерживали эту тенденцию. Они демонстрируют, кроме того, экстраординарный вкус в красоте и декоре предметов – во всем, что касается украшений и вооружения: в их оружии или конской сбруе нет ни одной детали, которая не доводилась бы мастерами до изысканного совершенства. О функциональности этих предметов им как будто было неизвестно: использование золота, металла с очень плохим сопротивлением, доказывает это.