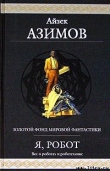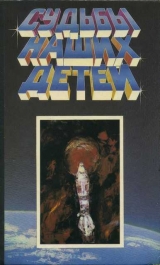
Текст книги "Судьбы наших детей (сборник)"
Автор книги: Рэй Дуглас Брэдбери
Соавторы: Клиффорд Дональд Саймак,Роберт Шекли,Ирвин Шоу,Курт Воннегут-мл,Джеймс Уайт,Фредерик Браун,Зенна Хендерсон,Фредерик Пол,Милдред Клингерман,Томас Л. Шерред
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
– Дэв! – вскричал он, и меня покоробило. – Дэв! – И он схватил меня за плечо и стал трясти. – Вы поймите, вся молодежь с нами! Теперь нас ничто не остановит!
– О господи! – повторил я. Что ещё я мог сказать!
– Теперь мы победим. Мы не можем проиграть. Все к нам присоединятся. Это колоссальный успех, разве вы не видите?
– Нет, – сказал я. – Не вижу. И сними, пожалуйста, башмаки…
– Завтра увидите! – рявкнул он. Потом еще поплясал по комнате и наконец ушел, строя какие-то таинственные планы на завтра.
Ну, вы понимаете, как я к этому отнесся; если сказать, что я был сыт по горло всей этой белибердой, так и то еще будет слишком слабо. Господи, думал я, какие бесы в него вселились? И стал размышлять о пагубном влиянии массовых сборищ на незрелые умы и, как полагается правоверному и подозрительному радикалу, пробормотал раз-другой сквозь зубы: «Нюрнберг!» – и пошел спать. Я был так зол на Гарри, что мигом заснул. (А как правило, я еще добрый час лежу и придумываю, на что бы разозлиться, без этого не могу заснуть. Да, это довольно необычно, я знаю.)
Ну-с, настало утро, и ничего особенного не произошло, насколько я мог приметить. Я терпеть не могу пасхальных праздников. Почти всегда льет дождь, а с нашей трепотней насчет религии мы до того додумались, что и кино на эти дни закрываем. И все время такое чувство, как будто ты должен что-то сделать, а это уж совсем глупо. Одним словом, тощища, не лучше чем рождество. Я все-таки пошел в менгелевскую лавку посмотреть, чтó Гарри затевает, но его там не было. Зато покупателей была тьма, и его бедная мать вертелась как белка в колесе, стараясь все сделать и за себя и за Гарри в этот самый деловой день в году. Она так захлопоталась, что я уж не стал спрашивать, где Гарри. Да и что спрашивать такую бестолковую женщину? Потому что она, по-моему, была до крайности бестолкова, иначе не позволила бы Гарри столько времени тратить на размышления о политике. Будь она верна своему классу, она бы давно это прекратила. Короче говоря, я вышел из лавки, уже готовый взорваться по малейшему поводу, и первое, что я увидел, – это одного из своих учеников, причем отъявленного тупицу, ну я и спросил его – быть может, с излишним волнением, – не видал ли он Гарри. Гарри он, конечно, не видал, но так вылупился на меня, будто хотел сказать, что, видно, у меня не все дома. А больше всего меня возмущает, когда кто-нибудь менее интеллигентный, чем я, смотрит на меня как на полоумного; поэтому я легонько дал ему подзатыльник и уже хотел идти, как вдруг заметил, что он уставился куда-то мимо меня, в конец улицы.
А надо сказать, наша Главная улица не только узкая, она еще прямая как стрела, у нас даже любят отпускать на этот счет шуточки, которых я не намерен здесь повторять. С перекрестка в центре города видно на целую милю в обе стороны. И вот там, вдали, с той стороны, где, надо полагать, находится Олдермастон, двигалась процессия. Первым, заворачивая с дороги, показалось их главное знамя, огромное, черно-белое с красным, а за ним еще разные, всяких цветов. Улица к перекрестку немного спускается, а затем опять поднимается, и мне все было видно как на ладони, и, честное слово, я был потрясен! Думаю, за всю свою историю Картертон не видал ничего подобного.
– Господи, что это такое? – сказал я этому остолопу мальчишке, который стоял распахнув рот, как почтовый ящик. Но он опять вытаращил на меня глаза, словно видел перед собой помешанного, и убежал – должно быть, рассказывать про это своим приятелям.
Тогда я обратился к кому-то стоявшему рядом – и тут только разглядел, что он нездешний, и притом полисмен, – и сказал:
– Но ведь они, кажется, должны были идти по объезду?
– Изменили маршрут, – ответил полисмен. – По особому ходатайству. Мы только сегодня утром получили извещение.
Тут я наконец понял. Гарри добился-таки своего: сумел поразить родной город. Но если он нас одурачил, то и сам попал впросак, потому что народу в этом марше было много больше, чем он рассчитывал. Он думал – пятьсот человек, а куда там, наверно, несколько раз по пятьсот, я, конечно, точно не знаю, но где-то должна быть статистика по этому маршу, можете справиться, если вам интересно. А демонстранты все шли и шли, словно средневековое войско, с флагами, с развевающимися знаменами, совсем как на картинках. Мне припомнилась одна сцена из «Генриха V», недоставало только Лоренса Оливье, который там ведет их в пролом. Но когда головная часть процессии подошла ближе, стали видны и вожаки – человек шесть, и в том числе (как вы, конечно, догадываетесь) Гарри Менгель; кто-то держал другую палку от его плаката, и Гарри вышагивал этаким главнокомандующим – впереди всех, грудь колесом, глаза вперед, как будто опять был в армии. А где-то сзади оркестр играл «Когда идут святые с нами». Очень подходяще.
Ну, когда я его увидел, я почувствовал, нет, это уж слишком, это уж чересчур, так я ему этого не спущу. Я подскочил к ним, выхватил палку у того, кто ее держал, может, он был у них какой-нибудь важный, не знаю, и заорал на Гарри. Что я орал, в подробностях излагать неудобно, но в общих чертах я спрашивал, что он о себе воображает, и каким дьяволом этого добился, и как теперь насчет пасхальных яичек.
– А вот увидите! – прокричал он в ответ, и до того счастливое было у него лицо, что мне жалко стало портить ему удовольствие своими насмешками, и не успел я оглянуться, как уже маршировал рядом с ним во главе этого карнавального шествия, этой идиотской огромной процессии. И когда я видел кого-нибудь из знакомых – а мне чуть не весь Картертон знаком, – я кричал «Присоединяйтесь!» своим самым свирепым учительским голосом, и так как большинство были когда-то моими учениками, то многие – с перепугу, или, из почтения ко мне, или еще по какой причине – в самом деле присоединялись, так что к тому времени, как мы вышли на другой конец города, у нас уже была внушительная группа картертонцев, требовавших запретить бомбу. Не знаю, что на меня нашло, только, когда они, то есть ихние важные шишки, подошли к нам и сказали: «Ну, Картертон, вы получили свою долю славы, теперь отправляйтесь в хвост, к остальным», я хотел треснуть их по головам нашим плакатом. Но Гарри сказал: «Правильно. И большое вам спасибо», и мы отправились в хвост – или, точнее, в середину, потому что до хвоста было бог знает как далеко, – и попали к студентам, и не какого-нибудь университета, а именно Редингского, иначе, конечно, и быть не могло. К этому времени я уже остыл немного и начал соображать, какого свалял дурака, но тут процессия приостановилась, и я смог оглядеть ее всю от головы до хвоста.
По всему городу и еще дальше, по склону холма за перекрестком, двигалась эта процессия, люди пели, махали флагами, шаркали, топали, словно и не было никакого объезда вокруг Картертона, и жизнь вернулась к нам, и все наши поступки имели значение; понимаете, что я хочу сказать? Была минута – я чуть было не прослезился, а уж это очень много надо, чтобы заставить меня не то что пролить слезу, а даже только вообразить, что я могу это сделать, сколько бы там ни было Хиросим на свете, но тут, к счастью, процессия опять двинулась, и эти дураки вокруг нас запели: «Пиво даром для рабочих», и я сразу обозлился. Не выношу, когда интеллигенты прикидываются, будто очень любят пролетариат.
Ну-с, после того как я еще минут двадцать спотыкался под тяжестью нашего плаката, а он, смею вас уверить, был не легонький и при самом слабом ветре рвался из рук не хуже, чем аэростат заграждения, мы наконец остановились на отдых. И тут Гарри показал себя во всем блеске. Когда процессия снова тронулась, он уже стоял на краю дороги возле четырех объемистых ящиков с пасхальными яйцами и каждому участнику марша, будь то мужчина, женщина или ребенок, выдавал по яичку. Я еще постоял там в сторонке, хотел посмотреть, что он будет делать дальше. Что касается меня, я считал, что с меня хватит. Я терпеть не могу никаких физических упражнений и сегодня уже прогулялся дальше, чем имел намерение, пора мне идти домой и поразмыслить о своем позоре. И когда последние ряды прошли мимо, я подошел к Гарри и сказал:
– Ну как, Гарри, теперь домой, что ли?
Он так раскраснелся, так весь сиял, как двенадцатилетний мальчишка, который на рождество спешит скорей развернуть свои подарки друзьям, скорей увидеть, как они будут радоваться. А когда он понял, что я говорю, лицо у него вытянулось, как будто у него перед носом разбили его любимую игрушку, и он сказал:
– Да, должно быть, теперь домой.
И вот тогда я сделал то, о чем и сейчас не могу думать без раздражения. Когда кто-нибудь, хотя бы случайно, упомянет об этом, я прямо зеленею от ярости и тут же засыпаю. Потому что больше всего меня возмущает – нет, это я уже говорил, но сейчас, честное слово, я серьезно, – самое для меня нестерпимое в моих ближних – это когда они ведут себя не в соответствии со своим характером: вдруг ни с того ни с сего возьмут и сделают что-нибудь такое, чего от них и ожидать нельзя, – что-нибудь героическое и благородное или, наоборот, негероическое и неблагородное, смотря по характеру. А я не такой человек, я даже во сне не совершаю несвойственных мне поступков, и ничего похожего на то, что я тогда сделал, я впредь делать не намерен; прежде чем вам рассказать, я хочу, чтобы вы это хорошенько поняли.
Я посмотрел на него, увидел, в какой он тоске, раздираемый надвое между выгодой и велением чести, и сказал:
– Гарри, а почему бы тебе не пойти с ними? Я, уж так и быть, присмотрю за твоей паршивой лавчонкой.
Он воззрился на меня, как будто я был Ленин, сходящий с поезда на Финляндском вокзале, и, ни слова не говоря, ухватил свой плакат и побежал догонять хвост процессии. Даже спасибо мне не сказал.
– Ах ты скотина! – крикнул я ему вслед, но он, наверно, не слышал, к сожалению.
Вот как получилось, если хотите знать, что я в первый и последний раз в жизни стоял за прилавком.
Перевод О.Холмской
Т.Л.Шерред
Неоцененная попытка
В аэропорту капитана встретила штабная автомашина. Длинная и мощная, она стремительно унеслась по шоссе. В безмолвной тишине узкого кабинета застыл в напряженном ожидании прямой как струна генерал. Майор ждал внизу, у лестницы. Белые каменные ступеньки отливали в ночном воздухе холодным блеском. Взвизгнули шины, автомобиль резко затормозил: капитан и майор – ни слова приветствия друг другу – взбежали вверх по ступенькам. Генерал поспешно встал, протянул руку. Капитан рывком открыл портфель и вручил генералу толстую пачку бумаг. Генерал нетерпеливо пролистал их, отрывисто приказал что-то майору. Тот исчез, его суровый голос разнесся по наружному холлу. Появился человек в очках, генерал отдал ему бумаги. Непослушными пальцами человек в очках разложил их по порядку. Генерал махнул рукой – капитан вышел с гордой улыбкой на осунувшемся юном лице. Генерал постучал кончиками пальцев по черной полированной поверхности стола. Человек в очках сдвинул в сторону мятые карты и прочитал вслух:
Дорогой Джо!
Я стал вести эти записи, чтобы убить время: надоело попусту глазеть в окно. Но когда добрался уже почти до конца, то мало-помалу начал понимать, чтó происходит. Ты единственный из моих знакомых можешь меня выручить и, прочитав эти записи, поймешь, почему ты должен это сделать.
Не знаю, кто передаст тебе мою рукопись, но в любом случае передавший не захочет, чтобы ты впоследствии опознал его. Помни это и, пожалуйста, Джо, – торопись!
Эд.
Все началось из-за моей лени. Пока я очухался, да продрал глаза, да оплатил счет в гостинице, междугородный автобус был битком набит. Теперь надо целый час ждать следующего рейса. Я сдал чемодан в камеру хранения и решил пройтись по городу. Ты знаешь эту автобусную станцию: в Детройте на Вашингтонском бульваре около Мичиган-авеню напротив гостиницы «Люкс-Кадиллак». Мичиган-авеню. Она так похожа на Мэйн-стрит в Лос-Анджелесе или, пожалуй, на нынешнюю, запущенную и грязную, Шестьдесят третью улицу в Чикаго, куда я собирался уехать. Дешевые киношки, многочисленные ломбарды и бары, один-два недорогих универсама, ресторанчики, где за сорок центов подадут гамбургер, хлеб, масло и чашку кофе. До войны такая трапеза стоила всего двадцать пять центов.
Мне нравятся ломбарды. Люблю фотоаппараты, люблю инструменты, люблю разглядывать витрины, набитые всякой всячиной – от электробритв до наборов гаечных ключей и вставных челюстей. И вот, имея в запасе час свободного времени, я двинулся пешком вверх по Мичиган-авеню до Шестой улицы, затем перешел на другую сторону и повернул обратно. В этой части города порядочно китайцев и мексиканцев. Китайцы держат маленькие ресторанчики, а мексиканцы любят южную кухню. Между Четвертой и Пятой улицами я остановился у магазина, переделанного в кинотеатр: витрины закрашены черной краской, самодельные афиши на испанском языке зазывно провозглашают: «Впервые в Детройте… массовые батальные сцены… только одна неделя… десять центов». Несколько наклеенных на витрины, глянцевито блестевших, но мятых и испещренных белесыми точками фотографий – неудачно увеличенные кинокадры – запечатлели закованных в броню всадников и панораму какой-то грандиозной битвы. И все это за десять центов. Как раз мне по карману.
Вероятно, мне повезло, что моим любимым предметом в школе была история: так или иначе, не хитрый расчет, а счастливая случайность побудила меня уплатить десять центов за место на шатком складном стуле, для устойчивости привинченном к полу кинозала. Кроме меня, единственными посетителями были шесть или семь любителей мексиканской кухни, насквозь пропахшие чесноком. Я занял место поближе к выходу. Две-три стосвечовые лампы без абажуров, свисавшие с голого потолка, давали достаточно света, чтобы осмотреть кинозал. Прямо передо мной находился экран, сделанный из выкрашенного белой краской картона, а когда, оглянувшись через плечо, я увидел старый обшарпанный шестнадцатимиллиметровый проектор, то подумал, что явно переплатил, выложив десять центов. Однако до следующего автобуса еще добрых сорок минут.
Все курили. Я тоже достал сигарету. Унылый мексиканец, которому я отдал десять центов, запер дверь и, окинув меня долгим, пытливым взглядом, выключил свет. Поскольку деньги были уже уплачены, я тоже пристально посмотрел на мексиканца. Через минуту застрекотал старенький кинопроектор. Начался фильм необычно: ни названия картины, ни фамилий продюсера и режиссера, ни «шапки» – сразу крупным планом бородатый мужчина с титром «Кортес». Затем размалеванный и украшенный перьями индеец и титр – «Гватемотцин, преемник Монтесумы»; заснятый с птичьего полета превосходно выполненный макет крепости с надписью «Город Мехико. 1521 год». Старинные, заряжавшиеся с дула пушки в разгаре пальбы, высокие крепостные стены – при прямом попадании от них брызгами разлетаются каменные осколки; сраженные тощие индейцы корчатся в агонии; мгла, кровь. Меня поразило качество съемки: ни царапин, ни неудачно склеенных обрывков, ни расплывчатости, типичных для старых кинолент, отсутствовали и привычные эпизоды с позирующим перед объективом красавчиком героем. Да красавчика героя вовсе и не было. Тебе не доводилось видеть шедшие у нас французские или русские фильмы? Они сняты без особых финансовых затрат и без участия прославленных кинозвезд, но нельзя не восхищаться их реализмом и глубиной. Таким же, если не лучшим, был и тот фильм.
Лишь к концу киноленты, завершившейся панорамой мрачных руин и опустошений, я кое-что прикинул в уме. Наем нескольких тысяч статистов для массовок и изготовление декораций для съемочной площадки размером с большой городской парк – дело далеко не дешевое и центами тут не отделаешься. Стоимость макета даже одной крепостной стены высотой метров девять достаточно велика, чтобы вызвать возмущение бухгалтера, а стен в фильме хватало с избытком. Все это плохо вязалось с неумелым монтажом и отсутствием звука, словно снимали его в незапамятные времена немого кинематографа. Цветная пленка, однако, говорила о другом. Картина смахивала на хорошо снятый, но скверно смонтированный документальный ролик.
Зрители потянулись к выходу, я двинулся за ними и, подойдя к унылому мексиканцу, который перематывал ленту, поинтересовался, где он достал эту копию.
– Газеты в последнее время ничего не сообщали о новых исторических боевиках, а этот, похоже, снят совсем недавно.
Мексиканец согласился, что фильм новый, и добавил, что снял его сам. Я вежливо кивнул, но он заметил, что я не поверил, и выпрямился во весь рост.
– Не верите, да?
Я ответил, что, конечно, верю, к тому же мне надо успеть на автобус.
– Тогда, будьте добры, скажите почему? Почему именно?
Я снова заладил про автобус.
– Нет, правда, я был бы очень признателен, если бы вы сказали, чем фильм плох.
– Да ничем, – возразил я.
Он ждал, что я скажу дальше.
– Ну, во-первых, такие фильмы не снимают на шестнадцатимиллиметровую пленку. У вас уменьшенная копия с тридцатипятимиллиметрового оригинала. – Затем я перечислил еще несколько признаков, отличающих любительские фильмы от снятых на голливудских студиях. Когда я закончил, мексиканец с минуту молча курил.
– Понятно. – Он снял с проектора бобину с пленкой и сунул ее в коробку. – У меня тут есть пиво.
Я ответил, что пивка попить неплохо, но вот автобус… ну, разве только один стаканчик. Мексиканец сходил за картонный экран и притащил оттуда здоровенную бутыль и бумажные стаканчики. Буркнув: «Кинотеатр не работает», он запер входную дверь и откупорил бутыль привинченной к стене открывалкой – прежде здесь, видимо, помещался то ли продуктовый магазин, то ли ресторан. Стульев было сколько угодно. Мы сдвинули парочку и уселись поудобнее, как два приятеля. Пиво оказалось тепловатым.
– Вы кое-что смыслите в производстве фильмов, – задумчиво произнес мексиканец.
Я принял это за вопрос и рассмеялся:
– Не очень-то много. Ваше здоровье.
Мы выпили.
– Когда-то шоферил на грузовике для одной из кинопрокатных компаний.
Это его заинтересовало.
– Вы не здешний?
– И да, и нет. Скорее да. Уехал отсюда из-за болезни, гайморит замучил, а вернулся из-за родственников, хотя никого больше не осталось: на прошлой неделе схоронил отца.
Он сказал, что это очень прискорбно. Я отшутился, заметив, что, мол, отец в конце концов избавился от гайморита. Мексиканец снова наполнил стаканы, и мы потолковали о климате Детройта. Наконец мексиканец, как бы размышляя вслух, сказал:
– А не вас ли я видел вчера вечером неподалеку отсюда? Часов около восьми? – С этими словами он встал и пошел за новой бутылкой. Я бросил ему вслед:
– Мне больше не надо!
Он тем не менее вернулся с бутылью. Я взглянул на часы.
– Ладно, по последней.
– Так это были вы?
– Что – я? – Я подставил стаканчик.
– Вы не были здесь неподалеку?..
Я отер пену с усов.
– Вчера вечером? К сожалению, не был, а то успел бы на автобус. Нет, вчера в восемь вечера я сидел в баре «Мотор» и ушел оттуда далеко за полночь.
Он задумчиво пожевал губу.
– Бар «Мотор», на этой же улице? Я кивнул.
– Бар «Мотор». Так-так…
Я посмотрел на него.
– А вы не хотите… да что я, наверняка хотите.
Не успел я сообразить, что мексиканец имеет в виду, а он уже снова исчез за экраном и выкатил оттуда большую радиолу, держа под мышкой очередную бутыль пива. Я посмотрел на свет прежнюю бутылку: она была наполовину полна. Взглянул на часы. Мексиканец подкатил радиолу к стене и откинул крышку.
– Будьте добры, поверните выключатель. Он на стене позади вас.
Я обернулся и, не вставая со стула, дотянулся до выключателя. Свет погас. От неожиданности я стал шарить рукой по стене. Затем вдруг снова стало светло, я с облегчением повернул голову. Но лампочки не горели – свет был дневной: я увидел улицу!
Надо сказать, что все это происходило, пока я, расплескивая пиво, старался не упасть с шаткого стула, но не удержался – в этот момент улица ожила, – я упал, – день сменился вечером, и я увидел себя у дверей гостиницы «Люкс-Кадиллак», а потом в баре «Мотор», с пивом, и я точно знал, что не сплю и это мне не пригрезилось. В панике я вскочил на ноги и, опрокидывая стулья и пивные бутылки, лихорадочно зашарил по стене, ломая ногти в поисках выключателя. Пока я его искал – и все это время видел, как сам же стучу кулаком по стойке, подзывая бармена, – состояние мое было близко к обморочному. Надо же! Ни с того ни с сего средь бела дня угодил в какой-то кошмар! Наконец я нащупал выключатель.
Мексиканец глядел на меня с необычайно странным выражением лица, как будто наладил мышеловку, а поймал лягушку. А я? Думаю, видик у меня был такой, словно я нос к носу столкнулся с самим сатаной. Может, так оно и было. Пол был залит пивом, я еле дотащился до ближайшего стула и рухнул на него.
– Что, – с трудом выдавил я, – что это такое?
Крышка радиолы захлопнулась.
– Простите, я совсем упустил из виду… Я тоже прошел через это состояние, тогда, в первый раз.
Пальцы у меня тряслись, и, чтобы достать сигарету, я сорвал всю верхушку пачки.
– Я спросил: что это такое?
Мексиканец сел.
– Это вы в баре «Мотор» вчера в восемь вечера.
На моем лице, очевидно, было написано недоумение, а он подал мне чистый бумажный стакан, и я машинально позволил его наполнить.
– Послушайте… – начал я.
– По-моему, у вас шок. Я-то уже позабыл, как чувствовал себя в первый раз… Мне теперь все равно. Завтра иду в радиокомпанию «Филипс».
Мне было непонятно, о чем он толкует, и я ему так и сказал.
– Я потерпел фиаско. Полнейший банкрот, ни цента за душой. Пускай все идет прахом. Соглашусь взять наличными и буду жить на гонорар.
И он начал рассказ, сперва медленно, потом все быстрее, возбужденно расхаживая по комнате. По-моему, он измучился от одиночества, от того, что некому излить душу.
Его звали Мигель Хосе Сапата Лавиада. Я представился: Левко, Эд Левко. Он родился в семье сезонных сельскохозяйственных рабочих, эмигрировавших из Мексики в двадцатых годах. У родителей хватило ума не упрекать старшего сына, когда он решил распрощаться с каторжным трудом на свекловичных плантациях Мичигана, чтобы воспользоваться стипендией, предложенной Национальной администрацией молодежи, и получить образование в колледже. Когда срок бесплатного обучения истек, Майк подрабатывал в гаражах, водил грузовики, служил продавцом в магазинах и торговал вразнос – лишь бы кое-как хватило на жизнь и на образование. Призыв в армию оборвал занятия в колледже и сделал его техником по радиолокации. На военной службе у него возникла одна идея, скорее даже интуитивная догадка, и после демобилизации он решил взяться за нее всерьез. Найти работу в те годы было просто, и не составляло особого труда скопить достаточно денег, чтобы арендовать автофургон и набить его радиоэлектронной аппаратурой, купленной на распродаже подержанного военного имущества. Год назад Лавиада завершил свои исследования – отощавший, полуголодный и издерганный, но счастливый тем, что сумел воплотить теоретическую идею в жизнь и собрать оригинальной конструкции аппарат.
Этот аппарат он поместил в корпус от радиолы – ради удобства, а также в целях маскировки. Взять патент на свое изобретение он по причинам, которые в дальнейшем станут понятны, не рискнул. Я внимательно осмотрел «радиолу». Там, где раньше был диск для грампластинок и панель радиоприемника, виднелось множество верньерных шкал и циферблатов. Самая крупная шкала имела цифры от 1 до 24, еще несколько были пронумерованы от 1 до 60, примерно с десяток – от 1 до 25, а на двух-трех шкалах вообще не было цифровых обозначений. Больше всего аппарат напоминал шикарный тестер для радиоаппаратуры или моторов – такие можно увидеть на ультрасовременных станциях автосервиса. Установленная на месте динамика толстая фанерная пластина скрывала внутренность аппарата. Вполне безобидное укрытие для…
Великолепная штука – мечты. Наверное, каждый из нас в свое время предавался мечтам о богатстве, славе, путешествиях и парил на крыльях фантазии. Но сидеть на стуле, потягивая тепловатое пиво, и сознавать, что вековая мечта уже не мечта, а действительность, чувствовать себя всемогущим, как божество, знать, что, повернув несколько рычажков, можно увидеть и наблюдать всех и вся, где угодно, все, что когда-либо случалось, – при мысли об этом мне до сих пор время от времени становится не по себе.
Я знаю только, что в этом радиоэлектронном устройстве уйма проводов, меди, ртути и всяких несложных компонентов, но как и что в нем происходит, а уж тем более почему – для меня непостижимо. Свет имеет массу и энергию, масса света постоянно теряет часть самой себя и может быть вновь преобразована то ли в электромагнитное, то ли в какое-то другое поле. Майк Лавиада говорит, что эффект, который он случайно обнаружил и использовал в своем приборе, сам по себе не нов. Еще до войны такие ученые, как Комптон, Майкельсон и Пфейфер, неоднократно наблюдали этот феномен, однако проигнорировали его, сочтя бесполезным побочным эффектом лабораторных экспериментов. К тому же впоследствии все силы были брошены на исследования в области ядерной физики.
Когда я оправился от потрясения, а Майк приготовился еще раз продемонстрировать мне свой аппарат, стоило, наверно, посмотреть на меня со стороны. Майк уверяет, будто я поминутно вскакивал, бегал взад-вперед по залу, то натыкаясь на стулья, то отпихивая их ногой, и все время что-то торопливо бормотал, выкрикивая отдельные слова и бессвязные фразы, не успевая языком за мыслями. Наконец до меня дошло, что Майк надо мной смеется. Я не понял, что здесь смешного, огрызнулся. Он тоже начал злиться:
– Я-то знаю, чтó изобрел. Не такой я дурак, как вы, по-видимому, думаете. Вот, полюбуйтесь. – Он снова подошел к радиоле. – Выключите свет.
Я послушался и опять увидел себя в баре «Мотор». На сей раз, однако, чувствовал я себя гораздо лучше и увереннее.
– Теперь смотрите!
Бар медленно выплыл из кадра. Перед нами улица, минуем два квартала – вот и здание мэрии. Вверх по ступенькам в зал заседаний. Зал пуст, потом начинается очередное заседание, потом депутаты уходят на перерыв, и опять в зале ни души. Не кино, не слайд, а срез самой настоящей жизни размером около двенадцати квадратных футов. Если приблизить изображение, то поле зрения сужалось, если отдалить, глубинный план был виден столь же четко, как и передний. Изображение или, если хотите, образы людей и предметов были не менее реальны, не менее жизненны, чем если бы вы смотрели на них в распахнутое окно. Все было реально, объемно, ограничено в пространстве лишь задником интерьера либо горизонтом при «натурных» съемках. Вращая рычажки и регуляторы настройки, Майк что-то объяснял, но я был настолько увлечен зрелищем, что не прислушивался.
Я с криком ухватился за стул и зажмурил глаза – ты бы тоже так поступил, если бы глянул вниз и вдруг увидел, что от стремительно приближающейся поверхности земли тебя не отделяет ничто, кроме дыма и облаков. Лишь в самом конце своего длительного пике я рискнул приоткрыть глаза и вновь увидал перед собой улицу.
– Можно вверх в любую точку атмосферы вплоть до слоя Хевисайда, можно вниз в глубь любой шахты, в любое место, в любое время, – донесся до меня голос Майка. Изображение потускнело, расплылось, и вместо улицы возникла долина, поросшая редким сосняком. – Отыскать захороненный клад? Запросто. И выкопать его. Только чем?
Деревья исчезли, он захлопнул крышку радиолы и сел на стул. Я включил свет.
– Как сколотить состояние, если нет начального капитала?
Я промолчал.
– Я дал в газету объявление с предложением отыскивать утерянные вещи. Первым моим клиентом оказался полицейский, который потребовал у меня лицензию на право заниматься частным сыском. Я понаблюдал всех крупных биржевых воротил страны, нагляделся, как они в своих конторах продают и покупают акции и планируют очередные биржевые операции. Что, по-вашему, будет, если я попытаюсь продать информацию о состоянии рынка? Я своими глазами видел, как на бирже искусственно взвинчивают и сбивают курс акций, а мне с трудом удавалось наскрести денег на газетенку, которая меня обо всем этом потом осведомляла. Я следил, как перуанские индейцы закапывают в землю сокровища – выкуп за плененного вождя. Но у меня нет денег на билет до Перу и не на что купить снаряжение, чтобы выкопать этот клад.
Он встал и принес еще две бутылки пива. К этому времени в голове у меня забродили кое-какие идейки.
– Я наблюдал, как писцы переписывают книги, впоследствии сгоревшие в Александрии. Кто поверит мне, кто купит копию, даже если я ее изготовлю? За кого меня примут, если я нагряну в Национальную библиотеку и заявлю, что хранящиеся у них исторические труды нуждаются в переработке? А сколько людей будут рваться затянуть петлю на моей шее, узнай они, что я видел, как они воровали, убивали или даже просто принимали ванну? В какой сумасшедший дом меня упрячут, если я предъявлю фотографию Джорджа Вашингтона, или Юлия Цезаря, или Иисуса Христа?
Я согласился: вероятно, он прав, но…
– Отчего, по-вашему, я прозябаю здесь, в этой дыре? Вы видели, какой фильм я показывал за десять центов? Десять центов – вот мой предел, потому что у меня не было денег купить кинопленку и сделать фильм так, как, я знаю, следовало бы. – От волнения у него заплетался язык. – Я это делаю, потому что у меня нет денег на самое необходимое для того, чтобы достать деньги, которые будут необходимы… – Он в сердцах наподдал ногой стул, и тот отлетел к противоположной стене. Стало ясно: появись я на день позже, компании «Филипс» крупно бы повезло. Да и для меня, может быть, все сложилось бы лучше.
Между прочим, хоть мне всегда твердили, что толку из меня никогда не выйдет, никто еще не упрекал меня в нежелании зашибить лишний доллар. Особенно если доллар сам плывет в руки. Я увидел перед собой богатство, шальные деньги, самые шальные и самые скорые в мире. С минуту я так отчетливо ощущал себя на куче золота, что у меня дыхание сперло и голова пошла кругом.
– Майк, – сказал я, – давай-ка допьем пиво и сходим куда-нибудь, где можно выпить еще, а заодно и перекусить. Нам есть о чем потолковать.
Так мы и поступили.
Пиво превосходно развязывает язык, к тому же что-что, а уж ловко провести беседу я всегда умел, и, когда мы вышли из бара, у меня составилось вполне ясное представление о том, что у Майка на душе. А к тому времени, как устроились на ночлег за картонным экраном, мы уже стали компаньонами. Помнится, мы не скрепляли свой союз рукопожатием, но он остается в силе и по сей день. Майк для меня – лучше всех, и, верится мне, я для него тоже. Встретились мы шесть лет назад, и всего лишь за год я навострился огибать углы там, где раньше лез напролом.