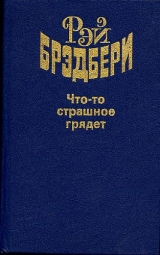
Текст книги "Что-то страшное грядёт"
Автор книги: Рэй Дуглас Брэдбери
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
С подобной зубчикам заигранной музыкальной шкатулки щетины старых щек заструилось электричество. Глубокий глаз раскрылся вдруг, точно отверстие от пули. Отыскав Вилла, он алчно пожирал его образ. Губы пенились:
– Я… вввидел… эти… мальчччики… прокралисссь… в… шшша-тер… шшш…
Пересохшие легкие вобрали воздух и прокололи влажный воздух слабыми всхлипами:
– Мы… репетировали… и я решшшил… исссполнить трюк… прикинуться… мертвым.
Снова пауза, чтобы глотнуть кислород, точно пиво, глотнуть электричество, точно вино.
– …нарочно упал… сссловно… я… умммираю… Эти… мальчччики… закричччали… убежали!
Старик вылущивал слог за слогом.
– Ха. – Пауза. – Ха. – Пауза. – Ха.
Электричество строчило шепчущие губы.
Человек с картинками тихо кашлянул.
– Этот номер утомляетмистера Электрико…
– Конечно, конечно. – Один из полицейских вздрогнул. – Виноват. – Он козырнул. – Замечательный номер.
– Отличный, – подхватил один из врачей.
Вилл живо оглянулся, хотел посмотреть на рот, произнесший это слово, но между ним и врачом стоял Джим.
– Мальчики! Двенадцать бесплатных пропусков! – Мистер Мрак протянул руку. – Держите!
Джим и Вилл не пошевельнулись.
– Ну? – произнес один полицейский.
Вилл робко приготовился взять билеты пламенного цвета, но замер, услышав вопрос мистера Мрака.
– Как вас звать?
Полицейские подмигнули друг другу.
– Говорите, ребята.
Молчание. Уродцы ждали.
– Саймон, – сказал Джим. – Саймон Смит.
Рука с билетами сжалась.
– Оливер, – сказал Вилл. – Оливер Браун.
Человек с картинками глубоко вздохнул. Дружно вздохнули уродцы! Видимо, этот мощный вздох встряхнул мистера Электрико. Шпага его качнулась, и кончик ее уколол искрой плечо Вилла, потом, шипя сине-зелеными разрядами, скользнула к Джиму. Его плечо поразила молния.
Полицейские рассмеялись.
Раскрытый глаз древнего старика сверкал.
– Дарую титул… глупцццам и балбесссам… дарую… титул… мистера Хилого… и… мистера Бледного!..
Шпага еще раз коснулась их плеч. Мистер Электрико завершил обряд.
– Коррроткой… ссскорбной… жжжизни… вам обоим!
Щель его рта сомкнулась, веки голого глаза слиплись. Задерживая дыхание в погребах своей груди, он насытил кровь искорками, словно пузырьками темного шампанского.
– Билеты, – бормотал мистер Мрак. – Бесплатное катание. Бесплатное катание. Приходите в любое время. Приходите. Приходите.
Джим схватил, Вилл схватил билеты.
Подпрыгнув, они бросились вон из шатра.
Полицейские не спеша последовали за ними, улыбаясь налево и направо.
Врачи, похожие на призраков в своих белых халатах, тоже вышли, но не улыбаясь.
Мальчики уже съежились на заднем сиденье полицейской машины.
Им явно не терпелось отправиться домой.
II. ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Глава двадцать пятая
Она чувствовала ожидающие ее в каждой комнате зеркала, подобно тому как вы, не открывая глаз, чувствуете, что за окном выпал первый в году снег.
Мисс Фоули еще несколько лет назад заметила, что дом населен ее светлыми тенями. А потому лучше вовсе не глядеть на холодные слои декабрьского льда в прихожей, в ванной, над письменным столом. Лучше плавно скользить по тонкому льду. Не останавливаясь – под грузом твоего внимания лед может треснуть. А провалившись, можешь кануть в такую холодную, такую глубокую пучину, где покоится все Минувшее, высеченное на мраморе могильных плит. Ледяная вода проникнет в твои сосуды. Пригвожденный к порогу зеркала, ты навсегда застынешь на месте не в силах оторвать свой взгляд от ликов Времени.
Вот и в эту ночь, при звуках затихающего эха бегущих ног трех мальчуганов, она ощущала, как в зеркалах ее дома падает снег. Хотелось пробиться сквозь рамы, чтобы изведать, какая там погода. Но мисс Фоули боялась, как бы тогда все зеркала не слились в миллиардном повторении ее, в армию женщин, шагающих вдаль, превращаясь в девушек, вереницу девушек, превращающихся в крохотных детей. От такого множества людей, втиснутых в один дом, не хватит воздуха для дыхания.
Как же ей быть с зеркалами, с Виллом Хэлоуэем, Джимом Найтшейдом и… с этим племянником?
Странно. Почему не сказать – « моимплемянником»?
«Потому, – ответила она себе, – что с первой минуты, как он переступил порог этого дома, он был посторонним, его лицо не убеждало, и я все ждала… чего?»
Эта ночь. Луна-Парк. «Музыка, – говорил племянник, – которую непременнонадо услышать. Карусель, на которой непременноследует прокатиться. Держаться подальше от лабиринта, где дремлет зима. Плыть по кругу на карусели, где царит дивное лето, сладостное, как клевер, донник и дикая мята».
Мисс Фоули выглянула в окно на ночной газон, с которого еще не собрала разбросанные броши. Что-то подсказывало ей: племянник рассыпал их, чтобы отделаться от двух мальчиков, способных помешать ей воспользоваться билетом, который она теперь взяла на каминной полке.
КАРУСЕЛЬ. НА ОДНО ЛИЦО
Она ожидала, что племянник вернется. Но время идет, придется действовать самой. Что-то предпринять – нет, не причиняя вреда этим Джиму и Виллу, лишь умеряя возможность помех с их стороны. Никто не должен становиться между нею и племянником, нею и каруселью, нею и чудным скольжением в объятиях лета.
Так сказал племянник – не говоря ни слова, просто держа ее руку и дыша своим маленьким розовым ртом ей в лицо запахом яблочного пирога.
Мисс Фоули подняла телефонную трубку.
Через весь город она видела свет в окнах каменного здания библиотеки, как его видел весь город все эти годы. Набрала номер. Ответил тихий голос. Она сказала:
– Библиотека? Мистер Хэлоуэй? Это мисс Фоули. Учительница Вилла. Пожалуйста, приходите через десять минут в полицейский участок, чтобы встретиться со мной… Мистер Хэлоуэй?
Пауза.
– Вы слушаете?..
Глава двадцать шестая
– Готов поклясться, – сказал один врач. – Когда мы туда приехали… этот старик был мертв.
Возвращаясь в город, «скорая помощь» и полицейская машина остановились на перекрестке. Один из врачей обратился к полицейским. Один из полицейских крикнул в ответ:
– Ты шутишь!
Врачи, сидя в своей машине, пожали плечами.
– Ага. Точно. Шучу.
Они проехали вперед, и лица обоих были такие же спокойные ибелые, как их халаты.
Полицейские ехали следом, Джим и Вилл по-прежнему жались друг к другу на заднем сиденье, они порывались что-то объяснить, но тут полицейские начали переговариваться, вспоминая со смехом все, что происходило, и тогда Вилл и Джим насочиняли всякую всячину, снова назвались вымышленными именами и заявили, что живут по соседству с полицейским участком, за углом.
Попросив, чтобы их высадили у двух домов с темными окнами, они взбежали каждый на свое крыльцо и взялись на дверные ручки, когда же патрульная машина завернула за угол, спустились, прошли следом за ней и остановились перед освещенным желтыми лампами участком (словно в полночь откуда-то взялось солнце), и Вилл, оглянувшись, увидел на лице Джима отражение всех событий прошедшего вечера, а сам Джим смотрел на окна участка так, словно его помещения в любую минуту мог поглотить мрак, навсегда погасив все огни.
«Когда мы возвращались в город, – сказал себе Вилл, – я выбросил свои билеты. Но гляди-ка… Джим по-прежнему держит в руке свои».
Вилла пробрала дрожь.
О чем думает Джим, чего он хочет, что замышляет теперь, когда мертвец ожил, но живет лишь огнем раскаленного добела электрического стула? Продолжает ли страстно любить луна-парки? Вилл изучал лицо Джима. И улавливал в его глазах какие-то сигналы, ведь Джим как-никак оставался Джимом, пусть даже скулы его сейчас озарял бесстрастный свет Правосудия.
– Начальник полиции, – заговорил Вилл. – Он нас выслушает…
– Ага, – отозвался Джим. – Ровно столько, сколько ему понадобится, чтобы вызвать санитаров. Черт возьми, Вильям, черт побери – да я самне верю тому, что произошло за последние двадцать четыре часа.
– Тогда мы должны пойти выше, но не сдаваться теперь, когда знаем, в чем дело.
– А в чем дело? Что такого уж плохого сделал этот Луна-Парк? Напугал женщину Зеркальным лабиринтом? Она сама себя напугала, скажет полиция. Совершил ограбление? Допустим – где грабитель? Спрятался в шкуре какого-то старика? Кто нам поверит? Кто поверит, что древний старик когда-либо был двенадцатилетним мальчиком? В чем еще дело? Пропал торговец громоотводами? Да, пропал, и осталась его сумка. Но он мог просто покинуть город, и все тут…
– А тот карлик на помосте…
– Я видел его, ты видел его, вроде бы он похож на того продавца, согласен, но опять-таки – можешь ты доказать, что он когда-либо был большой? Не можешь, как не докажешь, что Кугер когда-либо был маленьким. И стоим мы тут с собой на тротуаре, Вилл, без всяких доказательств, одни только слова о том, что видели, и мы всего лишь мальчишки, кому поверят – нам или владельцу Луна-Парка, где полицейские так славно повеселились. Здорово мы вляпались. Если бы, если бы только мы могли еще как-то извиниться перед мистером Кугером…
– Извиниться? – вскричал Вилл. – Перед крокодилом-людоедом? Силы небесные! Тебе до сих пор не ясно, что мы никогда не поладим с этими ульмами и гофами!
– Ульмы? Гофы? – Джим посмотрел на него задумчиво, потому что так мальчики называли тяжеловесных, неуклюжих тварей, которые являлись им в сновидениях.
Ульмы в кошмарах Вилла тараторили и стонали, и у них совсем не было лиц. Гофы, снившиеся Джиму, напоминали чудовищные грибы из безе, которые росли, питаясь крысами, а те кормились пауками, такими огромными, что они, в свою очередь, кормились кошками.
– Ульмы! Гофы! – подтвердил Вилл. – Ты хочешь, чтоб на тебя обрушился десятитонный сейф? Посмотри, что уже приключилось с двумя людьми – мистером Электрико и этим ужасным безумным карликом! На этой проклятой машине с человеком все что угодно может произойти. Мы это знаем, сами видели. Может, они нарочно сплющили так продавца громоотводов, а может быть, что-то не заладилось. Так или иначе, его смотало в клубок в соковыжималке, по нему проехал паровой каток, и он до того свихнулся, что даже не узнаетнас! Этого мало, Джим, чтобы напугать тебя до смерти? Кстати, может, и мистер Кросетти…
– Мистер Кросетти уехал в отпуск.
– Может быть, да, может быть, нет. Ты видел его парикмахерскую. Видел объявление: «ЗАКРЫТО ПО БОЛЕЗНИ». Чем этоон заболел, Джим? Объелся сладостями в Луна-Парке? Перекатался на крутящихся качелях?
– Кончай, Вилл.
– Нет, сэр, я не кончу. Спору нет – эта карусель уж очень заманчивая. Думаешь, мнехочется всю жизнь оставаться тринадцатилетним? Нет уж! Но ей же богу, Джим, скажи правду, тебе в самом делехочется стать двадцатилетним?
– О чем ещемы говорили все лето?
– Верно, говорили. Но если броситься, очертя голову, в эту волочильную машину, которая вытянет в длину твои кости, Джим, потом ты не будешь знать, что делать с этими костями!
– Я буду знать, – прозвучали в ночи слова Джима. – Я – буду.
– Конечно. Ты просто уйдешь, Джим, и оставишь меня здесь.
– Ну почему, – возразил Джим, – я тебя не оставлю, Вилл. Мы будем вместе.
– Вместе? Ты – ростом на полметра выше, длинные руки-ноги? Глядишь на меня сверху вниз, и о чем нам с тобой говорить? Мои карманы набиты веревочками для бумажных змеев, шариками и узорчатыми листьями, а ты развлекаешься на свой лад с пустыми, чистенькими карманами – мы об этом будем говорить? И ты будешь бегать быстрее и бросишь меня…
– Я никогда не брошу тебя, Вилл…
– Бросишь и не оглянешься. Ладно, Джим, давай бросай меня, потому что со мной ничего не случится, если я буду сидеть под деревом и играть сам с собой в ножички, пока ты там сходишь с ума, заражаясь пылом коней, которые скачут по кругу как одержимые, но слава богу, они больше не скачут…
– А все из-за тебя! – крикнул Джим и осекся.
Вилл подобрался, сжимая кулаки.
– По-твоему, я должен был позволить подлому юному злыдню стать достаточно взрослым злыднем, чтобы он оторвал нам головы? Пусть себе скачет по кругу и харкает нам в глаза? И ты тоже там, вместе с ним? Машешь рукой, сделал круг, опять помахал: пока! А я чтоб стоял на месте и только махал в ответ – ты этого хочешь, Джим?
– Угомонись, – сказал Джим. – Ты же сам говоришь – теперь уже поздно. Карусель сломана…
– А когда ее починят, они прокрутят этого жуткого старика Кугера в обратную сторону, сделают достаточно молодым, чтобы он мог заговорить и вспомнить наши имена, и тогда они погонятся за нами не хуже каких-нибудь каннибалов – или только за мной, если ты надумал поладить с ними и сказать мое имя и где я живу…
– Я не способен на это, Вилл. – Джим тронул его за плечо.
– О Джим, Джим, ты ведь соображаешь? Все в свое время, как говорил нам проповедник в прошлом месяце, шаг за шагом, один плюс один, а не два плюс два, вспомни!..
– Все в свое время… – повторил Джим.
Тут до них донеслись голоса из полицейского участка. В одном из кабинетов справа от входа говорила женщина, и ей отзывались мужчины.
Вилл кивнул Джиму, они живо протиснулись сквозь кусты и заглянули в окно.
В кабинете сидела мисс Фоули. Тут же сидел отец Вилла.
– Не понимаю, – говорила мисс Фоули. – Чтобы Вилл и Джим вломились в мой дом, украли вещи, убежали…
– Вы видели их лица? – спросил мистер Хэлоуэй.
– Когда я закричала, они оглянулись, их осветил фонарь.
«Она не говорит про племянника, – подумал Вилл. – И конечно, не скажет».
«Понял, Джим, – едва не закричал он, – это была ловушка! Племянник ждал, что мы будем его выслеживать. Ему нужно было втравить нас в такое дело, чтобы нас потом никто не слушал, ни родители, ни полицейские, что бы мы ни толковали им про луна-парки, про ночные прогулки, про карусели, – потому что нам не будет веры!»
– Я не хотела бы подавать в суд, – сказала мисс Фоули. – Но если мальчики невиновны – где они?
– Здесь! – крикнул кто-то.
– Вилл! – выпалил Джим.
Поздно.
Потому что Вилл, подпрыгнув вверх, уже карабкался в окно.
– Здесь, – коротко произнес он, ступая на пол.
Глава двадцать седьмая
Они тихо шагали домой по окрашенным луной тротуарам – мистер Хэлоуэй посередине, мальчики по бокам. Когда дошли до дома, отец Вилла вздохнул.
– Джим, я не вижу никакого смысла в том, чтобы терзать душу твоей матушки в столь поздний час. Если обещаешь рассказать ей все за завтраком, я отпущу тебя. Ты можешь войти так, чтобы не разбудить ее?
– Конечно. Посмотрите, что у нас есть.
– У нас?
Джим кивнул и подвел их к торцовой стене, где в гуще листьев и мха они нащупали вбитые тайком в кирпич железные скобы, по которым можно было подняться к окну его комнаты. Мистер Хэлоуэй тихонько рассмеялся, при этом что-то кольнуло его сердце, а голову пронизала странная грусть.
– И давно это у вас? Нет, не говори. Я тоже сделал такую лесенку, когда мне было столько лет, сколько тебе. – Он скользнул взглядом вверх вдоль плюща к окну Джима. – Здорово бродить ночью на воле, и сам черт тебе не брат.
Он осекся.
– Надеюсь, вы не слишком поздно возвращаетесь?..
– На этой неделе – в первый раз после полуночи.
Отец Вилла поразмыслил.
– А получить разрешение старших – совсем не то, верно? То ли дело летней ночью тайком прокрадываться к озеру, к железнодорожной насыпи, на кладбище, в персиковые сады…
– Ух ты, мистер Хэлоуэй, вы тоже…
– Ага. Но, чур, не говорить об этом женщинам. Пошел! – Он махнул рукой вверх. – И чтобы в следующем месяце ни разуне гулять по ночам.
– Слушаюсь, сэр!
Джим обезьяной метнулся вверх к звездам, юркнул в окно, затворил его, задернул штору.
Отец Вилла поглядел на потайные скобы, соединяющие звездное небо с вольным миром проулков, зовущим провести забег на тысячу метров, с миром высоких барьеров из темных кустов, миром кладбищенских стен и решеток – без шеста не перепрыгнуть…
– Знаешь, Вилл, что меня больше всего гнетет? Что я уже не могу бегать так, как ты.
– Да, сэр, – ответил его сын.
– А теперь давай внесем ясность, – сказал отец. – Завтра пойди к мисс Фоули, извинись еще раз. Обыщи газон. Может быть, при свете спичек и фонариков мы не нашли чего-то – из украденного. Потом сходи к начальнику полиции, отчитайся там. Ваше счастье, что вы сами объявились. Ваше счастье, что мисс Фоули не станет обращаться в суд.
– Да, сэр.
Они возвратились к своему дому. Отец порылся рукой в плюще.
– У нас тоже?
Его пальцы нащупали под листьями скобу, вбитую в стену Виллом.
– У нас тоже.
Отец достал кисет, набил трубку, стоя возле плюща, где потайные скобы вели в теплую постель, в уютные комнаты, закурил и сказал:
– Я знаю тебя. По тебе видно, что ты невиновен. Ты ничего не украл.
– Ага.
– Так почему же ты сказал полицейским, что украл?
– Потому. Мисс Фоули – невесть почему – хочетнас выставить виновными. Раз она так говорит, стало быть, так и есть. Ты видел, как она удивилась, когда мы влезли в окно? Ей в голову не приходило, что мы сознаемся. А мы сознались. Мы нажили достаточно врагов, не хватало еще представителей власти. Я подумал – если мы чистосердечно признаемся, нас не станут наказывать. Так и вышло. Вот только одно: мисс Фоули тоже выиграла, потому что теперь нас считают преступниками. Никто не поверит нашим словам.
– Я поверю.
– Поверишь? – Вилл исследовал взглядом тени на отцовском лице, белизну его кожи, волос, глазных яблок.
– Пап, прошлой ночью, в три часа…
– В три часа…
Отец вздрогнул, как от холодного ветра, как будто почуял, знал, о чем речь, и не было сил двинуться, протянуть руку, коснуться Вилла, погладить его.
И Вилл понял, что ничего не скажет. Может быть, завтра, может, в другой какой-нибудь день, если с восходом солнца окажется, что шатры исчезли, уродцы разъехались, оставив их в покое, сознавая, что достаточно напугали их, так что они не будут стоять на своем, ничего не станут говорить, будут помалкивать. Может быть, пронесет, может быть… может быть…
– Ну, Вилл? – выговорил отец, сжимая в руке потухшую трубку. – Продолжай.
«Нет, – сказал себе Вилл, – пусть нас с Джимом разорвут на клочки, пусть нас, но больше никого. Всякий узнавший страдает от этого. Так пусть больше никто не узнает».
Вслух он сказал:
– Через два дня я все расскажу тебе, папа. Клянусь матерью.
– Такая клятва, – ответил отец не сразу, – меня устраивает.
Глава двадцать восьмая
Ночь благоухала тленом осенней листвы, пахло так, словно за городом вырастали дюны мельчайших песков Древнего Египта. «Почему это, – спрашивал себя Вилл, – в такое время я еще способен думать о парящем над миром четырехтысячелетием прахе древних народов, и мне грустно оттого, что никто, кроме меня и, возможно, моего папы, не думает о нем, но и мы не говорим об этом».
Царило поистине какое-то промежуточное время, и мысли их уподоблялись то косматому эрделю, то сладко дремлющей шелковистой кошке. Время ложиться спать, а они все медлили, точно мальчишки, не желали сдаваться и брести широкими кругами к подушкам и ночным думам. Время сказать многое, но не все. Время после первых открытий, но не вслед за последними. Желание все узнать и желание не знать ничего. Отрадное новое чувство людей, начавших говорить так, как следует говорить. Предчувствие горечи откровения.
И хотя им надо было подняться в дом, они никак не могли расстаться в эту минуту, которая сулила другие, не такие уж отдаленные ночи, когда мужчина и мужающий мальчик только что не запоют вместе. И Вилл наконец произнес осторожно:
– Пап. Я хороший человек?
– Пожалуй, да. Конечно же хороший.
– Это… это поможет мне, когда я попаду в настоящий переплет?
– Поможет.
– Спасет меня, если я буду нуждаться в спасении? Ну, если я окажусь среди дурных людей и вокруг на много километров не будет больше ни одного хорошего, тогда как?
– Поможет.
– Этого мало, пап!
– Мало, чтобы ты мог быть спокоен за свое тело. Зато важно для твоего душевного покоя…
– Но иногда, пап, разве тебе не бывает так страшно, что и…
– …душе нет покоя? – Отец кивнул, и на лице его отразилось смущение.
– Пап, – чуть слышно произнес Вилл. – Ты хороший чело век?
– По отношению к тебе и твоей матери стараюсь быть хорошим. Но нет человека, который был бы героем в собственных глазах. Я знаю себя не один десяток лет, Вилл. Знаю о себе все, что только стоит знать…
– И что в итоге?..
– Сумма? С учетом всего, и ведь я стараюсь не высовываться и помалкивать – пожалуй, все в порядке.
– Тогда почему же, папа, – спросил Вилл, – ты несчастлив?
– Газон перед домом в… так, поглядим… в половине второго ночи… не самое подходящее место для философских бесед…
– Мне просто хотелось знать.
Долго царила тишина. Отец вздохнул.
Взяв Вилла за руку, он подвел его к крыльцу, посадил на ступеньку, раскурил трубку. Посасывая чубук, заговорил:
– Ладно. Твоя мать спит. Она не знает, что мы с тобой тут разболтались. Можно продолжать. Так вот, давно ли ты решил, что быть хорошим человеком – значит быть счастливым?
– Всегда так думал.
– Теперь научись думать иначе. Иной раз человек, который кажется тебе самым счастливым во всем городе, который шире всех улыбается, несет на себе самое тяжкое бремя греха. Улыбка улыбке рознь; учись отличать мрачные от светлых. Кто громче всех хохочет и заливается смехом, частенько просто притворяется. Он всласть поразвлекался и вдоволь нагрешил. А люди оченьлюбят грешить, Вилл, уж поверь мне, если бы ты знал, как они обожают грех во всех его видах, размерах, цветах и запахах. Бывает, человек предпочитает насыщаться не за столом, а из корыта. Услышишь, кто-то не в меру громко расхваливает других, спроси себя – не вышел ли он только что из свинарника. С другой стороны, несчастный, бледный, замкнутый, который кажется тебе воплощением греха и порока, вот он-то нередко и есть хороший человек – ХОРОШИЙ, Вилл. Потому что быть хорошим – тяжелейшеезанятие, люди выбиваются из сил и подчас ломаются. Я знавал несколько примеров. Быть фермером куда труднее, чем его кабанчиком. Сдается мне, как раз от упорных размышлений о том, как стать хорошим, однажды ночью возникает трещина, из-за которой рушится вся стена. Известно ведь, что самого достойного человека может согнуть упавшая на него волосинка. Стоит ему раз отклониться от праведной стези, и он уже не остановится, так и будет сидеть на крючке. А как прекрасно, если бы ты просто мог быть хорошим, поступать достойно, не думая об этом постоянно. Но ведь трудно – правда же? – знать, лежа ночью в постели, что в холодильнике лежит последний кусок торта – не твой кусок, а ты не можешь глаз сомкнуть, так тебе хочется его съесть, верно? Или в жаркий весенний полдень ты в школе прикован к парте, а там, вдалеке, струится через камни прохладный, чистый поток. Мальчики за километры слышат голос прозрачного ручья. И так минута за минутой, час за часом, всю жизнь, без остановки, без конца, сию секунду, и в следующую секунду, и в следующую за ней часы знай себе тикают, предлагая тебе выбор: быть хорошим, быть дурным, тик-так, тик-так. Спеши окунуться или стой и потей, спеши к столу или лежи голодный. И ты остаешься на месте, но оставшись однажды, Вилл, – ты ведь знаешь, чем это чревато, верно? Лучше не думать больше о реке. Или о торте. Потому что, если станешь думать опять, сойдешь с ума. Теперь сложи все реки, в которых ты не плавал, все торты, которых не отведал, с моими годами, и, Вилл, накопится уйма такого, что тобою упущено. Однако ты утешаешь себя, говоря: чем чаще ты мог искупаться, тем чаще рисковал утонуть, и сколько раз мог подавиться холодным тортом. С другой стороны, сдается мне, из-за простой дремучей трусости ты можешь слишком многое упустить, страхуясь, выжидая. Взять меня, Вилл, – женился в тридцать девять лет, тридцать девять! Очень уж я боролся сам с собой, считал, что мне не следует жениться, пока я напрочь не избавился от всех изъянов. Слишком поздно до меня дошло, что совершенство недостижимо, ты должен вместе со всеми дерзать, падать и подниматься. И вот однажды вечером я оторвался от этой нескончаемой борьбы и увидел твою мать, которая пришла в библиотеку за книгой, а получила меня. Мне тогда стало ясно: возьми мужчину, наполовину дурного, и такую же женщину, сложи вместе их хорошие половины, и будет на вас на двоих один вполне хороший человек. Так я смотрю и на тебя, Вилл. И что удивительно, сын, удивительно и печально – хотя ты всегда носишься где-то внизу по краю газона, а черепица моих крыш – мои книги, и я сверяю жизнь с библиотечной мудростью, я скоро убедился, что ты мудрее, лучше и стремительнее, чем мне суждено быть когда-либо…
Трубка отца потухла. Он остановился, чтобы выколотить пепел и набить ее свежим табаком.
– Нет, сэр, – сказал Вилл.
– Да, – возразил отец. – Я был бы глупцом, если бы не видел своей глупости. Вся моя мудрость сводится к сознанию того, что ты мудр.
– Чудно, – произнес Вилл после долгой паузы. – Сегодня ночью ты сказал мне больше, чем сказал тебе я. Я должен еще подумать. Может быть, утром, за завтраком, расскажу тебе все. Идет?
– Я буду готов тебя выслушать, если захочешь.
– Потому что… Мне хочется, чтобы ты был счастлив, пап.
Он проклинал слезы, выступившие на его глазах.
– Со мной будет все в порядке, Вилл.
– Я готов сказать и сделать все, чтобы ты был счастлив.
– Вилли, Вильям. – Отец раскурил трубку и смотрел, как тает в воздухе ее дымок. – Скажи мне, что я буду жить вечно. Это меня вполне устроит.
«Его голос, – подумал Вилл. – Я никогда не замечал. Он такого же цвета, как его волосы».
– Пап, – сказал он, – ну что ты такой печальный.
– Я? Я живое воплощение печали. Читаю книгу – она повергает меня в грусть. Смотрю фильм – грущу. Спектакли вообще меня убивают.
– Есть хоть что-нибудь, – спросил Вилл, – что тебя непечалит?
– Есть одна вещь. Смерть.
– Господи! – воскликнул Вилл. – Вот уж никакне подумал бы!
– Точно, – сказал человек с голосом цвета его же волос. – Смерть все заражает печалью. Сама же она только страшит. Не будь смерти, не было бы печати тлена на всем остальном.
«И вот, – подумал Вилл, – появляется Луна-Парк, в одной руке Смерть в виде погремушки, в другой – Жизнь в виде конфетки, трясет одной, чтобы нагнать на тебя страх, манит другой, чтобы слюнки текли. Тут же и аттракционы, обе руки полны!»
Он вскочил на ноги.
– Пап, послушай! Ты будешь жить вечно! Поверь мне, не то совсем пропадешь! Конечно, ты болел несколько лет назад – но болезнь прошла. Конечно, тебе пятьдесят четыре, но ты совсем молодой! И еще…
– Что еще, Вилли?
Отец ждал. Вилл колебался. Он закусил губу, потом выпалил:
– Держись подальше от Луна-Парка.
– Странно, – сказал отец, – это самое я собирался посоветовать тебе.
– Я и за миллиард долларов больше не пойду туда.
«Но, – подумал Вилл, – это не помешает Луна-Парку прочесать город в поисках меня».
– Обещаешь, пап?
– Почему ты не хочешь, чтобы я пошел туда, Вилл?
– Это одна из вещей, про которые я скажу тебе завтра, или через неделю, или через год. Ты просто поверь мне, пап.
– Верю, сын. – Отец пожал его руку. – Обещаю.
Как но сигналу, оба повернулись к дому. Час был поздний, время на исходе, сказано достаточно, они чувствовали, что теперь уже точно надо идти.
– Каким путем ты выходил, – сказал отец, – таким и возвращайся.
Вилл молча прошел к скрытым в шуршащем плюще скобам.
– Пап, ты ведь не станешь их убирать?..
Отец подергал пальцами одну скобу.
– Когда-нибудь, когда тебе надоест, ты сам их уберешь.
– Мне никогда не надоест.
– Ты уверен? Что ж, в твоем возрасте и впрямь может казаться, что никогда ничто не надоест. Ладно, сын, пошел.
Вилл увидел, как взгляд отца скользнул вверх по плющу с потайной лесенкой.
– Тебе хочется здесь подняться?
– Нет-нет, – быстро ответил отец.
– А то давай, – сказал Вилл.
– Все в порядке. Пошел.
Но он продолжал смотреть на трепещущий в предутренних сумерках плющ.
Вилл подпрыгнул, взялся за первую, потом за вторую, за третью скобу и поглядел вниз.
Отсюда казалось, что отец на глазах уменьшается. И Виллу вдруг не захотелось оставлять его там в ночи с застывшей в воздухе поднятой рукой, с таким лицом, словно его бросили.
– Пап! – прошептал он. – Ты не в себе?
«Кто сказал?!» – безмолвно воскликнул рот отца. И он подпрыгнул.
И беззвучно смеясь, мальчик и мужчина полезли вверх по стене, перехватываясь руками, переступая ногами.
Вилл слышал, как отец поскользнулся, сорвался и снова схватился за скобы.
«Держись!» – воскликнул он мысленно.
– Х-хы!..
Мужчина тяжело дышал.
Вилл зажмурился, умоляя: «Держись… ну… давай!..»
Пожилой мужчина резко выдохнул, глотнул воздух, яростно выругался шепотом и снова полез вверх.
Вилл открыл глаза и продолжал карабкаться, и дальше все шло гладко, выше, выше, отлично, здорово, чудесно, есть! Они влезли в окно и сели на подоконник – одного роста, одного веса, одинаково озаренные звездами, оба объятые дивной усталостью, давясь смехом, который еще теснее сблизил их, и опасаясь разбудить Господа, окрестности, супругу, маму и получить нагоняй, они ласково зажали друг другу рот, ощущая ладонями жаркое биение бурного веселья, и посидели так еще минутку, не сводя друг с друга увлажненных любовью счастливых глаз.
Но вот еще одно крепкое рукопожатие, и отец исчез, дверь спальни закрылась.
Опьяненный событиями этой долгой ночи, огражденный от страхов всем тем замечательным, что открылось ему в отце, Вилл освободился хмельными руками и приятно ноющими ногами от мягко спадающей одежды и рухнул как подкошенный на кровать…








