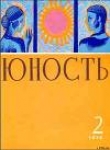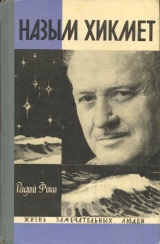
Текст книги "Назым Хикмет"
Автор книги: Радий Фиш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Джелялэддин Руми отказывался принимать этот, как сказали бы мы ныне, феодальный мир, принимать и понимать его. В жизни тогдашней Анатолии, в империи сельджуков не было почвы, на которую мог бы он опереться в своем протесте. И, отказавшись от разума в пользу сердца, Джелялэддин создал утопию – нравственно-этическую утопию единения человека с миром, с другими людьми в мистической любви. Вот о чем говорили метафоры его стихов, метафора его культа сердца.
Всякая утопия, в сущности, есть метафора. И часто в утопии, рожденной на почве одной общественной формации, когда следующая формация снимает противоречия предыдущей, обнаруживается зерно истины, а научная общественная теория обнаруживает утопические черты. Чудаки утописты и мистики оказываются подчас мудрецами будущего, а мудрецы и ученые прошлого – утопистами.
«Или кажись тем, что ты есть, или будь тем, чем ты кажешься», – возглашал Джелялэддин Руми.
Не только сердце должно быть право, но и голова.
Последовавший за феодальным общественный строй, европейская буржуазная трезвость в качестве антитезы мистическому культу сердца: «Зашей глаза», противопоставили гипертрофию разума. Даже великий Робеспьер был рационалистом, нечеловечески сухим педантом. Мещанский убогий практицизм. В своем завершенном виде принял формы фашизма: все дозволено ради пользы и нет никакой нравственности, совесть и сердце – химеры.
Только эра социализма предвещает возможность полного, неразрывного слияния сердца и головы.
И в этом синтезе, наверное, равно важны и Восток и Запад. Восток, знающий все о человеке – от медицины до психологии – куда глубже Запада. И Запад, стремящийся познать все о мире, который его окружает, направивший свой взгляд не внутрь, а вовне. И если путь людей Востока к этому синтезу лежит через овладение научным аналитическим подходом к действительности – от себя к миру, то путь людей Запада – от мира внешнего к миру внутреннему. Нет, не случайно попытку превратить социализм из теории в живую реальность первой сделала страна, географически и духовно лежащая между Азией и Европой, страна, где он провел лучшие годы своей молодости, страна, куда привело его в поисках разума его сердце...
Выйдя из редакции «Сервети Фюнун», они шагали по горбатой мостовой. Позади осталось здание Высокой Порты – султанского правительства. На этой горбатой и кривой улочке Бабыали издавна помещались редакции и типографии – султан любил держать прессу у себя под рукой. Громко разговаривая, они миновали гробницу султана Махмуда и направились к колонне Константина, или, как ее называют стамбульцы, Закованной колонне. Установленная еще византийским императором Константином I, колонна во время грандиозных стамбульских пожаров обгорела, почернела и растрескалась. И султан Абдул Хамид I, опасаясь, что она рухнет, велел заковать ее в железные обручи. На площади, у подножья этой колонны, собиралась в многочисленных кофейнях литературная молодежь.
Стоял жаркий летний день 1920 года. Но они не замечали ни жары, ни безоблачно синего неба, ни древних камней, ни сверкающего меж домами Мраморного моря – все это окружало их с детства, изо дня в день. Они были взволнованы до чрезвычайности.
Оккупанты превратили султана в куклу, повиновавшуюся каждому мановению их пальца. Чтобы усидеть на престоле, он ставил свою печатку под любым их распоряжением. Антанта поручила греческой королевской армии навести порядок в непокорной Анатолии, и султан объявил вне закона повстанцев во главе с Мустафой Кемалем. Греческие армии продвигались в глубь страны, занимая один город за другим. Турции грозило окончательное порабощение.
И тут, как два призыва к молитве, раздались два смелых голоса. Поэт Сюлейман Назиф выступил на богословском факультете с лекцией-призывом к восстанию мусульман всего мира в защиту сердца ислама – Османской империи. И как бы в ответ ему прозвучал на митинге перед мечетью Султана Ахмеда непривычно тонкий, высокий голос другого оратора – женщины, голос писательницы Халиде Эдиб. На ней было черное головное покрывало, лицо закрыто. И среди толпы, колыхавшейся на площади, было много таких же покрывал – черное траурное море с кровавыми волнами красных фесок и белой пеной чалм и тюрбанов. Халиде Эдиб взывала к милости и благоразумию держав: уничтожение турецкой государственности, утверждала она, противоречит принципам президента Вильсона. Женщина подавала пример мужчинам. Это ли не национальный позор!
Вот о чем говорили они, юные литераторы, по дороге к Закованной колонне. В соответствии с тогдашней модой кисточки их отутюженных конусообразных фесок были откинуты назад, из-под сюртуков блистали белизной крахмальные манишки.
Лишь у одного, самого высокого, стройного, юноши феска была без кисточки и едва держалась на огненно-рыжей курчавой шевелюре, костюм – в пятнах и пепле. Ноги он ставил косолапо, носками внутрь и, самое странное, брил усы, что было чрезвычайной редкостью в тогдашнем Стамбуле, а вместо них носил пышные курчавые баки.
Он шел на шаг впереди остальных. Размахивал руками, то и дело оборачивался, говорил во весь голос, глядя собеседнику прямо в лицо, и при этом рубил ладонью воздух.
В свои семнадцать лет он был самым модным поэтом в тогдашних литературных салонах Стамбула.
Несмотря на небрежную внешность, а может быть, именно благодаря ей молодой поэт пользовался постоянным и благосклонным вниманием нежного пола: женщины тоньше и острей чувствовали скрытую в нем силу, казавшуюся сверстникам всего лишь неуравновешенностью. Не отказывая во взаимности, молодой поэт, однако, часто бывал с ними весьма нелюбезен. И с девушками и со старшими. Он держался независимо до грубости, говорил, что придет в голову, не обращая внимания, задевает ли это кого-либо из присутствующих. И только тем, кого уважал и любил, оказывал и внешние знаки почтения.
С легкой руки Яхьи Кемаля в литературной среде началось повальное увлечение «эпохой тюльпанов», придворным поэтом Недимом, жившим в начале восемнадцатого века и прославлявшим плотские радости и наслаждения в то время, как рушилась Империя и все вокруг шло прахом. История как будто повторялась, и литературная молодежь вслед за Яхьей Кемалем пыталась использовать традиции Недима, чтобы забыться на пиру во время чумы.
Газета «Алемдар», поддавшись моде, объявила конкурс на тему Недима «Сердце».
В годы мировой войны возникло в турецкой поэзии течение, получившее наименование хеджеистского, – к нему принадлежали поэты, пишущие силлабическим народным стихом хедже. Во время войны хеджеисты слагали ура-патриотические оды, а теперь, после разгрома, постигшего страну, их напыщенная Декламация, растоптанная, как дымный гриб, обернулась томными облачками грустных воздыханий и лирических безделиц.
Один из хеджеистов прислал на конкурс следующие строчки:
Мое сердечко – мотылек,
С цветка порхает на цветок...
Рыжеволосый поэт в феске без кисточки, шагавший по мостовой впереди товарищей, прислал в газету свой ответ:
Мое сердце – орел. Где увидит красавицу,
Из поднебесья в атаку кидается.
За любовь проливает кровь,
Оттого-то и клюв его алого цвета...
Говоря по правде, тон был взят чересчур высокий. Но вместо того чтобы закончить стихотворение шуткой или иронией, поэт выдержал его до конца – слишком уж раздражало бессильное мотыльковое бормотание. Стихотворение произвело эффект и даже получило премию.
В салоне известного поэта Джеляля Сахира – там собирались и молодые поэты и хеджеисты старшего поколения Юсуф Зия, Орхан Сейфи, Фарук Нафыз – только и было разговоров, что об «орлином сердце». На очередном вечере, где обсуждался новый сборник стихов, которые регулярно выпускал Джеляль Сахир, хозяин дома подошел к герою дня и, осторожно взяв его под локоть, обратился к собравшимся:
– Господа, мне думается, я не ошибусь, если от вашего имени скажу нашему юному другу: мы давно ждали, когда в турецкой поэзии появится настоящий мужской голос, который избавит ее от расслабленной сентиментальности. И вот он, наконец, прозвучал...
Поэт, хотя и был явно польщен, тем не менее воспринял похвалы как должное. А как же могло быть иначе!..
Вскоре он перестал ходить к Джелялю Сахиру. «Старики» – этим старикам было тогда лет по тридцать – так и не удосужились сменить свое бормотанье на что-нибудь более полезное для страны. Мало того, они сотрудничали в печати, существовавшей на английские деньги.
Правда, они не выступали против движения в Анатолии и писали стихи не арузом, а хедже, как договорились в самом начале, когда Джеляль Сахир задумал выпускать свои сборники. Но теперь этого было уже недостаточно.
Назым Хикмет – это был он – увел из салона Джеляля Сахира и своих молодых друзей Валю Нуреддина, Неджаметтина Халила, Эмина Реджеба и молодую поэтессу Халиде Нусрет. Они решили выпустить свой сборник «Черная роза», но на это не хватило ни денег, ни времени.
Назым и Валя не бывали дома. Родители Назыма разошлись, семья распалась. А у Вали еще раньше умер отец.
Стамбул кипел. В кофейнях на площади у Закованной колонны, в квартале Шехзадебаши, за столиками, стоявшими прямо на улице у мечети Баязида, на площади Султана Ахмеда – в самом центре мусульманской части города – говорили только о Мустафе Кемале и его нуждах, о султанском фирмане, объявившем вождей повстанческого движения подлежащими смертной казни. Подпольные организации националистов собирали в оккупированном Стамбуле деньги и оружие, переправляли верных людей в Анатолию. Назым Хикмет, Валя Нуреддин и их друзья проводили в кофейнях, в редакциях газет на Бабыали целые дни. Ночевали то у друзей, то у возлюбленных. А чаще всего в особняке Селима-паши, в квартале Шехзадебаши. Этот паша владел особняком и на азиатском берегу Босфора, по соседству с домом Назыма-паши, и слыл большим любителем поэзии и литературной молодежи. Двери его городского дома были всегда открыты. Завсегдатаи знали секрет – стоило приподнять створки, и двери распахивались сами собой. Ночью, освещая дорогу спичками, поднимались по деревянным ступеням на второй этаж – электричества в доме не было. На площадке предусмотрительные хозяева оставляли огарки свечей. С этими огарками в руках разбредались по многочисленным, постоянно пустовавшим комнатам, доставали тюфяки и постели из вращающихся стенных шкафов.
Особняк был оборудован по старому турецкому образцу. Стенные шкафы выходили одной стороной на мужскую половину, другой – на женскую. На день постели убирались в шкаф, и женщины, повернув их, сменяли белье, не входя в запретный контакт с посторонними мужчинами.
Утром мальчишка из кофейни напротив, зная, что за гости ночуют в особняке, таким же способом, как они, проникал в дом и, заглядывая в комнаты, предлагал чай, кофе, бублики. Позавтракав в постели, молодежь складывала тюфяки, простыни и, никому не сказавшись, уходила по своим делам, как пришла. Иногда по утрам к ним заглядывал зять Селима-паши, Он любил раздавать советы. Набив рот пловом или жуя бублик, ораторствовал, а молодежь волей-неволей была вынуждена слушать – как-никак хозяин дома.
– Дети мои! Вот вам мой братский совет! Будьте пьяницами, картежниками, развратниками. Не беда! Покаетесь – и простится... Скажу больше, будьте ворами или даже убийцами! Покаетесь – и простится. Но только, дети мои, не вздумайте...
Тут он для вящего впечатления делал паузу и внимательно глядел на лица слушателей. Те недоумевали: что еще остается, если можно воровать и убивать?
– Не вздумайте только, – продолжал зять Селима-паши, – утерять в сердце своем страх божий. Ибо тогда вам не будет прощенья...
Страх – вот на чем зиждилась патриархальная религиозная мораль. Это было не похоже на веру Назыма-паши: тот вслед за еретиком Джелялэддином проповедовал «любовь».
После военно-морского училища – там молитвы и пост были обязательны – Назым перестал ходить в мечеть и творить намазы. Но он верил в бога. Вернее, ему и в голову не приходило, что тот может не существовать. И вот в особняке Селима-паши, слушая наставления его зятя, он вдруг подумал, нет, не о том, есть ли бог, а о том, что верующие творят добрые дела в надежде на награду – рай или бессмертие. А не грешат лишь из страха, боясь угодить в ад. Рабство, неволя такой веры поразили его. Возмутившись, он раз и навсегда решил делать то, что должен делать, не заботясь о награде и не страшась наказания...
Споры о литературе и политике в отелях, кофейнях и редакциях газет, салонах и поэтических кружках были его первым университетом. Кого только не встречал он в эти летние месяцы в оккупированном Стамбуле, – профессоров, актеров, журналистов, полицейских комиссаров! Впервые в жизни Назым был сам себе хозяином, сам выбирал свой путь.
Джеляль Сахир стал потом депутатом, Хасан Сака – с ним они часто встречались в то время – премьер-министром. Назым стал поэтом революции...
Подойдя к кофейне у Закованной колонны, где они с Валей Нуреддином назначили в тот день важное свидание, Назым вдруг сорвал с головы феску и что есть силы швырнул ее на землю:
– Ах, если б только я был на месте этого смертника!
Товарищи не удивились его горячности. Сегодня он где-то вычитал о подвиге французского офицера. Корабль, на котором тот служил, был торпедирован в правый борт. Чтобы уравновесить крен, нужно было открыть отсек на левом борту. Увидев, что дверь повреждена и может быть заперта только изнутри, офицер вошел в отсек, запер за собой дверь и пустил воду. Он погиб, но корабль был спасен.
Вот о чем рассказывал Назым своим приятелям по дороге к Закованной колонне. Глаза его сверкали, он то и дело поглядывал на корабли вражеской эскадры, стоявшие на бочках в Босфоре. Если бы только ему представился случай, нет, не спасти эти корабли, а подорвать их, чтобы избавить страну от унижения и позора, он, не задумываясь, пожертвовал бы собой...
Откуда было знать ему в семнадцать лет, что у него иная миссия? Жить, чтобы жизнью своей утвердить справедливость своей идеи.
Подняв с земли феску, он отряхнул ее о колено. Прижал рукой курчавые волосы, насадил феску на голову и вслед за товарищами вошел в кофейню. Там их уже ждали...
– Да, входите! Добро пожаловать! В камеру вместе с Ибрагимом вошел Вели по прозвищу Сазджи, то есть игрок на сазе, большой любитель музыки.
– Здравствуй, отец!
– Давай, Ибрагим, давай посмотрим на твою работу.
Ибрагим протянул портрет.
– Пусть постоит, потом поговорим.
Назым обернулся к Вели.
– Что у тебя там, Вели? С чем пожаловал?
– Напиши мне прошение, отец.
– Что за прошение? Ты ведь на днях должен был выходить?
– И вышел. Только вот снова попал.
– Как же так? Ну и ну! Теперь за что?
– Девку умыкали, ну и между делом пришлось стукнуть человека.
– Убили?
– Этого не знаю, только знаю, что я погиб.
– Что значит – погиб? Не выйдешь больше из тюрьмы, что ли?
– Нет, отец, я погиб.
– А, понял! Погиб – по-вашему значит влюбился... Так, что ли?
– Да.
– Ну, рассказывай, как дело было. Выкладывай все как есть. Подумаем, что можно сделать.
Вели растерянно оглянулся на Ибрагима, точно ища подмоги. Потом устремил взгляд через решетки на волю и, словно беря аккорд на сазе, повторил:
– Я погиб... Только вышел из кутузки, сижу перед кофейней в деревне. Девушки пошли за водой к источнику. Такую я среди них увидел – помилуй бог! Попросил у нее воды. Не дала. Я погиб.
– А если б дала воды, не погиб бы?
– Если б дала воды, значит пошла бы за меня. Но что поделать, девка с другим сговорена.
– А не была бы сговорена, пошла бы за тебя?
– Может, и пошла,
– А ты с ней не говорил?
– Нет. Ни разу.
– Слыхал, подмастерье? И ты тоже так влюбился?
– Да, мы так любим, точно так.
– Удивительное дело! С первого взгляда. Даже до руки не дотронувшись...
– Так.
– А ты был влюблен, Ибрагим?
– Был. Как-то раз на лугу увидел девку в одной рубахе и панталонах. Шла вброд через ручей. И погиб. Я из-за нее, она из-за меня. Вошла в дом с серебряными нитями в волосах, стала моей женой...
– Отчего же она не приходит к тебе? Я ни разу ее не видел?
– Ты непременно должен был ее увидеть. Ведь ты мой мастер. Но теперь и я больше не увижу ее.
– Отчего? Что стряслось?
– Рожала в поле... Мне сказали родные... Умерла.
– Ах, сын мой! В поле, значит?..
Молчание, тяжкое молчание заполнило камеру. Назым взволнованно заходил из угла в угол. Что горожане знают об их любви? И что они знают о нашей? Мы называем одним и тем же словом разные вещи. И удивительно, что еще понимаем друг друга. Впрочем, и слова разные: мы говорим – полюбил, они – погиб. Мы – признался в любви, они – бросил яблоко, мы – отказала, они – не дала воды. Их язык точней и образней... Но любовь, что за странная это любовь...
В семнадцать лет он назначил первое в своей жизни свидание. Кадыкёй на азиатской стороне был тогда еще мало застроен. Они с Мариной, греческой девушкой, прислуживавшей в доме Назыма-паши, встретились на склоне холма. Он назывался Нарциссным полем. Там и правда было много нарциссов. Его сердце стучало, как колокол. Губы Марики пахли миндалем. Она принесла его с собой в кулечке, жареный соленый миндаль... А Ибрагим, Вели и тысячи, десятки тысяч крестьянских парней, как их отцы, деды, влюбляются, даже не коснувшись девичьей руки... Быть может, в отношении между мужчиной и женщиной – это ведь одновременно и отношение людей друг к другу и отношение их к природе – и выясняется, насколько человек стал человеком... Что можно было понять в его собственной жизни, в его поэзии и даже его борьбе, не зная о его любви? Для иных, может, и не обязательно знать об их любви – важнее знать об их отношении к деньгам, к власти, жратве и питью. Но для него это так – нужно знать его отношение к женщинам, чтобы понять его самого – каждая любовь, не меньше, чем убеждения, сказывалась и на его жизни и на его поэзии.
Любовь – это целый мир. Он рано постиг его премудрости. Торопился. Но всю жизнь чувствовал себя новичком. Точь-в-точь как в поэзии. В юности в оккупированном бурлящем Стамбуле, проводя свои дни в кофейнях, на поэтических сборищах, в редакциях газет, он влюблялся часто и каждый раз на всю жизнь. Может, здесь тоже сказалась традиция. Но, верней, потребность в самоутверждении, самопознании. Достоин ли ты любви, можешь ли быть любимым и любить, – только убедившись в этом, юноша становится мужчиной.
Да, целый мир, с враждой и самоотверженностью, подвигами и предательством, своими законами – строгими и беспощадными, как в природе. Кто в юности не мечтает о любви, которой можно отдать себя всего целиком, оставаясь самим собой, любви, которой унизительны ничтожные хитрости самолюбия. Но почему-то большинство со временем смиряется, с годами приходит к убеждению, что любовь, как и все в жизни, это, в сущности, компромисс. А он?
Тогда же, в семнадцать лет, его постигли и первые разочарования. Он был влюблен без памяти, и она отвечала ему, казалось, тем же. Как-то они разломали куриную косточку. Есть такая игра «Помни – помню!». По-гречески ее называют «Ладос». Разломав косточку, ты не имеешь права ничего брать из рук партнера, не сказав «Помню! Помню!». Не скажешь – проиграл. Они разломали косточку. И она стала при нем расчесывать длинные великолепные черные волосы. Он смотрел на нее, как на картину, – нельзя выказать большее доверие, чем позволить мужчине присутствовать при туалете. И вдруг, усевшись к нему на колени, она протянула черепаховый гребешок: «Расчеши мне волосы, милый!»
Забыв обо всем на свете, он провел рукой по ее волосам, взял расческу.
Она вскочила с колен и, захлопав в ладоши, закричала: «Ладос! Ладос!» Расческа выпала из его рук и разбилась на мелкие кусочки... Казалось бы, наивная игра. Но было обмануто доверие. Он был так открыт в ту минуту, что любой толчок локтем, даже самый легкий, приходился прямо в сердце. Впрочем, он написал об этом стихи...
Если бы это было самым большим из ожидавших его разочарований! И все-таки он не смирился. Нет, любовь не компромисс – если она им стала, то перестала быть любовью. По крайней мере так это было для него. Но что он мог объяснить вот этим крестьянам? Что поняли бы они из его юношеских стихов о черепаховом гребешке? Да и вообще из его стихов о любви...
Назым обернулся. Посмотрел на застывших в почтительном молчании крестьянских парней.
– Да, так на чем мы остановились, Вели?
И Вели рассказал.
С тех пор как увидел ее у источника, глаз не мог сомкнуть. Решил, единственный выход – украсть. Сговорился с приятелем, позвал на помощь брата, и ночью вошли в ее дом. На ощупь нашли постель девушки, подняли и вынесли на улицу.
– Ах, черт, прямо так, спящую, и украли? – ужаснулся Назым.
– Прямо так, спящую, и украли. Бабушка ее проснулась. Но вместо того чтобы звать на помощь, стала творить молитву – верно, решила спросонья, что внучку утащили джинны...
Заткнули невесте рот платком и понесли в сады у деревни. Здесь, однако, все сложилось не так, как задумали. Приятель вдруг объявил, что девка – его. Началась драка. Пока они дрались, девица возьми и убеги. Приятель стал его душить, Вели схватился за нож...
Когда он ушел, Назым долго ходил по камере, пощипывал усы и бормотал: «Вот так рассказ... Нет, не понимаем мы крестьян. Мы – интеллигенты... Вот вам любовь!..»
Наконец увидел рисунок Ибрагима. Остановился.
– Молодец, подмастерье! Какое выражение лица! Рот искривлен печалью, а глаза сияют надеждой. По-моему, никто еще не сумел это так совместить. Как ты сумел?
– Не знаю.
– Вот те раз! Как же это не знаешь? Станешь мастером только тогда, когда будешь знать! Ты слышал, что рассказал Вели?
– Не только слышал, сам видел не раз, сам пережил!
– Ага! Сам пережил! Надо работать, не забывая себя, не отрицая... Пойдешь против себя – пропал. Ты ведь не каштановый орех. Тот, чтобы стать деревом, должен исчезнуть, изжить себя. А ты, наоборот, чтобы вырасти, должен себя найти, утвердить. Впрочем, хватит, ты вряд ли еще можешь меня понять!.. Хватит на сегодня.
Ибрагим приложил руку ко лбу. Попрощался. Вышел из камеры...
...Легко сказать – найти себя. Большинство людей живут на белом свете, даже не сознавая себя. Жизнь устроена так, что постоянно требует отказаться от себя – в пользу бога, государства, родины, идеи, родной деревни, общественного мнения. Потерять себя куда проще, чем, не утратив ни веры, ни родины, ни идеи, обрести себя, утвердить. И еще – нельзя обрести себя как личность раз и навсегда. Это как любовь – постоянный пожизненный труд. Сколько живешь, столько утверждаешь или теряешь себя – каждым своим поступком, в каждый миг...
Для него первым шагом к себе был, пожалуй, тот последний день двадцатого года, когда они встретились с Валей Нуреддином у Галатского моста в пивной «Дженьо».
Над городом стояла зимняя дымка. Воды Золотого Рога и Босфора были серы. Прохожие, шагавшие по мосту, зябко кутались в свои одежки. На Вале было старенькое коротенькое пальтишко коричневого цвета. Ботинки в заплатах. В одной руке – коричневый кожаный чемодан, в другой – портфель, доставшийся по наследству от покойного отца. Тощий, голодный юноша. Все имущество Назыма помещалось у него под мышкой – пара чистого белья, завернутая в газету, на голове – феска без кисточки, а на ногах – потертые полуботинки. Серое пальто с бархатным воротником. Зато в кармане позванивали денежки – он только что продал бинокль, подаренный дядей, единственную свою драгоценность.
Выпив по кружке пива, приятели поднялись в гору, миновали закованную в обручи колонну и зашли в отель «Махмудие», рядом с гробницей султана Махмуда. Здесь они провели свою последнюю ночь в Стамбуле...
...Перебраться в Анатолию к повстанцам, увидеть все своими собственными глазами они задумали с Валей еще летом. Жить в оккупированном Стамбуле стало невыносимо.
В тот день, когда Назым рассказывал своим товарищам о подвиге французского морского офицера и в бессильной ярости швырнул оземь феску, они встретились в кофейне у Закованной колонны с полицейским комиссаром. Этот комиссар был связан с кемалистским подпольем в Стамбуле. Он и приготовил теперь для них фальшивые документы. По ним Валя числился торговцем яйцами, а Назым – торговцем шерстью, оба отправлялись в Анатолию по торговым делам.
Деньги на дорогу они получили у некоего Шевки, который занимался зубоврачебной практикой неподалеку от вокзала Сиркеджи. Ни до, ни после никогда больше не встречали они этого человека.
Ранним утром 1 января 1921 года они подошли к пристани Сиркеджи. Утро было холодное, промозглое. У пристани стоял старенький пароходик под названием «Новый мир». Откуда им было знать, что этот крохотный пароход завезет их действительно в совсем иной мир. А может, если б знали, какой им предстоит путь, у них и недостало бы храбрости...
Вместе с ними бежали в Анатолию еще два поэта – Юсуф Зия и Фарук Нафыз. Оба были прославленными хеджеистами из салона Джеляля Сахира, оба старше их с Валей на несколько лет. У обоих, кроме желания участвовать в национально-освободительной борьбе, были свои личные причины, побуждавшие их торопиться с отъездом.
Все четверо поднялись на палубу. Провожала небольшая группа знакомых, среди них – полицейский комиссар. Прежде чем распрощаться с беглецами, он отозвал их в сторонку:
– Я должен вас огорчить. Есть опасность, что патруль, оккупантов, проверяющий суда на траверсе Девичьей башни, вас задержит. Хоть вы и значитесь торговцами, у вас слишком интеллигентный вид. Если выяснится, что вы едете к повстанцам, вы подведете полицейских, работающих на национальное движение, и сами окажетесь в «Арапьянхане». Прошу вас поэтому, как только пароход подойдет к Девичьей башне, хорошенько спрячьтесь среди груза на носовой палубе...
«Арапьянхан» – о нем ходили страшные слухи – был политической тюрьмой.
Тоскливый гудок возвестил об отплытии. Дома, стоявшие у самой воды, Галатский мост, султанский дворец Топкапы на мысу стали медленно отступать назад, уменьшаясь, как в перевернутом бинокле. А справа на скале, торчащей из воды ближе к азиатскому берегу, все вырастая, приближалась Девичья башня. В древности на этой скале помещалась стража, собиравшая подать со всех судов, проходивших Босфор. Отсюда византийцы натягивали через пролив цепи, преграждавшие путь вражеским судам. А теперь здесь стояла застава интервентов, досматривавшая суда, идущие через Босфор в Черное море и обратно.
От башни отделился катер с солдатами. Четыре турецких поэта, стараясь не привлекать внимания и в то же время сохранить достоинство, вышли на носовую палубу, нашли укрытие среди тюков с шерстью и кип хлопка.
Лежа лицом вниз среди кип, Назым вспоминал события последних месяцев, приведшие его сюда, на эту сырую трясущуюся палубу.
Он снова влюбился. В дочь одного из издателей «младотурецкой» газеты «Танин», но она вместе с семьей перебралась в Анатолию. Это была одна из причин, заставившая его поторопиться, иначе легко было потерять ее след. Но главной причиной были стихи. Юсуф Зия, знакомый ему по салону Джеляля Сахира, заведовал литературным отделом в газете «Алемдар». Газетка была холуйская. Каждый номер ее открывался славословиями падишаху, предавшему национально-освободительное движение, и проклятиями повстанцам. Проклятий Юсуф Зия не писал, но за оду в честь падишаха получил орден. Теперь он волновался, не осудят ли его националисты, сторонники Мустафы Кемаля за этот орден, хоть он немало сделал, чтоб обелить себя в их глазах. Взять, к примеру, последние стихи Назыма. Ни одна газета их бы не напечатала, а он напечатал.
В последние месяцы Назым стал ярым националистом. Писал стихи, в которых уверял, что «под копытами каждого нашего коня, поднятого на дыбы, собачьей смертью околеют тысячи взбунтовавшихся рабов». Под взбунтовавшимися рабами имелись в виду греки, которые были некогда рабами Османской империи, а теперь по приказу англичан вели наступление на Анкару. В другом стихотворении, «Путник, если ты идешь на Восток», Назым писал о «сердцах, пылающих сочувствием», «о солнце победы, что непременно взойдет в седых подпирающих небо горах». Для него были священными «внезапно рухнувшие развалины» Империи и огонь национально-освободительной войны виделся «стрельбой из-за розовых кустов».
Национально-освободительная война представлялась Назыму в образах народных сказок и легенд. Тут, понятно, сыграла свою роль и необходимость скрыть мысль от цензуры, но попроси его написать иначе, достоверней, в те дни он все равно не сумел бы иначе.
Наибольшее впечатление на патриотически настроенную публику произвело его стихотворение «Пленник сорока разбойников», которое Юсуф Зия тоже напечатал в «Алемдаре». «Пленник сорока разбойников» – так аллегорически изобразил поэт Турцию в плену империалистических держав. Разбойники отрубили одну руку пленнику, то есть европейскую часть Империи. Теперь они кричали палачу:
«Руби, руби вторую руку!»
Палач пригнулся, побледнев.
И сжал топор в тяжелом кулаке.
Но в воздухе грозой вскипел народный гнев.
И засиял топор у пленника в руке.
Это уже звучало как призыв к восстанию. Оккупационные власти всполошились. Как случилось, спрашивали они султанское правительство, что подобные стихи могли появиться в проправительственной газете?..
На палубе совсем рядом послышались шаги. Кованые сапоги гулко стучали по железу. Назым затаился...
Юсуф Зия оправдывался тем, что не увидел, дескать, никакой политической аллегории. Но вряд ли ему удалось бы убедить в своей наивности английскую контрразведку, если бы она решила им заняться. Самое время было исчезнуть вместе с молодым автором стихов из Стамбула...
Шаги на палубе медленно удалились. Под бортом затарахтел мотор. Очевидно, патруль ничего не обнаружил и благополучно отвалил от судна...
После опубликования «Пленника» Назым, вообще мало бывавший дома, совсем перестал там появляться. Не скоро, теперь узнают родные, что он бежал в Анатолию: почта ходила долго и нерегулярно. Впрочем, Валя сообщил обо всем своим. И через несколько дней они, быть может, уведомят Хикмета-бея, где его непокорный сын... Пока же он сам еще не знал, куда едет и что с ним будет. Доберутся до Анкары, а там будет видно. В Анатолии, о которой они только и слышали как о прекрасной обетованной земле, они по крайней мере будут свободны...
Палуба уже давно тряслась крупной дрожью. Судовая машина крутилась на полных оборотах.
Выждав еще какое-то время, Назым вылез из укрытия. Поправил феску, отряхнул пальто. И поднялся в салон. Остальные поэты уже были там.
В тесном четырехугольном салоне, пропахшем плесенью и гнилыми досками, были еще пассажиры. Они не знали друг друга, но было видно, что едут, как и поэты, отнюдь не по тем делам, которые значились в документах, а может быть, и под вымышленными фамилиями. Здесь были и молодые люди, только что окончившие лицей. И, судя по тому, как неловко сидела на них гражданская одежда, бывшие офицеры и военные чиновники, оставшиеся в Стамбуле не у дел, – армия демобилизовалась. В общем молчаливая и странная публика.