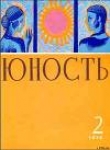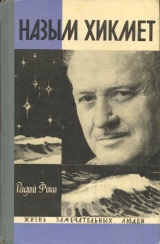
Текст книги "Назым Хикмет"
Автор книги: Радий Фиш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
– Отец пятый день голодает? Где это видано, чтоб так постились?
– Он начал голодную забастовку.
– Как говоришь, забастовку? А зачем?
– Чтоб добиться справедливости для всех нас.
– Разве голодовкой чего добьешься? Я вон сколько себя помню, голодаю, а что проку?
– Его голодовка не твоя. Голодная забастовка – это борьба. Если он добьется чего хочет, мы все получим свободу.
– Свободу? То есть выйдем из этой кутузки?
– Если добьется, выйдем.
– Ай да отец! Дай аллах ему долгих лет... Все пойдем по домам...
– А если не добьется, умрет?
– Если не добьется, умрет.
– Я остаюсь. К черту! Пусть бросает свой пост. Пусть живет...
– Тебе легко говорить – один год остался. Посидел бы в моей шкуре еще десять...
– Я за убийство пятнадцать лет получил. Теперь, чтобы выйти, отца убить? Не пойдет. Скажи, чтоб бросил свой пост. Он не должен умереть.
– Пусть живет... Мы все пойдем! Пусть не умирает!..
Вечером пятого дня, опасаясь бунта в бурсской тюрьме, власти увезли Назыма Хикмета в Стамбул, положили в тюремную больницу Джеррахпаша...
Я гляжу на пожелтевшую газетную фотографию, снятую 14 апреля 1950 года. Назым в распахнутом пальто, с непокрытой головой – в Стамбуле уже тепло – идет по больничному двору. На его исхудалом лице едва заметная улыбка. Он смотрит куда-то вверх – то ли ему машут рукой из окна, то ли глядит на весеннее блеклое небо. Чему он улыбается – знакомому лицу, своим мыслям или воздуху родного города?
На шаг позади по бокам следуют два охранника. На их лицах, стертых, как старые медяки, сознание значительности момента и собственной важности.
Это не простые охранники. Тот, что ближе всех к аппарату, глядит в него, – комиссар, известный в уголовном мире Стамбула под кличкой Беспалый. На одном из процессов над патриотами, выступая свидетелем обвинения, он показал под присягой, что является руководителем политической тайной полиции и служит в охранке с 1915 года. Начинал как филер султанской полиции – выслеживал вольнодумцев. В годы оккупации, когда Стамбул был поделен интервентами на комендатуры, поступил на службу в американский полицейский участок Галата-Каракёй, ловил и допрашивал кемалистов, помогавших национально-освободительному движению. Охранка помещалась тогда в том же здании Санаеарьявдана, что и в пятидесятых годах. Разница теперь состояла в том что пытали не в подвалах, как при интервентах, а на верхних этажах, и не кемалистов, а коммунистов.
Видный турецкий коммунист С. Устюнгель вспоминает: «Однажды начальник отдела по борьбе с коммунизмом по прозвищу – это Англичанин прозвище он получил при оккупантах за службу в английской контрразведке – устроил мне очную ставку с текстильщицей Зийнет.
– Знаешь его?
– Не знаю.
Англичанин пришел в бешенство. Обернулся к стоявшему рядом Беспалому:
– У потаскухи грудной ребенок. А ну покажи себя !
Охранники набросились на женщину, сорвали с нее одежду… Беспалый длинными булавками прокалывал ей грудь. Но губы работницы выговаривали только два слова: «Не знаю!»
Вот кому была доверена в тот апрельский день важная государственная миссия доставить в больницу Джеррахпаша национального поэта Турции.
Говорят , можно судить о человеке не только по его друзьям, но и о его врагам. Ни один Беспалый считал себя врагом Назыма Хикмета. Но они, как свойственно людям ничтожным, преувеличивают своё значение.
Выйдя на свободу, Назым Хикмет по обыкновению устремился в будущее. Он очень редко вспоминал тюрьму. Мне кажется, думая о надзирателях, которые плакали, слушая его стихи, он скорее испытывал жалость, чем презрение, а о таких, как Беспалый – брезгливость, но не гнев. Они были для него не людьми – орудиями. А стоит ли презирать топор или железные решетки? Казалось, все эти годы Назым сражался не с людьми, а с черными стихийными силами, и не из тюрьмы вышел, а возвратился после долгого и мучительного пути. Может ли путник гневаться на острые камни, на иглы растений или на диких животных, причинивших ему страдания?..
Назым Хикмет продолжал голодовку. Каждый день его осматривали врачи. С каждым днем таяли его силы. И с каждым днем все громче становились голоса протеста.
В Анкаре, в Кайсери, в Измире, в Адане на стенах домов, на фабриках и школах появлялись надписи: «Спасем Назыма Хикмета!», «Свобода Назыму Хикмету!» Это требование предъявляли депутатам всех партий во время их предвыборных выступлений.
Полиция принимала свои меры. «Против лиц, распространявших листовки, озаглавленные «Спасите Назыма Хикмета!», возбуждено судебное преследование, – писал официоз «Улус», – под стражу взяты двенадцать человек, в том числе семь девушек». Но что могла поделать полиция, если протестовал весь мир? Французские докеры на массовых митингах принимали петиции к своему правительству, призывая его настаивать перед турецкими властями на немедленном освобождении поэта. Американские писатели Майкл Голд, Бен Филд, Говард Фаст, Уильям Петерсон и другие направили тогдашнему государственному секретарю США Ачесону телеграмму с требованием использовать влияние США для освобождения турецкого поэта. Из страшного концлагеря на острове Макронисос долетел до Стамбула голос заключенного греческого поэта Лудемиса, который от имени своих товарищей, от имени всех патриотов Греции призывал освободить Назыма Хикмета.
Писатели Болгарии заявили: «Мы глубоко потрясены жестокостью турецких властей по отношению к народному поэту, который является гордостью турецкого народа и мировой прогрессивной общественности».
Телеграммами протеста были завалены канцелярии премьер-министра, министра внутренних дел, турецких посольств и консульств за границей. Собранные вместе, они составили бы несколько томов великой книги человеческой солидарности, о которой так тосковал и за которую боролся Назым Хикмет.
...Писатели Болгарии... Он приедет в их страну через год, в 1951-м, прямо с Берлинского фестиваля. Поэт, не написавший ни одной строки, кроме как по-турецки, и лишенный на родине возможности говорить со своим народом, он впервые получит здесь эту возможность.
В Болгарии живет свыше полумиллиона турок. Спекулируя на их национальных чувствах, правительство Мендереса пойдет на новое национальное предательство. В отсталой, слаборазвитой Турции сотни тысяч рабочих рук не могут найти себе применения, вскоре начнется массовая эмиграция турецких безработных в Западную Германию. Анкара же будет призывать болгарских турок эмигрировать в Турцию.
Поверив пропаганде, тысячи турецких крестьян в Болгарии продали имущество, дома, скот, получили паспорта. Но турецкая граница закрылась. Лишь после многомесячных мытарств часть их была принята в Турции и размещена в лагерях под открытым небом...
Глядя на празднично одетых крестьян, съехавшихся в болгарский город Русе, чтобы услышать его голос, он представит себе те дни, когда готовился к смерти в больнице Джеррахпаша, а эти самые люди вышли на эту же площадь, чтобы требовать его освобождения, и всем своим существом почувствует, что должен помочь сейчас им, помочь отличить ложь от правды, как они помогли ему устоять в те дни. Он так и скажет им. Но он не привык разговаривать с людьми с трибун и балконов. Войдя в толпу, он поведет людей в соседний парк, рассадит на траве вокруг себя, как обычно сидят на сходках люди его народа: старики впереди, молодежь поодаль. И начнет разговор с тысячами людей, словно говорит с каждым из них.
Крестьяне повсюду обычно тугодумы и упрямцы. Но турецкий крестьянин упрямец вдвойне. Найдутся упрямцы и здесь. Он вызовет их в круг, поставит рядом с собой и будет говорить с каждым из них, словно говорит со всеми сразу.
И упрямцы сдадутся. Станут здесь же рвать паспорта. А иные вызовутся сопровождать его в поездке по деревням, чтобы помочь убедить земляков.
Здесь, в Русе, он встретится с одним из своих героев, с Бетховеном Хасаном из «Симфонии Москвы». Вместе с ним он слушал симфонию Шостаковича в бурсской тюрьме. Своим прозвищем – Бетховен – Хасан обязан увлечению симфонической музыкой. Он не знал нот, не играл ни на одном инструменте. Шестнадцатилетним учеником наборщика из Стамбула, наглядевшись гангстерских фильмов, ограбил магазин, чтобы попасть на олимпиаду. И попал в тюрьму.
– Сердце мое – симфоний склад,
горло – оркестр! – говорил он.
В камере вместо концертного зала давал концерты он.
– Учитель, – сказал он, – я тоже хочу симфонию сочинить.
Новую, под названием «Их не победить!».
Послушай-ка, вот начало!..
Стал напевать Бетховен Хасан
и вдруг остановился.
В черных глазах блеснула печаль обиженного ребенка и ненависти огонь...
– Иль не стало вдохновенья?
– Нет, полон я по горло, но...
(Бетховен плакал.)
– Учитель, у меня нет права писать об этом... Я – вор!..
– Неверно. Воры – паразиты. А ты наборщик молодой и честный композитор.
Назым не ошибся в нем. Выйдя из тюрьмы, Бетховен Хасан не нашел работы. Но не стал вором. Тайком перешел болгарскую границу, поступил в Русе на завод, работает, учится музыке...
В Болгарии встретится Назым Хикмет еще с одним своим героем: Бедреддином. Он проедет по тем же дорогам Делиормана, по которым пятьсот лет назад скакали кони вождя повстанцев. И на этих дорогах почувствует, что обязан помочь воплотиться мечте Бедреддина: «Всем сообща поля пахать, всем сообща срывать плоды с ветвей и есть инжир медовый в общем доме...» Он остановит машину, выйдет на дорогу к делиорманским крестьянам. И вместе с ними под вечер войдет в прокопченную кофейню деревни Беловец. По обычаю народа поцелует руки старикам, напомнит им о Бедреддине. Пойдет с ними из дома в дом. И к середине ночи в деревне будет организован кооператив. Это повторится во многих деревнях. В Добрудже в деревне Гуслар кооператив назовут его именем. В Родопах горную деревню Чифтлик крестьяне переименуют в деревню «Назым Хикмет». И на первые гонорары за свои книги, которые начнут выходить во всем мире, он купит для них советский грузовик.
Его поездка превратится в народный праздник. Его будут встречать песнями – он запоет вместе с ними, в его честь станут соревноваться борцы – пехлеваны, девушки поставят его в центр хоровода – он будет плясать вместе с ними. Крестьянские матери будут протягивать ему своих детей, названных его именем, как протягивали Ферхаду своих детей матери легендарного Арзена.
В эти дни турецкие газеты сообщат: «Назым Хикмет, красный поэт, убит разгневанными турецкими крестьянами в Болгарии». Поторопившись, они выдадут желаемое за истинное.
На одной из встреч кто-то действительно перережет провод микрофона. И Назым опять шагнет в толпу и поведет ее на луг. И народ сам будет охранять своего поэта... Нет, недаром боялись его влияния на массы те, кто готовился эти массы предать.
И в Софии, сидя в парке под старым каштаном, он сам с удивлением подумает о той силе, которую обрело за эти годы его слово и которую он впервые реально ощутил именно здесь, в Болгарии.
Под этим старым каштаном его в письме попросит посидеть Мюневвер: она родилась в Софии. Сохранилась фотография: годовалый ребенок сидит с нянькой на скамье под каштаном в парке «Царя Бориса». «Сходи туда, сядь под самым старым каштаном. И забудь обо всем, даже о нашей разлуке забудь».
Я в Софию приехал весенним днем, моя сладкая.
Запахом лип дышит город, где ты родилась.
Я по мару брожу без тебя.
Что поделать? Видать, не судьба...
Ты себе и представить не можешь, как встречали меня земляки.
Город, где ты родилась, для меня теперь братский дом.
Но и в доме брата, и в нем не забудешь о доме родном.
Хуже смерти, милая, быть эмигрантом...
Здесь деревья все те же стоят, но умерли старые скамьи.
Парк Бориса стал парком Свободы.
О тебе одной я думал под старым каштаном,
о тебе одной, то есть о Мемеде,
о тебе одной, о Мемеде, то есть о нашей стране.
На двенадцатый день голодовки Мюневвер пришла к нему с известием, что большинство депутатов Демократической партии обязалось голосовать за всеобщую амнистию, если они будут избраны. А судя по всеобщей ненависти к правящей Народно-республиканской партии, они, если не случится «чуда», должны на выборах в мае победить.
Мюневвер в этот раз была не одна. Вместе с нею пришла Фатьма Ялчи, верный товарищ, одна из двух женщин, осужденных вместе с Назымом военно-морским трибуналом на судне «Эркин» в 1938 году и отправленная вместе с ним и Кемалем Тахиром после приговора в тюрьму города Чанкыры.
Вспоминает Фатьма Ялчи
Назым, вытянувшись во весь рост, лежал на кровати. Увидев нас, приподнялся. Мюневвер подложила ему под спину подушки. Он всегда при встрече обнимал меня. В этот раз мы впервые не обнялись – он был очень слаб, нельзя было его утомлять. Лицо у него было желтое. Исхудавшее. Только курчавые рыжие волосы остались прежними да синие, полные жизни глаза. Мы не виделись после Чанкыры. С той поры прошло десять лет. Похудел ли он раньше или во время голодовки, я не знала... Вместо обычного громкого смеха – слабая улыбка.
– Как дела, Назым?
– Доктора говорят: изо рта у меня пахнет ацетоном. Признак, что день разлуки близок...
Я молчу. Молчит Мюневвер. Сердце у меня обливается кровью. Я не нахожу слов, которые укрепили бы его мужество. Пытаюсь заменить слова взглядом. Я восхищаюсь Мюневвер. Быть его кузиной, стать его женой и смотреть, как он погибает на твоих глазах. Это нелегко... Не показывать своих мучений, вовремя поддержать его силы словом и делом. Это нелегко...
За стенами больницы прогрессивные интеллигенты и молодежь продолжают борьбу за амнистию. На улицах продают газету «Назым Хикмет». На Галатском мосту его мать Джелиле-ханым взывает: «Не забывайте Назыма Хикмета! Мой сын умирает, спасите его!» И протягивает к толпе газету.
Я хочу ему все это рассказать. Но в горле у меня ком. Голос мой может дрогнуть. Я могу расстроить его, ослабить его силу... Я жду. Пытаюсь думать о другом. И когда чувствую, что могу совладать со своим голосом, говорю:
– Твоя мама здорово борется, Назым!
Он радостно оживляется. Не потому, что она борется за его освобождение, а потому, что он гордится своей матерью.
Я не говорю, что делает Джелиле-ханым. Боюсь взволновать его.
– А ты как? – спрашивает он.
– Сам знаешь, отсидела десять лет, вышла. Уже два года в миру...
Больше мы не разговариваем. Нужно беречь его силы, Я не говорю ему: «Амнистия обязательно выйдет, Назым». Сама знаю, что он ответит: «Разве я начал голодовку, решив, что будет амнистия? Если я готов принять смерть, то для того, чтоб освободить наших товарищей!» Никто не вправе преуменьшать его героизма...
«Я восхищаюсь Мюневвер»... Из трех тысяч ее писем, полученных Назымом Хикметом за десять лет разлуки, родилось одно стихотворное «Письмо из Стамбула». Прочтите его, и вы поймете, отчего каждый, кто удостоился чести знать эту удивительную женщину, не может ею не восхищаться. Одна история ее бегства из Турции: обманув полицию, она бежала в чем была с двумя детьми на яхте, принадлежавшей итальянскому поклоннику поэзии Назыма, яхта потерпела крушение у берегов Лесбоса; без денег и без паспорта Мюневвер оказалась с детьми в фешенебельном отеле Афин и изображала миллионершу, – одна эта история могла бы стать темой героической повести.
Из стихотворных писем Назыма Хикмета к Мюневвер, написанных за годы, что он бродил по миру, пока она жила и растила сына под круглосуточным надзором полиции, когда-нибудь будет составлена книга не менее поразительная, чем книга его лирических писем из тюрьмы, книга, в которой нераздельны любовь и тоска по родине, радость открытия мира и сознание, что открытие это пришло слишком поздно, ожидание смерти й восхищение перед жизнью, книга о мужестве и позоре нашего времени.
Пока есть время, милая,
пока Париж не сожжен, не разрушен,
пока есть время, милая,
пока сердце мое на ветке своей,
в одну из этих майских ночей
я должен прижать тебя к стене набережной Вольтера
и в губы тебя целовать,
и потом, повернувшись лицом и Нотр-Дам,
мы должны смотреть на его окно-цветок,
и ты должна прижаться ко мне,
почувствовав страх, удивленье и радость,
и плакать беззвучно,
и звезды должны моросить, мешаясь с мелким дождем.
Пока есть время, милая,
пока Париж не сожжен, не разрушен,
пока есть время, милая,
пока сердце мое на ветке своей...
Снова десять лет только в стихах мог он разделить свою любовь с любимой, только на бумаге... Но ему уже не тридцать пять, а пятьдесят, и большее уже позади, а меньшее впереди. И там, позади, была не жизнь, а тюрьма – ожидание жизни. И теперь снова ожидание. Чего?..
Снежной рощей иду я ночью,
и березы дремлют вокруг.
На душе тоскливо, тоскливо.
Дай мне руку, где же ты, друг?
Что дальше: родина, юность
или свет этих дальних звезд?
Вон окно одно теплое манит,
желтея среди берез...
В семихолмом городе дальнем
я простился с милой моей.
Не стыдно бояться смерти,
не стыдно думать о ней...
...Он не умрет в стамбульской больнице Джаррахнаша. Но дыхание смерти, которое уловили там доктора, он будет слышать с тех пор непрестанно. В 1952 году четыре месяца с разорванным сердцем он будет лежать на спине, ожидая смерти.
В московской больнице на улице Калинина родятся строки «Последнего письма к Мемеду».
Между нами стоят палачи.
И к тому же
злую шутку сыграло со мной
это проклятое сердце опять.
Не придется, видно, сын мой, Мемед,
не придется тебя повидать...
Мама твоя мягка, точно шелк, и, точно шелк, крепка.
Мама твоя и в бабушках будет красивой,
как в тот день, что я встретил ее впервые
у Золотого Рога в семнадцать лег.
Мама твоя...
Светлым утром расстались мы с ней,
чтобы встретиться вновь.
Но не довелось...
Не боюсь я смерти, Мемед.
Только вот за работой порой
дрогнет сердце:
нелегкая вещь одиночество,
если дни твои сочтены.
Доктора запретят ему писать. Но стихи вопреки запрещению будут шлифоваться и жить в памяти. Московская «Литературная газета» поместит его «Разговор с доктором», который запретил ему вино и табак, потребовал, чтобы он дал сердцу полный покой и не тревожил его ни радостью, ни гневом, иначе оно лопнет, как ручная граната.
Точка: ни вина, ни водки,
даже когда соберутся гости,
даже на праздники, в новогоднюю ночь,
в день рождения Кости...
Но, милый мой доктор,
вот, например, могу ли не радоваться... когда во Франции
в этом году в апреле на выборах победили наши?..
Но как не гневаться, когда вспоминаю,
что бьется моя родная земля
под ногами кучки негодяев?
Могу ли, мой кареглазый доктор, не тосковать
при мысли, что не увижу Мемеда,
не увижу больше его мать?
Оставьте, доктор, ведь это – сердце.
Слышите, как оно бьется?!
И если от радости или от гнева
разорвется -
пусть разорвется.
Десятки писем придут в газету на его имя. От солдат, студентов, рабочих. «Он обязан сохранить свое сердце, и если нельзя иначе, то ценой полугодового полного «выключения» из жизни. Слышите, Назым Хикмет! Вы должны сберечь свое сердце, оно нужно людям, нужно Вашей родной Турции, оно слишком дорого... Надо выйти победителем из поединка с болезнью».
Любовь читателей поддержит его волю в московской больнице, как она поддержала его в больнице Джеррахпаша. Но письмо это написал молодой человек. В двадцать возможно невозможное в пятьдесят, в двадцать большее еще впереди.
Укрощенная и в этот раз его волей, смерть совьется клубком, затаится в его груди, то и дело подымая голову и слушая воздух: не настал ли ее час?
Я привыкаю к старости, к этой самой трудной работе -
к стуку в двери в последний раз,
к беспрерывному расставанию.
Часы, вы течете, течете, течете...
в моем мире вкус сигареты,
которую курят с утра натощак.
Смерть раньше себя прислала ко мне одиночество...
В Гаване и в Москве, в Париже, в Праге, в поезде и в самолете, в машине, разговаривая с друзьями, читая стихи, он будет замирать на мгновенье, прижав ладонь к груди: «Нет, не сейчас!» И продолжать говорить, идти, думать. Каждый день, каждую ночь, каждое утро он будет шить вместе с нею, рядом с нею.
В этом году в начале осени на юге
я натираюсь морем, солнцем и песком,
я натираюсь деревом и яблоками, как медом.
Ночами небо пахнет, как посев,
и опускается на пыльную и теплую дорогу.
Я натираюсь звездами.
Я привыкаю к морю, милая, и к солнцу,
и к яблоку, и к звездам, и к песку,
все больше привыкаю.
Смешавшись с морем, с солнцем, с яблоками,
со звездами, с песком,
я должен уходить.
И однажды он поймет, что ждать больше бесполезно, ибо жить ему осталось считанные месяцы, что вся жизнь прошла в ожидании.
Он перестанет ждать. Перестанет ждать Мюневвер, ибо не увидит ее больше. Перестанет ждать смерти – она рядом.
Он снова начнет курить, станет по праздникам пить вино, будет ложиться за полночь, когда захочет, а не когда велят врачи. «Я снял с себя идею смерти».
И он снова полюбит. Неважно, что женщина, которую он полюбит, будет много моложе его и потому многое в нем ей может быть непонятно – она будет рядом, живая, во плоти. Он не может отдать небытию то, что нельзя воплотить в поэзии, передать в письмах. Он не может больше ждать любви.
Я люблю тебя, как люблю есть хлеб, обмакнувши в соль,
как проснуться от жажды утром рано и пить воду прямо из крана,
как с волнением, радостью, ожиданием
раскрывать посылку, неизвестно откуда, неизвестно с чем,
как впервые лететь в самолете над просторами океана,
как в Стамбуле в сумерки ощущать в себе странную тревогу,
я люблю тебя, как слова: «Жив еще, слава богу!»
И когда он решит, что не увидит больше ни Мемеда, ни Мюневвер, когда он перестанет ждать, Мюневвер приедет в Варшаву.
Они встретятся в одном из отелей. Он расскажет ей обо всем.
В его жизни были женщины, которые поступили бы иначе. Быть может, постарались его вернуть – ради сына. Быть может, хоть слово упрека да сорвалось бы у них с языка...
Мюневвер сказала:
– Что же, будь счастлив, Назым!
Он постарается быть счастливым и будет им – бродя по улицам Гаваны, слушая голос Робсона, поющий его песни на Ассамблее Мира в Хельсинки, глядя на демонстрантов Парижа. Но однажды ночью в поезде Москва – Берлин он вдруг почувствует, что живет в этом поезде долгие годы, словно вышел в путешествие без возврата. И задохнется от печали.
На пароме через Дунай, на африканском берегу Атлантики, на приеме у президента Насера, среди феллахов в арабской деревне сами собой будут складываться строки его последнего стихотворения: «Как вы снесете меня с третьего этажа? В лифт не влезет гроб, а лестницы узкие?»
Возвращаясь из Каира в Москву, он пролетит над Турцией, но даже с воздуха не увидит ее – она будет закрыта облаками. И, прочитав отражение своей боли в глазах летящих с ним русских поэтов, скажет: «Когда настанет мой час, прошу, накройте меня планетой!»
Опьяненный молодостью, он будет спешить. Дожить недожитое, увидеть невиденное, долюбить недолюбленное.
И он напишет:
Мой стол, моя машинка и бумага,
моя одежда – все в крови.
И мостовые городов, где я бывал,
и стены комнаты – в крови.
Я грудь раскрыл, мы поедаем мое сердце вместе с некой самкой.
Пиши мне письма, шли мне телеграммы, звони по телефону,
скажи мне: еду, еду, еду!
Смерть, образумь меня!
В Таллине на новогодней елке, окруженной готическими шпилями и фабричными трубами, он увидит в красном стеклянном шарике «солому волос, ресниц синеву». Но когда останется один, то поймет, что сам вложил их в этот шарик стеклянный, развесил на все новогодние елки, на все балконы и окна, на все ожиданья.
И когда погаснут елочные огни, снова зажгутся над его головой крупные-крупные, яркие-яркие звезды Босфора.
Он познает чудо повторения. Но и неповторимость повторения.
Ранним утром 3 июня 1963 года он проснется в своей московской квартире. Как обычно, пойдет к двери за газетами, вынет их из ящика.
Тут его и настигнет смерть.
Открываем двери, проходим в двери, закрываем двери.
И в конце путешествия ни города, ни гавани.
Поезд сходит с рельс, корабль тонет, самолет разбивается.
Карта, нарисованная на льду.
Если б спросили: «Пойдешь еще раз?»
Сказал бы: «Пойду!»
Он принадлежал к тем немногим поэтам, которые не писали стихов, – поэзия была его жизнью. Он рассказал ее сам от начала до конца, до своих собственных похорон.
Она вместила в себя столько других жизней, столько событий, такую громаду времени и пространства, что по ней будущие поколения могут судить о всей нашей эпохе, ее важнейших общественных и идейных движениях, выдающихся людях и людях самых неприметных, целых классах, народах и континентах той эпохи, когда в поту и в крови рождалось сознание единства человеческого рода. Борьбе за это единство он посвятил свою жизнь.
Центральный Комитет Французской компартии в специальном заявлении писал: «Умолк великий голос Назыма Хикмета. Вместе со всеми защитниками мира и свободы посмертные почести поэту воздают коммунисты всех стран».
Сознанием утраты, понесенной миром, самая его смерть объединила, как объединила и будет объединять его поэзия, сотни тысяч людей во всех концах земли: писателей Кубы и Румынии, Советского Союза и Пакистана, Франции и Ливана, Греции и Чехословакии с политическими деятелями ГДР Вьетнама и Италии; крестьянами Болгарии; рабочих Кореи с музыкантами Японии и актерами Англии; студентов США с повстанцами Боливии. И друг Назыма Пабло Неруда выразит чувства всех этих разных людей в «Осеннем венке Назыму», присланном с другого берега Атлантики.
Что делать нам без гордости твоей, без нежности твоей суровой?
Где взгляд найти, подобный твоему, чтоб в нем огонь с водой смешались?
Тот взгляд, зовущий к правде, полный скорби и радости неустрашимой?
……………………………………………………………………..
Мой брат, солдат, как одиноко без тебя на свете,
без твоего лица, как в золоте цветущая черешня,
без дружбы нашей, что была мне хлебом,
что утоляла жажду, словно влага, и силу придавала крови?
Мы встретились, когда ты вырвался из тюрем...
Я видел на руках твоих следы расправы.
В твоих глазах искал я стрелы злобы.
Но ты принес сияющее сердце, в нем было много ран и много света.
Что делать мне теперь? Как мир себе представить
без тех цветов, что ты повсюду сеял,
как быть в бою без твоего примера,
без мудрости твоей народной и высшего достоинства поэта?
Спасибо, что ты был таким! Спасибо за огонь,
что песнями своими ты зажег навечно.
Говорят, подлинная жизнь великих поэтов начинается после смерти. Это обидно, но почти всегда верно. Подобно свету светил, великая поэзия часто доходит до отдаленных миров, когда светила уже нет на свете.
Судьба поэзии Назыма Хикмета так же необычна, как его собственная судьба. Его стихи при жизни будут печататься в тридцати с лишним странах на сорока языках Земли. И двадцать восемь лет ни одна его книга не выйдет в Турции.
27 мая 1960 года армия, опираясь на народное движение, свергнет профашистское правительство Мендереса, объявившее Назыма Хикмета изменником родины. Мендерес, его заместитель Агаоглу – тот самый, что грозил Мюневвер, – при всеобщем ликовании будут преданы суду военного трибунала за измену родине, приговорены к смерти. Будет принята новая, более демократическая конституция.
Но пройдет еще четыре года, прежде чем, прорвав цензурные препоны, поэзия Назыма Хикмета, звучавшая на сорока языках, вернется на родину. В 1965-1966 годах за двадцать четыре месяца в Турции выйдет свыше двадцати его книг. И новым поколениям его народа откроется во всем величии сделанное им.
Но его самого уже не будет в живых, Он умрет не в ссылке и не на чужбине, а «в стране своей мечты, в том белом городе, где прожил свои счастливейшие дни», но умрет вдали от родной речи и родной земли, в тоске по родине и по народу...
Назым продолжал голодовку. Товарищи требовали, чтобы он прервал ее: пока не соберется новый меджлис, некому принять закон об амнистии, а до выборов оставалось еще три недели. Продолжать голодовку означало просто-напросто покончить с собой. На это он теперь уже не имел права. Столько людей во всем мире вместе с ним боролись за амнистию, которая выведет на свободу сотни его товарищей. И они были близки к победе – депутаты всех партий обещали амнистию в случае победы. Его смерть была бы ударом по всеобщим надеждам.
Но он решил держаться до конца. «Самым трудным, – вспоминал он потом, – была не голодовка, а отказ от принятого решения, когда сил уже почти не было».
На восемнадцатый день он заявил, что прерывает голодовку до сформирования нового правительства. Но если и оно не даст амнистии – начнет все сначала.
На восемнадцатый день голодовки Мюневвер принесла ему корзинку земляники. Оставила ее у постели... Какой запах! Свежести, леса, лета... Какой цвет – яркий, солнечный!.. Мюневвер знала, что он любил землянику больше всех плодов на земле.
Любуясь ягодами, он положил на язык одну. Другую, третью... Доктора предупреждали, чтобы он начинал есть понемногу, по крошке.
Он съел всю корзинку, наверное с килограмм земляники. И вопреки ожиданиям врачей – не умер. Ожил.
16 мая 1950 года состоялись выборы. К власти пришла Демократическая партия – всеобщая амнистия была в ее предвыборной программе. Но понадобилось больше месяца борьбы за амнистию, прежде чем она стала реальностью.
Через двенадцать лет пять месяцев и шестнадцать дней после той новогодней ночи, когда его на минуточку попросили пожаловать в полицию, Назым Хикмет вышел из тюрьмы на волю. В этот июньский день из тюрем Чанкыры и Бурсы, Синопа и Диарбакыра, из-за железных тюремных ворот всех тюрем страны вышли тысячи заключенных и среди них Кемаль Тахир, Ибрагим Балабан, его ученики и друзья, его товарищи и единомышленники...
Над Ускюдаром, тем самым Ускюдаром, по которому он восьмилетним ребенком шел вместе с дедом смотреть «Карагёз», где он впервые поцеловал девушку, сложил свое первое стихотворение, над Ускюдаром, которого он не видел столько лет, опустилась ночь.
В тюрьме он столько раз представлял себе, как это будет, но все оказалось не так. Он должен был снова привыкать к свободе, к немыслимой, невообразимой и полузабытой простоте ее многообразия, – привыкать к постели, к комнате, к тротуарам, к руке любимой женщины, к небу над головой.
Как часто бывает в Стамбуле, вдруг погасло электричество. Он взял Мюневвер за руку, они вышли на улицу. Впервые за двенадцать с половиной лет вместо потолка над его головой были звезды. Не отпуская ее руки, он направился к Босфору, чувствуя, что вместе с ними в темноте идут сотни узников, и те, что вышли сегодня из тюрьмы, и те, что не дождались свободы.
Миновав мечеть Айазма, они молча спустились по откосу к Босфору.
Остановитесь, читатель, если вам доведется побывать в Стамбуле, у этой неприметной Ускюдарской мечети, спуститесь молча по откосу, по которому, держа за руку Мюневвер, шел той ночью Назым Хикмет!..