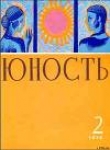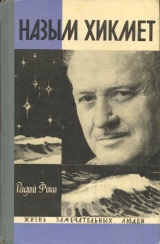
Текст книги "Назым Хикмет"
Автор книги: Радий Фиш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
«Высочайшей дверью» именовалась дверь первого вельможи, главы султанского правительства – садразама или великого везира. Садразамы менялись часто. И «высочайшей дверью» каждый раз оказывались двери другого особняка. Лишь после смерти великого везира Дервиша-паши в 1654 году его особняк сделался постоянным местопребыванием главы султанского правительства. А название Бабыали закрепилось и за самим правительством и за улицей, где оно помещалось.
В 1923 году Османская империя была упразднена. Вместе с нею канули в вечность султаны и садразамы. В здании султанского правительства помещалась теперь резиденция республиканского губернатора Стамбула. А улицу, после того как Анкара была объявлена столицей, переименовали в Анкарскую.
Но название Бабыали осталось, хоть мало кто вспоминал при этом слове султанов и везирей. Бабыали стала нарицательным именем турецкой прессы, ибо на этой кривой и узкой улочке теснились редакции всех газет и журналов, издательства, книготорговые склады и типографии. Здесь, на Бабыали, помещалась и редакция журнала «Ресимли Ай».
Как-то под вечер, после работы, Назым возвращался домой. Спустившись по Бабыали к Золотому Рогу, сел на колесный пароходик, курсировавший через Босфор.
В салоне он увидел председателя националистических клубов «Турецкие очаги» и бывшего министра Хамдуллаха Субхи, который сидел в окружении двух десятков своих поклонников и что-то оживленно им рассказывал. Заметив Назыма, он подозвал его к себе.
Хамдуллах Субхи держал в руках свежий, пахнущий типографской краской номер «Ресимли Ай». Для пантюркиста Хамдуллаха Субхи журнал этот был что, бельмо на глазу. Особенно выводила его из себя рубрика «Развенчиваем кумиры». В пылу полемики, как это нередко случается, Назым бывал односторонен. Скажем, турецкий просветитель Намык Кемаль, конечно, боялся народных масс. Тем не менее он стал одним из первых писателей, положивших начало пробуждению общественного сознания и требовавших ограничения султанского деспотизма. Но Назым был, безусловно, прав, когда обрушивался на тех, кто вроде Хамдуллаха Субхи пытался слабость и ограниченность буржуазных либералов выдать за добродетель, присущую турецкому национальному духу. Сделать из классического писателя идола и, спрятавшись за его медный зад, каждый шаг вперед объявлять изменой национальным традициям – обычная тактика черной сотни. Турецкая не составляла исключения.
– Я с огорчением слежу за вашими публикациями «Развенчиваем кумиры», – стараясь быть вежливым, начал Хамдуллах Субхи. – Вы пытаетесь под корень подрубить дух нации.
И, раскрыв журнал, он прочел вслух несколько строк из последнего стихотворения Назыма «Ответ врагам»:
Эй, пиковый король!
Сосет в твоем желудке.
Ты душу продаешь, как черного раба,
Свой череп превратив в каморку проститутки...
– И это об уважаемом поэте и влиятельном лице? Дальше говорится, что автору, носившему нити наручников, как золотой браслет, глядевшему на намыленную петлю, не страшны угрозы. Слыхали? Что же это должно означать – «нити наручников»?
– Это означает, – откликнулся один из слушателей, – пренебрежение к санкциям, предусмотренным законом. Он находит их слабыми, как нитки...
– Наручники бывают разные, – улыбнулся Назым. – Один их вид на профессиональном языке тюремщиков носит название «нитки». Именно такие наручники на меня надели, когда перевозили из Хопа в Стамбул...
– А намыленная петля?..
...Чем отличаются от невежественного полицейского чина в Хопа эти патриотические любители литературы? Во что бы то ни стало тщатся обнаружить в каждой строке крамолу. Но тот хоть был смущен, когда все выяснилось. Полуобразованность, она похуже невежества.
– Прокурор однажды требовал для меня смертной казни – вот вам и намыленная петля, – нехотя ответил Назым. – Я пишу лишь о том, что было со мной...
Он не договорил. Поди объясни! Разница между глупцом и дураком в том и состоит, что глупец всему верит и ничего не знает, а дурак все знает и ничему не верит.
– Послушайте, милейший, – сказал Хамдуллах Субхи, – вы полагаете, что прошли огонь и воду, всем бросаете вызов и черт вам не брат. Что же, найдутся люди, которые сумеют поставить вас на место...
Назым вскочил. Хорошо, что в салоне оказались знакомые – с трудом удалось им вывести Назыма на палубу.
Первая попытка «поставить поэта на место» была сделана сразу после того, как он отказался прийти в президентский дворец. В июле 1929 года журнал «Ресимли Ай» поместил стихотворение «Город, потерявший голос», которое призывало помочь бастующим трамвайщикам Стамбула. Назыма предали суду по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Но суд оправдал поэта.
Хамдуллах Субхи решил действовать иначе. Через день после разговора на пароходе крупнейшая стамбульская газета «Икдам» открыла против Назыма Хикмета кампанию. С той поры она не прекращалась до его смерти и продолжается в правой печати по сей день.
Чего только ему не приписывали – казнокрадство: он-де получил в Болу деньги на проезд в Каре, а сбежал в Россию. Утверждали, что Назым, кроме как по большим праздникам в рот не бравший спиртного, – алкоголик и наркоман. Эпигоны придворной поэзии кричали, что Назым Хикмет разрушает классический стих, торговцы национальной независимостью доказывали, что его поэзия не имеет никаких национальных корней, а шовинисты – что его идеи до последней запятой импортированы из-за границы. С годами Назым привык к клевете и брани врагов, кан к верному признаку, что он не изменил ни себе, ни Анатолии.
Сочтя подготовку общественного мнения достаточной, пантюркисты перешли к делу. Как-то в середине дня, после второго намаза, огромная толпа, состоящая из переодетых полицейских и молодых националистов, двинулась от мечети Нуруосмание по Бабыали. С криками «Изменников – на виселицу!» толпа подошла к редакции «Ресимли Ай». «Первым делом, – вспоминал Назым Хикмет, – они хотели линчевать Зекерию Сертеля, затем Сабиху Сертель и меня».
Назым вышел навстречу налетчикам.
– Если вы полагаете, что палки и камни аргумент в защиту истины, то с вами легко поспорить. – Он обернулся назад, к типографским рабочим, стоявшим за его спиной с наборными щипцами в руках. – Но если вы пришли разговаривать, я вас слушаю.
Как ни старались главари: «Нечего, мол, с ним разговаривать!», толпа остановилась. Речь, с которой обратился поэт к молодежи, оказалась не менее убедительной, чем решимость типографских рабочих.
Понурив головы, толпа разошлась. А некоторые из участников несостоявшегося погрома даже стали впоследствии сторонниками поэта.
Назыму Хикмету и рабочим типографии в тот раз удалось защитить свой журнал. Но власти не успокоились – стали преследовать запрещениями, штрафами, конфискациями. Зенерия Сертель вынужден был передать журнал в другие руки. Новый владелец круто изменил курс журнала, и большинство сотрудников, лишившись своего дома, рассеялось по разным изданиям более или менее либерального толка.
Назым Хикмет печатается в газетах «Акшам» и «Харекет». За каждую новую книгу стихов его преследуют, арестовывают, отдают под суд.
«Когда заходит речь о цензуре в Турции, – писал он позже, – не следует думать, будто газеты, журналы и книги перед опубликованием нужно посылать в какой-то цензурный комитет. Такой цензуры нет сейчас в Турции, не было ее и в те годы. Но существует иная цензура – тюрьма. Автор не обязан посылать книгу в цензуру, прежде чем ее напечатают, но зато после выхода ее могут конфисковать, а писателя посадить в тюрьму. Мало того, нужно найти издателя и книгопродавца, которые согласились бы взять на себя распространение книги: поэтому она должна непременно нравиться книгоиздателю, а издание ее не должно грозить ему тюрьмой. Или же книгопродавец должен быть уверен, что книга принесет ему огромные барыши, если даже ему она не нравится и ему угрожает тюрьма».
Стихи Назыма пользовались спросом, и издатели неплохо наживались. Но на гонорары, которые ему платили, можно было прожить от силы три-четыре недели. Ради хлеба насущного по десять часов в день просиживал поэт в корректорской, брал переводы с русского и французского, писал титры для фильмов, работал помощником режиссера.
Перечитывая стихи тех лет, легко найти в них подробности стамбульского быта тех лет и его собственной жизни. Жизни поэта-корректора, обязанного каждый день за две лиры прочитывать к определенному сроку тысячи глупейших газетных строк, сидеть неподвижно, как старое изодранное кресло, когда на дворе хлопочет буйная, жаркая стамбульская весна. В душных парикмахерских Перы стареющие мышиные жеребчики и молодые щеголи пудрят щеки, готовясь принимать весенний парад любви. А он, красивый, двадцатишестилетний, все сидит со свинцовой пылью на щеках в своей корректорской, вместо того чтобы бежать на свиданье. Когда он, наконец, выходит на улицу, у него в кармане всего семьдесят пять курушей, но вместо того чтоб купить хлеб или букетик фиалок для любимой, он отдает их бастующим друзьям.
Просидеть год в тюрьме, выступить раз-другой со смелым заявлением не так уже сложно. Куда трудней остаться человеком, не изменить себе, когда не одна полиция, не только клевета врагов, но и нужда, иссушающая душу, и отступничество друзей преследуют тебя год за годом. Назым Хикмет вынес и это, не ожидая ничего взамен, кроме счастья чувствовать себя человеком...
Как-то в Москве, у него дома зашел разговор об одном из молодых поэтов – Назым добился, чтоб того напечатали в «Литературной газете», и писал предисловие к его стихам.
Кто-то заметил, что молодой поэт действительно нуждается в помощи, ибо человек он талантливый, но несчастный.
Назым метнул на собеседника мгновенный пристальный взгляд, которым он, словно точным электронным щупом, проверял, что кроется за сказанной фразой. Потом проговорил, словно бы для себя:
– А ведь это так просто быть счастливым. Делая что-либо для других, не нужно только ничего ждать взамен – ни что тебя оценят, ни справедливости, ни награды, ни отклика даже. К несчастью, этот отголосок религиозного сознания – добрые дела, мол, где-то непременно зачтутся – глубоко в нас сидит. Вот люди и чувствуют себя несчастными, постоянно подбивая на внутренних весах итоги своим убыткам и прибылям.
Он снова бросил на собеседника тот же мгновенный оценивающий взгляд:
– Хотите воспользоваться моим опытом?.. Научитесь ничего не ждать взамен, и каждый случайный отклик станет для вас радостью, счастьем...
В нынешней Турции, как в любой другой цивилизованной стране, никого не удивляет, если молодые люди и девушки вместе собираются дома или в общественных местах, вместе проводят время. Но в кофейнях старого образца и по сию пору вы не увидите ни одной женщины. Вход им сюда заказан, так же как в английские клубы. Здесь свои разговоры, свой мужской мир. До утра играют здесь в кости и нарды, часами сидят за стаканчиком чая или чашечкой кофе, курят кальян. Официант подойдет к гостю, лишь если его позовут, и то через несколько минут. В кофейню приходят отдохнуть, провести время, и потому подбежать сразу неприлично. Это может быть принято за намек: необходимо, мол, что-нибудь заказать.
По закону, конечно, вход женщинам даже в кофейню не запрещен. Но если вы придете сюда с дамой, завсегдатаи найдут способ испортить вам настроение и тем поддержать традицию.
Назыма эти традиции возмущали. Вместе с несколькими приятелями и приятельницами он ходил на пляжи, ездил на лодках по Босфору. Часто собирались они то у одного, то у другого, иногда вместе обедали в ресторанчиках европейского образца и семейных кофейнях, которые только-только появились в Стамбуле и его окрестностях. В глазах обывателей это было вызывающим вольнодумством. И легко себе представить, какими глазами они смотрели на поэта и его друзей.
Атмосфера в стране между тем продолжала сгущаться. И Назым в первую очередь чувствовал это на себе. Напротив дома, где он жил, была баня, огражденная, как крепость, поленницами дров. Из-за поленниц за Назымом денно и нощно наблюдали шпики. Контролировался каждый его шаг, каждое знакомство, каждый разговор. Мало того, среди людей, числившихся в его приятелях, среди соседей, коллег по перу и любителей поэзии находились доброхоты, которые ловили его на улице, заводили разговоры, задавали вопросы, а потом строчили доносы. Им Назым дал прозвище «домашних врачей».
Однажды Назым с приятелями допоздна засиделся на мысу Мода. Друзья спорили о поэзии, рассказывали друг другу последние литературные сплетни. Назым, растянувшись на теплой, нагретой за день траве, глядел на звезды, на волны Мраморного моря, перекатывающие звезды на своей спине, как гальку, и молчал.
Валя тронул его за плечо. Назым очнулся и тихо проговорил:
– Юноша мой дорогой! Хорошенько на звезды гляди. Может, больше их тебе не видать, руки раскинув, обняв горизонт, по лугам тебе не гулять...
Только тут все поняли, что это стихи и что обращается он не к Вале и не к себе, а ко всем ним. И, поняв это, затихли. А Назым так же негромко продолжал читать только что сложившиеся строки:
Совершенных созданий природы два:
Звезды и твоя голова.
Может быть, истекая кровью,
с маленькой дыркой над бровью
Ты издохнешь в канаве, как пес,
А может, веревкой окончишь свой путь.
Смотри на миллиарды звезд,
Смотри и не позабудь!..
Он умолк. По-прежнему шуршало, набегая на берег, одно из самых прекрасных морей мира – Мраморное. Все так же светили на темном небе крупные звезды. И каждый всем существом почувствовал: приближается тот решительный миг, который выяснит, кто из них чего стоит.
Строки, сложившиеся той ночью, позднее вошли в роман в прозе и в стихах «Почему Бенерджи покончил с собой?», который вышел из печати в 1932 году. Но к тому времени ни одного из друзей, сидевших в ту ночь рядом с Назымом на мысу Мода, вокруг него уже не было. Нет, они не погибли от пуль, не умерли в тюрьме. Они отступились. Отреклись. От себя, от своей молодости, от Назыма.
Валя Нуреддин, десять лет назад тащивший Назыма на спине по анатолийской дороге, покаялся в грехах молодости и, спрятав убеждения в карман, стал писать судебные репортажи и бульварные романы: плетью-де обуха не перешибешь.
Пеями Сафа, посвятивший Назыму одну из своих книг, перекрасился из красного в коричневый цвет, цвет надвигавшегося времени, который люди, подобные ему, всегда умеют к собственной выгоде принять на минуту раньше других.
Шевкет Сюрейя Айдемир, с которым они некогда учились в Москве, признал концепцию бесклассовости турецкого общества, за что был немедленно, вознагражден постом директора торгового лицея, а затем начальника управления в министерстве просвещения.
Поэт А. Кадир, сидевший с Назымом в анкарской военной тюрьме, вспоминал, что он ни о ком не любил говорить худо, даже о врагах. Исключение составляли эти три человека. И горше всего было для Назыма отступничество Вали. «Никогда не забуду, – говорил он Кадиру, – как в день смерти Ленина вечером во дворе университета мы вместе с ним стояли у стены и не могли сдержать слез. «Назымушка, – сказал он тогда, – вернемся на родину, я буду во всем и всегда вместе с тобой до самой смерти, слово мужчины!..»
В романе «Почему Бенерджи покончил с собой?» Валя Нуреддин носит имя Роя Драната. «Это бывший боевой товарищ Бенерджи, – представляет его читателям Назым Хикмет. – Но впоследствии, то ли испугавшись, то ли истощив терпение, то ли воспользовавшись случаем обрести покой в обмен на свою душу, он отошел от борьбы».
Два раза на протяжении романа встречается Рой Дранат с героем книги. Вначале Дранат иронизирует:
Бенерджи, ты трава,
бесполезнейшая трава,
что на высоких горах растет.
Ты – Дон-Кихот,
смелый, смешной Дон-Кихот,
за напрасное дело идущий в поход.
Но пьяный настолько, чтоб говорить правду, Дранат сознается: «Бенерджи, ты, наверное, прав, наверное. Я опустился, решив: что мне, больше всех надо? Найдутся другие, чтоб мир перестроить. Но вы, наверное, правы».
Характер Роя Драната, конечно же, куда шире реальной фигуры Вали Нуреддина. В двух монологах Драната обнажены сущность мещанина и его циническая трезвость, для которой березовая роща всего лишь столько-то кубометров дров, и стремление к благополучию – ради него все позволено, и необходимость опьянения, чтобы осмелиться на ухо прошептать правду приятелю. И беспринципность, старательно прикрываемая лоскутами заимствованных убеждений, и желание выдать это лоскутное семейное одеяло за фаустовский плащ, спрятаться за мнимой сложностью. Это именно та сложность, о которой говорил М. Горький: «Сложность – печальный и уродливый результат крайней раздробленности «души» бытовыми условиями мещанского общества, непрерывной мелочной борьбой за выгодное и спокойное место в жизни. Именно «сложностью» объясняется тот факт, что среди сотен миллионов мы видим так мало людей крупных, характеров резко определенных, людей одержимых одной страстью, – великих людей».
Таким резко определенным крупным характером наделены герои книги – Бенерджи и его друг Сомадева. Собственно говоря, весь роман построен на противопоставлении жалкой благополучной жизни обывателя, его привычек, вкусов, нравов трудной, но прекрасной судьбе людей, до конца верных своим идеалам. И в то же время это, пожалуй, одна из самых трагических книг Назыма Хикмета.
Летом на дачах КУТВа под Москвой, на станции Удельная, Назым познакомился с двумя индусами. Оба они, окончив один из английских колледжей, подобно Назыму и Вале, заинтересованные событиями в России, приехали в Москву, ибо так же, как они, ненавидели колонизаторов и хотели бороться с империализмом. Здесь они поступили в тот же самый университет, что и Назым с приятелем.
Такие пары друзей, отправлявшиеся в поисках истины, наподобие средневековых дервишей, странствовать по миру, были в университете трудящихся Востока не редкостью. В середине двадцатых годов учились здесь двое тибетцев. Послушники буддийского монастыря, они самостоятельно открыли, что не Солнце вращается вокруг Земли, как их учили, а Земля вокруг Солнца. Для тех лет в Тибете это было равнозначно идейной революции. И правда – вторично открытая система Коперника стала философской базой крестьянского восстания, которое и возглавили эти два молодых тибетца. После поражения восстания они перешли русскую границу, а затем попали в Москву. Можно себе представить их потрясение, когда здесь, рассказывая о своем великом идейном подвиге, они узнали, что система Коперника открыта за четыреста лет до них.
Индус по имени Бенерджи приехал в Москву со своим другом Захиром. Захир был мусульманином и как истый мусульманин продолжал и в Коммунистическом университете творить намаз пять раз в сутки. Окончив КУТВ, он решил посетить центр мусульманского мира – Турцию и остался здесь навсегда. Принял турецкое гражданство, женился на турчанке и преподавал в турецких лицеях. Его друг Бенерджи был человеком иного склада. Молчаливый, изысканно вежливый, углубленный в себя, он все свободное время проводил за книгами по индийской философии. Пытался совместить революционный марксизм с гандизмом, полагая, что с общественным злом нужно бороться не насилием, а неподчинением ему и убеждением.
Об этом Назым знал с их собственных слов. Как все другие революционные студенты, Бенерджи и Захир, тибетцы, Валя и сам Назым откровенно рассказывали о своих взглядах и сомнениях, заблуждениях и проступках на собраниях, которые каждую неделю устраивались в лесу у костра, неподалеку от поселка. Эти исповеди, называвшиеся самокритикой, были в те годы непременной частью самовоспитания революционера. Коллективными усилиями друзей-единомышленников самых разных стран создавалась новая этика, новая мораль, вырабатывался идеал революционера-коммуниста.
Валя Нуреддин вспоминал, что как-то, дежуря на кухне вместе с индусом Курбаном, он заметил, что тот пьет молоко, предназначенное для беспризорных детей. Курбан смутился: «Я очень люблю молоко и вот не выдержал. Знаю, что поступил скверно. Но хорошо, что ты меня заметил. Теперь я решился: непременно сам расскажу о своей слабости товарищам».
После самокритики наступал черед критики. Сидя вокруг удельненских костров, товарищи каждому давали характеристику: какие недостатки усматривают в его характере, какие качества надлежит ему убрать, какие выработать, чтобы стать личностью, достойной их дела.
Главным недостатком Назыма Хикмета, по общему мнению, была невыдержанность – он легко поддавался эмоциональным импульсам и говорил все, что в данный момент взбредет в голову. Валя же отличался индивидуализмом – поступал как вздумается, несмотря на решения коллектива. В общем товарищи не ошиблись.
Можно сейчас по-разному относиться к традиции откровенного самоанализа перед единомышленниками, выработанной русским революционным движением и помогавшей каждой личности примерить себя к идеалу. Всякая форма в иной исторической обстановке может быть наполнена иным содержанием. Когда намечаются тенденции подмены идеи догмой, в период обожествления Мао или Энвера Ходжи, безразлично, эта традиция из внутренней необходимости может стать чем-то навязанным извне, общеобязательным ритуалом и, вместо того чтобы способствовать слиянию личности с идеалом, способствует ее самоотчуждению в пользу догмы. Но отрицать на этом основании значение самокритики двадцатых годов не более благоразумно, чем подвергать сомнению значение психиатрии ссылками на то, что корыстный психиатр может упрятать в сумасшедший дом и здорового человека.
Большинство людей, сидевших вокруг удельненских костров, пронесло их отблеск, как отблеск русской революции, через всю жизнь. И опыт критической самооценки помогал им соизмерять свои дела с идеалом молодости, определить свое место и роль в мире.
Бенерджи, которого Назым знал в Москве, кроме национальности да имени, не имеет, пожалуй, ничего общего с героем романа «Почему Бенерджи покончил с собой?». Бенерджи из романа отнюдь не гандист. Он руководит стачечной борьбой в Калькутте, освобождает из тюрьмы своего друга Сомадеву. Выйдя на волю после пятнадцати лет одиночного заключения, он становится во главе движения, но чувствует, что стар и слаб, и, опасаясь стать тормозом в борьбе, решает покончить с собой. Чем-то он скорей походит на другого индийского товарища, которого Назым тоже знал по Москве, – Сафтера, ставшего впоследствии видным деятелем Индийской компартии. Но больше всего общего у героя романа с самим Назымом.
Именно Бенерджи оказывается в романе «юношей, смотрящим на звезды». Он ждет любимую. Когда она приходит, он ударом кулака распахивает створки окна, садится с нею на подоконник, свесив ноги наружу. И справа и слева, впереди и под ними колышется, словно море в огнях, «освещенная звездами теплая тьма». Все действие в этом романе происходит или во тьме – сплошной омерзительной тьме полицейских застенков и тюрем, во тьме революционного подполья, освещенного яркими звездами верности, страсти, ума, или при беспощадном слепящем, как молния, свете солнца, на раскаленных дорогах изгнания или страстных рабочих митингах. Полутона, переливы красок не для того накала страстей, не для тех обстоятельств, в которых действуют герои и в которых живет в эти годы сам Назым.
Темной ночью полиция выслеживает конспиративное собрание революционеров. Все друзья схвачены. Лишь Бенерджи выпускают на свободу. Товарищи подозревают его в предательстве. И его ближайший друг Сомадева во время демонстрации бросает в него первый камень. «Самый славный, самый любимый город» забрасывает героя камнями до тех пор, пока его окровавленная голова не опускается на колени Назыма Хикмета.
Как в «Джиоконде и Си-яу», Назым Хикмет в этом романе вмешивается в действие, беседует с героями, спешит к ним на помощь, дает советы. Поэт летит в Калькутту, чтобы спасти Бенерджи.
Любовь Бенерджи оказывается его самым большим несчастьем. Он узнает, что его возлюбленная – агент британской полиции. Это она выдала его товарищей и вычеркнула самого Бенерджи из проскрипционных списков. Весь мир ему становится омерзителен.
Пожалуй, это единственное произведение Назыма Хикмета, где любовь не сила, а слабость. Борьба столь жестока, условия, поставленные врагом, столь бесчеловечны, что вынуждают героя отказаться от всех человеческих привязанностей, от своей собственной жизни: он должен быть твердым, неуязвимым, как камень, чтобы устоять.
В тот год, когда Назым Хикмет начал писать свой роман, он встретился со своей самой большой любовью. Ей было семнадцать лет. Она приехала из Франции. Мать ее была француженкой, а отец – родным дядей Назыма, братом его матери Джелиле-ханым. Девушку звали Мюневвер.
Через много лет в тюрьме города Бурса Назым Хикмет напишет:
О минувшем я не тоскую,
лишь о летней ночи одной.
И самый последний мой взгляд голубой
принесет тебе добрую весть о грядущем.
Он умел терять и не жалеть о потерянном. Но летняя звездная ночь, единственное исключение в его жизни – та самая, когда, распахнув ударом кулака окно, он глядел с любимой на звезды, – летняя ночь августа 1930 года в Каламыше на мысу Мода, которую он провел с Мюневвер, своей самой большой любовью и самым большим несчастьем.
Нет, она не была агентом полиции, как возлюбленная Бенерджи. Позднее, уже взрослой, зрелой женщиной, она стала единомышленницей поэта. Но в 1930 году он считал, что любовь в тех обстоятельствах, в которых он жил, – слабость, враги могут попытаться ее использовать, чтобы его сломать. К тому же ей было всего семнадцать лет. А у него уже был горький опыт.
– Ты еще молода, – сказал он Мюневвер. – У тебя должны быть семья, дети, свой дом. Я тебе этого дать не могу – мне предстоят тюрьмы, годы преследований. Я не создан для нормальной семейной жизни.
Оттолкнув от себя той летней августовской ночью семнадцатилетнюю девушку, мог ли он себе представить, что через двадцать лет она станет матерью его единственного сына?
Я была ужасно оскорблена, – вспоминала Мюневвер Андач летом 1967 года. – Как?! Пренебречь моей любовью? Я сделала все, чтобы забыть его. Вышла замуж, родила дочь...
Мюневвер-ханым печально и снисходительно улыбалась себе семнадцатилетней, как улыбается мать наивной своей дочери...
ОТСТУПЛЕНИЕ
В том же самом 1930 году женился и Назым Хикмет. С точки зрения чистой логики в этом кроется неразрешимое противоречие: отказаться от любви, потому что ты-де не создан для семейной жизни, и тут же начать семейную жизнь с другой женщиной.
Но законы чистой логики не совпадают с логикой чувств. Любовь неотделима от бережного, уважительного отношения к личности любимой, заботы об ее интересах. В семнадцать лет личность еще не сформировалась и редко сознает самое себя. Быть может, то, что она принимает за любовь, – всего лишь юношеское увлечение? И вправе ли он подвергать ее таким испытаниям, которые предстоят жене Назыма Хикмета?
Иное дело – Пирайе. Это зрелая женщина, человек необычайной воли и самообладания. Если она, расставшись с первым мужем, решила связать свою жизнь и судьбу своих детей с «крамольным» поэтом, то знает, на что идет. К тому же она принадлежит к влиятельному и многочисленному роду Алтуни-заде, который дал свое имя целому кварталу в Стамбуле и в случае чего будет ей надежной опорой.
Брак Назыма Хикмета с Пирайей оказался самым продолжительным. Он сделал все, что в его силах, чтоб быть хорошим мужем, хорошим отцом своей падчерице и своему пасынку. И не его вина, что из двадцати лет их брака он тринадцать с лишним провел в тюрьме.
Вспоминает Орхан Кемаль
Пирайе-ханым приезжала в Бурсу дважды, самое большее трижды в году. Нужно было видеть Назыма Хикмета в такие дни! Его охватывало необычайное возбуждение. Еще с вечера он утюжил свой костюм, доставал из-под койки темно-вишневые штиблеты, наводил на них блеск. Рано утром спускался к парикмахеру, стригся. Не успевал я подняться с койки, как он являлся нарядный, одетый с иголочки.
– Ну как, брат? Шикарно, не правда ли?
– Ого! Просто мистер Иден! Он улыбался в пшеничные усы:
– Конечно, конечно, чем я хуже мистера Идена?!
Прямо с вокзала, если у нее были деньги, Пирайе-ханым отправлялась в гостиницу, звонила оттуда по телефону в тюрьму. После завершения формальностей им разрешали свидание в кабинете начальника или в комнате старшего надзирателя.
Его отношения к ней не были похожи на обычную любовь мужа к жене. В них было прежде всего уважение, бесконечное уважение. В письмах язык Пирайе-ханым был похож на язык Назыма: простой, решительный язык женщины, сознающей, что она – жена великого поэта, что ее муж войдет в историю, но гордая и своим собственным достоинством, своей личностью. Назым тщательно хранил ее письма. Каждодневные бытовые истории, которые рассказывала в письмах жена, он считал материалом для «Человеческой панорамы».
Но рядом с женой, сдержанной, тщательно взвешивавшей каждое слово, каждый поступок, он казался, как бы это лучше сказать, – легкомысленным, ребячливым, что ли. Властная, серьезная, Пирайе-ханым обычно садилась напротив него. Назым, размахивая руками, вскакивая и вертясь на месте, говорил, говорил, говорил и не спускал с нее глаз. А она, высоко подняв голову, слушала его.
Мне кажется, между ними вполне возможен был такой, например, разговор:
– Послушай, Назым, сколько раз тебе говорить, опять ты запачкал одежду!
– Извини, женушка, больше не буду!
«Если бы хоть раз, один-единственный раз она назвала бы меня Назымушкой, чего бы я не отдал за это! Но не говорит, чертовка...»
Словом, казалось, будто его жена – это госпожа учительница, а он сам – провинившийся школьник, который, играя на улице, вывалялся в пыли и, раскрасневшийся, потный, едва утолив жажду, предстал перед ее глазами. Слушая жену, он, несомненно, был самым счастливым человеком в мире, и то, что она ему говорила, было для него всегда важней, оригинальней и интересней всего на свете...
...Живя в Москве, Назым часто испытывал неловкость от того, что турки вообще представляются нам многоженцами, хотя еще в султанской Турции интеллигентные люди обычно придерживались моногамии. Вспоминая свою жизнь, он как-то сказал:
– Что поделать? Первая жена хотела, чтоб я отказался от самого себя, Леля Юрченко умерла – тут нет моей вины. Единственная моя вина – Пирайе. Я вел себя подчас легкомысленно. Мы даже собирались разойтись, но тут меня посадили, и бедняжка оказалась в немыслимой ситуации – и продолжать отношения тяжко и бросить мужа в тюрьме невозможно...
Назым Хикмет был человеком бескомпромиссной искренности. И в жизни и в поэзии. Говорил то, что думал. Поступал, как чувствовал. И в любви тоже. Это было нелегко для окружающих, но в первую очередь для него самого. Иначе, однако, он не был бы Назымом Хикметом.