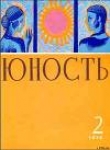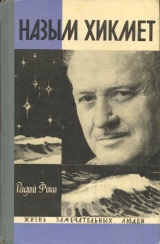
Текст книги "Назым Хикмет"
Автор книги: Радий Фиш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Но в восемнадцать он ничего еще не мог об этом знать. И, глядя на карту, мечтал о том, как увидит свою стамбульскую любовь.
Валя тем временем раскрыл пакет. В нем оказалось письмо от Хикмета-бея и книги – несколько томов истории французской революции, стихи Бодлера. Как это ни покажется странным, Назым не слыхал до той поры этого имени – то ли Яхья Кемаль, его учитель и большой знаток французской поэзии, почему-то не упоминал о нем, то ли Назым прослушал. Правы были Садык Ахи и его товарищи. Они еще многого не знали.
Несколько дней подряд взахлеб читали приятели «Цветы зла». Позднее в тюрьмах товарищи не раз удивлялись – столько своих стихов забыл Назым, а Бодлера помнил.
Еще больший конфуз вызвала история французской революции. Они о ней, правда, слышали и даже кое-что учили в школах. Но здесь были незнакомые подробности о якобинской Диктатуре, о «бешеных», крайне левых французской революции, чьи взгляды перекликались с идеями социалистов, а они, невежды, только сейчас об этом услыхали.
Назым снова подошел к карте и, глядя на Тифлис и Батум, проговорил:
– Вот куда мы поедем! Здесь происходят события, которые оставят след в истории. И может быть, еще более глубокий, чем французская революция. Мы должны это увидеть своими глазами. А не киснуть в этом затхлом углу...
В шестьдесят лет Назым Хикмет вспоминал: «Город Батум похож на шахматную доску. Дождь в Батуме может лить хоть сорок дней и сорок ночей, но стоит выглянуть солнцу, улицы, мощенные галькой, высыхают в одну минуту.
В Ботаническом саду в Батуме на Зеленом Мысе есть любые деревья, цветы и травы, какие можно встретить в тропиках. Летом 1922 года на батумском пляже мужчины загорали вместе с женщинами совершенно голые, в чем мать родила. Я приехал сюда из Анатолии, где у женщин видел голыми только руки, ноги да глаза, и то лишь на рынках... Руки и ноги крестьянских женщин точно корни старых олив... Но иногда, встретившись на базаре с парой женских глаз, смотревших в щелку между двумя кусками материи, мне казалось, что я видел женщину голой, с головы до пят... А когда видишь полную наготу, к. ней быстро привыкаешь, потому что ничего не остается воображению. Очень скоро я перестал замечать наготу женщин, лежавших на батумском пляже... Но я до сих пор чувствую себя не в своей тарелке, если моя жена лежит на пляже в купальнике среди мужчин. Знаю, что это пережиток, и все же... Дело в воспитании – мой пасынок Мемед Фуад надо мной смеялся. Ему это и в голову не приходило. А мой дед не разговаривал с моим отцом лишь оттого, что он повесил портрет моей матери на мужской половине дома, где каждый мог видеть ее лицо. Три поколения – три разные эпохи. Вот как изменилась моя страна на протяжении одной человеческой жизни...
В Батуме в гостинице «Франция» я сел за стол. А есть так хотелось, терпенья нет. За день я съедал четверть фунта – сто граммов черного хлеба, две тарелки супа из кукурузной муки и выпивал два стакана чая с сахарином. В супе плавали рыбьи головы... По дороге в Батум мы проели все наше жалованье, которое заработали в Волу. В каждом городишке на пути устраивали банкеты приятелям и знакомым, – ведь в России, в коммунистической России деньги отменены. Так по крайней мере утверждали Садык Ахи и наш новый товарищ Зия Хильми, а он знал больше Садыка. Надо было поскорей избавиться от этих позорящих человеческое достоинство бумажек. В Батуме мы поняли, что поторопились и перескочили через одну общественную формацию – социализм...
В Батуме, в номере гостиницы «Франция», я сел за стол, овальный, со всех сторон резной, с выпуклостями и впадинами – стиль рококо... Тридцать пять дней, равные тридцати пяти годам, провел я в дороге из Стамбула в Анкару, из Анкары в Болу, я – стамбульский отрок, внук паши. Так я познакомился с Анатолией, и вот теперь все, что я видел и пережил, лежало передо мной в Батуме в номере гостиницы «Франция», словно рваный окровавленный платок, на столе рококо... Смотрю, и мне хочется плакать, смотрю, и кровь ударяет в голову от гнева. Смотрю и снова стыжусь своего особняка в Ускюдаре, Решай, говорю себе я, решай, дружище... Но ведь все уже решено, мосты сожжены? Постой, дружище, не спеши. Давай положим все на этот стол, рядом с твоей Анатолией. Что ты можешь отдать ей? Чем можешь пожертвовать? Всем, что у меня есть... Свободой? Да! Сколько лет ты можешь ради этого просидеть в тюрьмах? Если потребуется, хоть всю жизнь. Но ты любишь женщин, любишь есть, пить, хорошо одеваться. Ты мечтаешь объехать Европу, Азию, Америку, Африку. Так оставь же здесь, на столе рококо, свою Анатолию, махни через Тифлис в Каре, а оттуда обратно в Анкару. Не пройдет и четырех-пяти лет, как ты станешь депутатом, министром. Женщины, яства, вина, искусство – все к твоим услугам, весь мир!..
Брось! Если потребуется, просижу в тюрьмах всю свою жизнь. Но если ты станешь коммунистом, тебя могут убить, повесить, утопить, как утопили Субхи и его товарищей в Трабзоне, незадолго до твоего приезда. Об этом ты думал? Думал. Я спросил себя: не боишься ли, что тебя убьют? Не боюсь! Сразу ответил, не думая? Нет, не сразу. Сначала я понял, что боюсь, а потом, что не боюсь. Я спросил себя: согласен ли ты на увечье, готов ли ты ради этого потерять руку, ногу, оглохнуть? Заболеть сердечной, болезнью, чахоткой, ослепнуть? Ослепнуть... Подожди, вот об этом я не подумал. Я встал. Крепко зажмурил глаза. Походил по комнате, ощупывая руками мебель. Споткнувшись, растянулся на полу. Но глаз не открыл... Потом поднялся, встал у стола. Открыл глаза. Готов и ослепнуть ради этого!.. Вы скажете, это по-детски, немного смешно... Но так!
Не книги, не убеждения, не мое социальное положение привело меня туда, куда я пришел. Меня привела туда Анатолия. Анатолия, которую я разглядел еще так плохо, с одного только краешка. Мое сердце привело меня туда, куда я пришел, вот так-то!..»
Предположим, оккупантов из Стамбула выгонят. Но что делать с нищетой? Разве нищета Анатолии не больший позор, чем иностранная оккупация? Нужно во что бы то ни стало найти средство, найти путь, чтобы избавить народ от скотской жизни.
Эти мысли, неотступно мучившие его в Болу, Назым выложил при первом же знакомстве с председателем уголовного суда Зией Хильми.
Когда судья вошел в кофейню, все встали. Так было заведено в те годы в Анатолии – стоило начальнику уезда, судье и другому чину войти в общественное место, все почтительно умолкали и стоя приветствовали его поклоном.
Зия Хильми сел за их столик – верно, успел прослышать о молодых стамбульских поэтах.
Это был еще совсем молодой человек лет двадцати шести. Но он носил окладистую медную бороду – иначе его вряд ли стали бы слушать.
Зия сразу заговорил о поэзии. Валя стал читать наизусть Бодлера, и, к их изумлению, судья по-французски закончил полюбившееся им стихотворение «Балкон». От Бодлера перешли к французской революции, и тут их новый друг выказал знания, которые нельзя было вычитать в присланных из Стамбула томах. Диктатура монтаньяров, по словам судьи, предшествовала Парижской коммуне, а следовательно, и первой русской революции 1905 года. То, что происходит в России сейчас, – естественное развитие исторического процесса, доказывающее необходимость диктатуры пролетариата для освобождения человечества. Помните споры Ленина с Каутским?..
Председатель уголовного суда явно переоценил осведомленность друзей. Ни о коммуне, ни о спорах Ленина, ни о диктатуре пролетариата Садык Ахи им ничего не говорил. И они снова ужаснулись своему невежеству.
Способ избавить Анатолию от нищеты можно было, оказывается, найти в опыте русской большевистской революции. И на следующий день Назым заявил: «Короче, этим летом мы едем в Россию. Будем учиться, узнаем правду о революции».
Тут даже Зия Хильми, кажется, в первый и последний раз, потерял хладнокровие: «Как, этим летом вы собираетесь в Россию?.. Ну что ж, – добавил он, подумав, – и я с вами».
Зия Хильми предложил своим новым друзьям перебраться в деревню. Он присмотрел неподалеку от Болу деревянный дом. Деньги будут платить поровну – половину он, половину они. Судья купил жеребца – на нем он собирался ездить в присутствие и привозить из города продукты. А они должны будут прибирать в доме, мыть посуду, стирать белье. Варить обеды Зия Хильми намеревался собственноручно.
Назым и Валя мечтали убраться из города. И как только окончились занятия в лицее, друзья переселились в деревню, То были, пожалуй, самые счастливые месяцы в жизни Назыма, По крайней мере так ему казалось в бурсской тюрьме. Деревня стояла на склоне горы, вся в зелени. На вершине вертелась мельница. Дорога из города шла через зеленое кладбище. Вокруг шумели фруктовые сады, а выше начинался густой лес.
Предложение Зии Хильми самим себя обслуживать они приняли с радостью – это им пригодится. Деревенский дом в Болу оказался первой коммуной в жизни Назыма Хикмета. Их предстояло ему еще много – в общежитиях, в тюрьмах, в подполье. Здесь отпрыск стамбульского паши учился мыть посуду и стирать белье, мыть полы, варить обеды. С той поры общая жизнь, где поровну были распределены обязанности, стала его потребностью. И потом, когда в ней не было прямой нужды – в Стамбуле или в Москве пятидесятых годов, он, отдыхая от работы, с удовольствием хозяйничал, помогал жене, возился на кухне. Назым и здесь был новатором – сочинял небывалые блюда, усовершенствовал домашние работы, – правда, не всегда с таким же успехом, как в поэзии.
Покончив с обязанностями по дому, друзья садились писать. К вечеру на гнедом жеребце Дюльдюль возвращался из города нагруженный покупками Зия Хильми. И брался за варку обеда. Здесь, на кухне деревенского дома, продолжались беседы и споры. Назым считал, что условия жизни в обществе портят людей. Нужно, мол, отбирать детей у родителей и помещать их где-нибудь в горах в интернате, под наблюдением избранных воспитателей. Тогда грязь этого общества не пристанет к ним.
Зия, стоя над кастрюлями, качал головой.
– Все это старая песня. Прочти утопистов – Руссо. Почитай Маркса, Энгельса. Тебе еще пуд соли съесть надо.
Назым сердился, но не уступал.
По вечерам в деревне под Болу происходили заседания городского уголовного суда. Зия Хильми привозил материалы очередного дела. Валя был вторым членом суда, Назым – прокурором.
Два настоящих члена суда и прокурор были слишком стары и ленивы. Они мирно дремали на заседаниях и во всем соглашались с председателем. Подлинное разбирательство происходило, таким образом, не в суде, а здесь, – в зале заседаний только выполнялись формальности.
Решение друзья принимали просто. Достаточно было узнать, кто обвиняемый – богач или бедняк. Если бедняк – его оправдывали, если богач – присуждали к наказанию. В кодекс законов и материалы предварительного следствия заглядывали лишь, если обе тяжущиеся стороны были либо бедняками, либо богачами. В общем, как в те годы говорили в России, суд руководствовался не законом, а революционной совестью. В результате судья Зия Хильми стал самым популярным человеком в округе – бедняки готовы были за него в огонь и в воду.
Участие в неофициальных судебных заседаниях на правах, говоря языком современным, общественного обвинителя давало в руки Назыма массу конкретного материала. Социальные конфликты открылись перед ним, как открываются истинные причины болезни на столе патологоанатома. Он пишет свою первую пьесу «Каменное сердце». Но самые реальные конфликты, которые он видит в Болу, приобретают абстрактный, символический вид. Он и в этой пьесе использует фольклорные образы-символы, хотя и пытается их по-своему переосмыслить. Замысел «Каменного сердца» вырос из народной пословицы «Сердце не камень». Герой пьесы крестьянин-бедняк. Возмущенный притеснениями помещика, он убивает его, чтобы посмотреть, есть ли у этого жестокого человека сердце. Но вместо сердца вынимает из его груди камень.
Камень и сердце – жизнь и человек. К этому образу когда-то прибегнул Джелялэддин Руми, говоря о развитии души от камня к человеку. С этого образа начинает в годы национально-освободительной войны Назым Хикмет поиски собственного пути, обнаружив, что условия жизни превращают порой человеческое сердце в камень.
После второй мировой войны, в бурсской тюрьме, Назым напишет пьесу «Об Иосифе, продавшем своих братьев», построенную на фольклорном библейском сказании. В ней он возвратится к тому же образу – камень и человек. Иосиф, продавший своих братьев, обтесывает камень, как свою судьбу, – без шума, упорно, не щадя ни себя, ни камень, ни других, один, без помощи других. И поэт устами каменщика Меиофиса отвечает ему: «Неправильно показал нам Иосиф. Камень надо обтесывать не так. Это верно, надо работать с терпением, с умом, если необходимо, и с хитростью. Без шума, без крика: обтесывать камень, как свою судьбу. Но рядом с другими каменщиками. Любя и камень, и себя, и других. Вот так!»
Каждое новое поколение приходит в мир с ощущением, что жизнь, которая была до него, нуждается в коренной переделке и они, молодые, устроят ее по-своему, лучше и справедливей. Будь иначе, трудно было бы надеяться на будущее мира. Молодому Назыму повезло больше других – в те годы историческое развитие мира слилось в людях с движением их сердец. А это редкое и большое счастье.
Окончились и экзамены в лицее. Пора было отправляться в путь. Но у них не было денег – преподаватели болийского лицея не получали жалованья вот уже много месяцев. Валя сел на гнедого жеребчика Дюльдюль и уехал в Анкару добиваться в министерстве выплаты жалованья.
Тем временем в Болу произошли события, которые заставили друзей поторопиться с отъездом. Сменился начальник округа – мутасаррыф.
Однажды после полудня учителя собрались в «Кофейне беев», выбрали делегатов и отправили их к новому мута-саррыфу требовать жалованья. Среди делегатов был и Назым.
Путь от кофейни к резиденции мутасаррыфа пролегал через рынок ремесленников. Лавчонки, мастерские, торговые ряды ощетинились брезентовыми козырьками. Начался сильный дождь.
Учителя шли за Назымом по рынку, закрывшись зонтиками. Когда Назым подошел к резиденции мутасаррыфа, зонтики исчезли вместе с их обладателями, словно растаяли под дождем. Чиновники не привыкли что-либо требовать у начальства – в султанские времена за это по головке не гладили.
Трусость коллег привела Назыма в ярость. Красный от возбуждения, он приподнял тяжелую занавесь и ввалился в кабинет мутасаррыфа.
Тот сидел за столом, высокий, в папахе. Назым плюхнулся в кресло и приступил к изложению дела. Мутасаррыф оборвал его жестом, отпустил привратника, вошедшего вслед за неучтивым посетителем. Встал из-за стола.
– Жалованье за месяц я уже распорядился выдать, – Сказал он. Остановился перед Назымом. Помолчал. – Мне известно, каковы ваши убеждения, Назым-бей. Я знаю, чем вы занимаетесь в деревне и кто ваши друзья.
Он снова помолчал. Потом сел в кресло напротив и положил руку на колено Назыму.
– Греческие войска начали наступление на Анкару!
Назым вскочил.
– Анкара может пасть.
– И что же?
– Мы объявим здесь в Болу большевизм. Зия-бей станет премьер-министром, ваш друг Валя-бей – министром финансов, Вы – министром внутренних дел. Меня объявите президентом. Мы создадим крестьянскую Красную Армию и пойдем освобождать Анкару. Готовьте сторонников, но обо мне пока ни слова...
Назым вдруг успокоился: надо было действовать.
Что был за человек этот мутасаррыф – провокатор или бывший иттихадист? А может, просто карьерист? Он и сейчас, четверть века спустя, не знал этого. А тогда ему просто не пришли в голову эти вопросы.
Назым вышел на крыльцо. В обе стороны вели вниз каменные ступени. Спускаясь по ним, он прикидывал, на кого можно положиться в их молодежном кружке, кто будет с ними из старых учителей. Ну, а в селах и на рынке ремесленников за председателем уголовного суда Зией Хильми пойдут все.
Мутасаррыф сказал, что начальника жандармерии, то есть сельской полиции, он надеется перетянуть на свою сторону, а вот начальника полиции городской следует опасаться.
Назым и Зия разработали план кампании, дважды встречались с мутасаррыфом.
Но Анкара не пала. Наступление интервентов было остановлено. И мутасаррыф вызвал к себе Назыма.
– Вы должны уехать как можно скорее. Больше вам здесь делать нечего. Только меня подведете...
Через сорок с лишним лет по дороге из Анкары в Стамбул мы заехали в Болу. Новое шоссе проходит теперь за пределами города. Болу, конечно, сильно изменился. Но рынок ремесленников остался таким, каким был, – узкие улочки-ряды, прямо перед лавками вывешены туфли, посуда. Мы заглянули к ложкарю. Купили у него на память длинную деревянную ложку на плоском черенке, с лаковыми цветочками.
Пошел дождь, сначала мелкий, потом все сильней и сильней, как в тот далекий четверг, когда Назым вел по рынку, по этим самым рядам делегацию учителей требовать жалованья.
Мы направились к резиденции мутасаррыфа. Окружной начальник теперь помещается в другом здании. Но прежнее сохранилось в неприкосновенности. Все то же крыльцо с лестницами в обе стороны. Разве ступени чуть больше выщерблены – что для камня полвека?!
Проехав до конца города, мы повернули обратно, к шоссе. И нос к носу столкнулись с полицейской машиной. Она шла за нами из самой Анкары, но на значительном расстоянии. А тут, в Болу, полицейские взволновались: что нужно советским писателям в этом провинциальном городке? И они сели нам прямо на хвост.
Откуда им было знать, что мы просто хотели посмотреть на город, где учительствовал великий национальный поэт Турции, со смертью которого каждый из нас никак еще не мог примириться...
Как только Валя вернулся из Анкары, друзья наняли рессорную повозку, погрузили на нее свое немногочисленное имущество и отбыли в крохотный черноморский порт Акчакоджа. Оттуда на русском пароходе «Корнилов» – он был конфискован итальянцами и ходил под итальянским флагом – перебрались в Трабзон: Турция была лишена права иметь свои суда даже для каботажа.
План у них был таков: скажут, что едут в Каре учительствовать. А в Каре тогда было два пути – долгий, мучительный по бездорожью через Сивас и Эрзрум и более легкий морем до Батума, а оттуда через Тифлис по железной дороге.
Когда они прибыли в Трабзон, город был объят страхом. Политическая полиция Айн-Пэ следила за каждым приезжим человеком. Власти опасались волнений.
В Трабзоне в начале года были умерщвлены пятнадцать коммунистов во главе с основателем Турецкой компартии Мустафой Субхи. Они возвращались из России по приглашению Мустафы Кемаля для участия в национально-освободительной войне. Но в Эрзруме толпа фанатиков-чалмоносцев забросала камнями их тарантасы: «Коммунисты хотят сорвать покрывала с наших жен. Превратить мечети в хлев!»
Власти разоружили Субхи и его товарищей, переправили в Трабзон и ночью якобы для их собственной безопасности посадили на моторный бот, направлявшийся на запад. Но староста трабзонских лодочников посадил на другой бот вооруженную банду и на траверсе мыса Сюрмене взял бот субхистов на абордаж.
Говорят, схватка в море продолжалась два часа. Тела убитых коммунистов были брошены в море. Уцелела лишь жена одного из них, русская женщина, которую бандиты увезли с собой.
Вдохновители преступления неизвестны и по сей день. Ясно одно: староста лодочников и его люди были всего лишь наемными убийцами.
Зия Хильми не решился просить дозволения на проезд через Ватум. У Назыма с Валей хоть была бумага из Болу: направляются, мол, учителями в Каре. А Зия был юристом и, пока суд да дело, поступил на службу в армейское управление. Да и Айн-Пэ наверняка успела пронюхать об их деятельности в Болу. Словом, пусть Назым и Валя едут, он присоединится к ним спустя месяц-другой...
Назым не встретился с Зией Хильми ни через месяц, ни через год. В Болу все были уверены, что этого волевого, умного человека ждет блестящая карьера. Назым полагал, что со временем Зия станет одним из лидеров революционного движения.
Все вышло иначе. После победы над интервентами он вернулся в Стамбул. Компартия была загнана в подполье и разгромлена. На время организация распалась. Существовали лишь не связанные друг с другом, разрозненные кружки. Впереди были годы и годы кропотливого собирания сил.
Зия не желал ждать. Решил создать группу террористов для захвата власти. Как-то на пароходе, курсировавшем по Босфору, он встретился с Валей. Валя к тому времени тоже отошел от своих прежних друзей и убеждений, работал в правой газете.
– Хочешь заработать много денег? – спросил Зия, когда они остались одни. Зия уже не носил бороду. Вид у него был неопрятный, потрепанный.
– Ты лучше сам сначала заработай, – отшутился Валя. Через несколько месяцев газеты сообщили, что Зия Хильми арестован за контрабанду наркотиками. Он рассчитывал обеспечить деньгами свою сверхгероическую деятельность, торгуя героином.
Вспоминая об этом в Москве в конце пятидесятых годов, Назым волновался так, будто речь шла не о событиях двадцатипятилетней давности. Цель, даже самая высокая, никогда не оправдывала для Назыма неразборчивость в средствах.
– Можно, конечно, достичь цели любыми средствами. Но, достигнув, непременно обнаружишь, что если средства были не те, то и цель оказалась совсем иной, чем ты ее себе представлял... Не бывает лжи во спасение истины, бывает лишь ложь во спасение лжи. Цель и средства, как содержание и форма в искусстве, – неразрывны. И если маоцзэдунисты торгуют теперь наркотиками за границей, думая построить с помощью этих денег у себя в стране социализм, то, возведя провокационный авантюризм Зии в ранг государственной политики, они построят, если уцелеют, нечто совсем иное...
Зия Хильми погиб в 1934 году при взрыве тайной лаборатории, где изготовлялся героин.
Но 1 сентября 1921 года, сидя в последний раз вместе с ним в трабзонской кофейне и прощаясь на пристани, откуда пароход увозил их в Ватум, Назым не мучился никакими предчувствиями. Его ждали новый мир, новая жизнь...