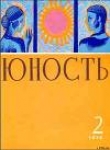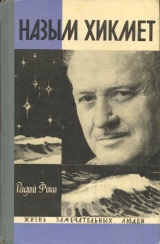
Текст книги "Назым Хикмет"
Автор книги: Радий Фиш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
– Послушай, Ибрагим, это слишком серьезно. Перестань плакать. Садись и слушай. Сотни людей стараются меня освободить, а я сижу здесь, как ягненок. Хватит! Свобода или смерть! Я напишу письмо... Министру юстиции... После того, как всем стало ясно, что я сижу безвинно и осужден незаконно, прошло пять месяцев. Больше я не желаю гнить заживо в этой могиле. Если меня не освободят через пять дней, я покончу с собой...
Он обернулся, вынул из-под подушки коробочку:
– Вот снотворные пилюли...
Ибрагим не знал, что сказать. В раздумье, в отчаянии, в печали, в надежде ходил по камере. Назым сел за машинку. Он был в ярости, словно сидел за пулеметом.
– Готово. И письмо. И заявление. Письмо я отправлю сам. А заявление – ты, по адресу, который я тебе скажу. Но только, когда умру. Не отправляй, пока не убедишься хорошенько. Лекарство может не подействовать или меня станет тошнить. Если я останусь в живых, а ты это отправишь, я буду опозорен, понял?
– Как скажешь, отец.
– Заявление нужно потому, что они письмо это скроют. И к лучшему. Из письма можно понять, что я умираю только за себя. А в заявлении сказано все: я приму смерть через пять дней в знак протеста против издевательств над всеми нами, над страной, над ее людьми... И если умру, то не напрасно... Они ответят за то, что сделали двенадцать лет назад... Может, моя смерть на что-то сгодится...
Назым понизил голос:
– Давай теперь подумаем, как это заявление спрятать...
Сколько ни думали, ничего путного придумать не могли. Попробовали сложить полотно в два слоя, а между ними вклеить заявление. Потом Балабан нарисовал бы на полотне картину... Но в том месте, где была бумага, торчал бугор – непременно найдут. И тогда ему пришла мысль: есть на свете место, где никто не может найти спрятанное. Ибрагим, его ученик Ибрагим Балабан должен выучить заявление наизусть... Но подпись? Ибрагим – художник. Он повторит его подпись – комар носу не подточит. Решено!
Они уселись друг против друга. И фраза за фразой, словно клятву или молитву, повторили последние слова Назыма Хикмета, которые он хотел сказать людям.
Вспоминает Ибрагим Балабан
Эти слова навсегда засели в моей памяти... «Я поднял это оружие в защиту людей труда, в защиту подвергающейся преследованию интеллигенции, в защиту правды, справедливости и красоты. Не осуждайте меня, люди, за то, что я прибегнул к оружию безоружных. Мне не остается ничего другого, как сделать своим оружием смерть, а себя самого – патроном. Я знаю, в бою это самое простое. Но это последнее средство протеста и сопротивления...»
Я повторял их про себя несколько часов подряд. И когда убедился, что знаю наизусть слово в слово, взял написанную отцом бумагу и приложил ее ко лбу: «Спрятано. Никто, кроме меня, не найдет!..»
Назым закурил трубку. Зашагал из угла в угол. Все было правильно. Он готов. Только бы Ибрагим ничего не перепутал...
– То, что ты выучил наизусть, Ибрагим, ты уже не забудешь, правда?
– Разве забудешь суры корана?!
Назым усмехнулся. Странный народ эти крестьяне.
– Ты много молился, Ибрагим?
– Как все дети в деревне. С восьми лет стал творить намаз и блюсти пост...
Он вдруг подумал, что никогда, в сущности, не постился. Голодать голодал, но это другое – добровольно отказаться от пищи. Дед не заставлял их поститься, а потом он перестал верить. Говорят, в посте есть удовлетворение. Человек очищается, что ли... Вот, мол, я тоже знаю, что такое голод. Сытый голодного не разумеет. Я теперь хоть и живу сытно, но разумею своих младших братьев... Так сказать, социализм навыворот – опуститься до голодного, вместо того чтобы накормить его. Но ведь пост есть у всех народов. Может быть, без самоограничения нет морального здоровья. У наших крестьян пост вроде праздника голода.
Он вдруг зашагал так быстро, словно отправился в далекий путь. Но через два шага уткнулся в стену. «Ох, стены пошли на меня!» В самом деле, что, если выбрать это? Как-никак борьба? А может, просто еще одна пустая надежда остаться в живых? Нет, уж лучше сразу... Слишком медленная смерть. Каждый день понемногу съедать самого себя. Каждый день будешь съеживаться. Останется скелет, обтянутый кожей. Глядеть голубыми глазами из обтянутого кожей черепа на своих мучителей. И в конце концов все равно смерть...
Он провел рукой по лбу. Рука стала влажной от пота. Он снова задымил трубкой. Беспомощно обвел глазами камеру, словно ища, с кем бы поделиться своими мыслями. Но, кроме Ибрагима, в камере не было никого. А тот сидел на койке, свесив руки и глядя в пол, – молча оплакивал его смерть.
Смерть. Он был давно готов к ней. Думал, что готов, пока она была далеко. В молодости нет ничего дешевле собственной жизни. Теперь же, когда жизнь была так дорога – в сущности, он жил так мало, – он должен был сам выбрать себе смерть. Конечно, принять таблетки легче и проще. Уснуть и – не проснуться...
Он помотал головой, словно отгоняя эту мысль. Вот она уже и надела самые мягкие одежды, соблазняла его нежной песней о великом покое... Шалишь, старуха, если уж возьмешь меня, то с бою.
– Верно, Ибрагим, снаряд должен быть замедленного действия?
Ибрагим очнулся, поглядел на него в тревоге.
– Я говорю, голодовка хоть и трудней, но зато не то что самоубийство...
– Верно, отец, – обрадовался Ибрагим. – И в конце еще есть надежда.
Он обнял его за плечи:
– Ах ты, мой Кельоглан! Надежды, что освободят меня, слишком мало...
– Но ведь все требуют твоего освобождения. Ты им должен отсюда помочь!
– Ладно! Решено. Будем жить каждый лишний день назло врагам... А письмо перепишем: если через пять дней меня не освободят, начнем голодовку...
Он повеселел, точно свалил мешок с плеч. Дело сделано. Он решил самую трудную задачу, и, кажется, решил верно. Вот так-то!..
Он решил идти до конца и был готов умереть, Но он и не предполагал, что смерть будет его неотступным спутником целых тринадцать лет подряд. Ровно через год его призовут в солдаты, чтобы расправиться уже без суда и следствия. И он снова предпочтет пойти ей навстречу, чем ждать. Попрощается с Мюневвер на пороге и, когда ее теплая тонкая рука выскользнет из его ладони, ощутит не облегчение, как сейчас, а щемящую печаль: «Что будет с нею?». С этой печалью в сердце он спустится к пристани Хайдарпаша и, убедившись, что за ним нет «хвоста», сядет на пароход, идущий по Босфору в сторону Черного моря...
Любит ли он море? Он даже не мог бы, пожалуй, ответить на этот вопрос. Это все равно, что спросить: любишь ли ты воздух? Видеть море, жить с ним рядом для стамбульца так же естественно, как дышать. Оно здесь повсюду: в него упираются улицы, Золотым Рогом входит оно в город, отражается в стеклах домов, на людских лицах. Иногда, в Москве или в Анкаре, когда он еще мог уехать куда хотел, на него нападала странная тоска. В двадцать пять лет он впервые распознал ее.
К морю хочу возвратиться,
в зеркале вод голубых весь я хочу отразиться.
К морю хочу возвратиться.
Плывут корабли, в серебристые дали плывут и плывут.
Быть может, и я на корабль однажды взойду,
а так как написана каждому смерть на роду,
хочу я в волнах на просторе погаснуть, подобно лучу,
в море хочу я вернуться,
в море вернуться хочу!
Здесь, на Босфоре, он вырос, в Мраморном море служил курсантом. Черное море доставило его в Анатолию, потом в Москву и в 1924 году возвратило на родину. Это было просто: сошел с советского торгового парохода вместе с командой, громко разговаривая по-русски, зашел домой к матери, переоделся. Так началось его первое подполье... На заливе Каламыш провел он свою лучшую ночь в жизни вместе с Мюневвер. И вот теперь опять море, оно одно дарует ему свободу или смерть.
Он сойдет с парохода на последней остановке Анадолукавак. Оглядится. В этот утренний час пристань пустынна.
Верный товарищ ждет его в лодке. Как только он перешагнет через банки и положит на слани свой чемоданчик, мотор затарахтит и вынесет их навстречу течению на самую середину широкого в этом месте пролива.
Маяки и погранзаставу они минуют благополучно, утлая рыбацкая моторка не привлечет внимания. Они сделают обманный ход – из Босфора свернут на восток. И лишь когда берег станет полоской на горизонте, круто возьмут на север.
До полудня всё шло как по писаному. Ударяясь днищем о волны, моторка ходко продвигалась вперед, и вскоре берега исчезли из вида. После полудня ветер зашел на северо-восток, посвежел. На волнах появились пенные взводни. И главное, они стали бить в борт. Изо всех сил пришлось вычерпывать воду. Так прошли еще три часа. Солнце начало заметно клониться к западу. А море, Черное море раскачивалось все сильней и сильней, соль разъедала руки, щипала глаза. Они вымокли с головы до ног... Если ветер не стихнет, до цели не меньше двух суток. Это бы еще ничего. А если перейдет в штормовой?
Высокий пенный гребень обвалился на корму. Что-то произошло, он не сразу понял что: то ли ветер вдруг припустил, то ли волны стали выше... Случилось худшее: заглох мотор. Неуправляемая шлюпка заплясала на волнах. Он схватился за весла: надо хоть удержать лодку носом на волну, пока товарищ разберется, что стряслось с мотором... И тут он подумал, что все это уже видел давно, и, как многое, что с ним случится впоследствии, рассказал в своих стихах... Исмаил из Архави, лазский матрос, погибший в Черном море на утлой лодчонке, доставляя оружие к повстанцам Мустафы Кемаля. Герой «Дестана о войне за независимость». Вот так же понял он, что все кончено, когда обломались весла. Но испугался не смерти, а мысли о том, что может вне борьбы оказаться. Этот страх охватил Назыма, когда они поняли, что мотор не заглох – отказал... Какая глупая смерть – на пороге свободы, гоз-за какой-то свечи в моторе!.. Впрочем, смерть, она почти всегда глупая, даже когда к ней заранее готовятся... Неужели конец?
Они будут бороться до последнего, заливаемые водой и быстро сносимые назад, к турецкому берегу.
И когда под вечер им покажется, что никакой надежды не осталось, она появится – корабль, идущий из Босфора. Товарищ выстрелит из ракетницы. Назым сорвет с головы кепку и, пытаясь удержаться на ногах в пляшущей лодке, крикнет по-французски: «Остановитесь! Я – турецкий поэт Назым Хикмет!» Корабль, быстро приближаясь, подойдет вплотную. Матрос на палубе, глянув на них, пожмет плечами: ничего не понял... Чей же это пароход?
– Капитана! Капитана позовите! – Он крикнет теперь по-русски. – Я – турецкий поэт Назым Хикмет!
А судно... судно пройдет мимо. Вот уже видна корма. На ней румынский флаг.
Отойдя на кабельтов, корма начнет медленно разворачиваться. Сделав циркуляцию, судно прикроет их от ветра своим корпусом. С высокого борта развернется веревочный штормтрап. И по этой лестнице, держа в зубах чемоданчик с парой белья, газетами и рукописями, он, а вслед за ним товарищ подымутся на палубу, чтобы следующим утром увидеть иной мир...
Но это будет через год после того, как он решил сделать смерть своим оружием. А пока в апреле 1950 года он готовился к первой схватке с нею в бурсской тюрьме.
5 апреля 1950. Бурса
...Голодовку, которую я объявляю 8 апреля, я начинаю с надеждой. Не с печалью, не с отчаянием. Если я умру, то до последнего дыхания буду жить надеждой. И вы тоже, несмотря ни на что, не теряйте надежды. Особенно ты, мой Валюшенъка, не волнуйся, не убивайся... Я полон светлой радости, которую приносит борьба за справедливость. Правда, если даже я умру, все равно восторжествует. Эта мысль, эта вера, эта уверенность делают меня счастливым. Помни, я не кончаю самоубийством. Я никого не шантажирую. У меня просто нет другого средства, как поставить на карту свою жизнь. Вот так-то, братцы! С тоской обнимаю вас и еще раз повторяю, несмотря ни на что, я уверен, мы встретимся, ибо я полагаюсь на совесть моей страны... Когда вам позвонит мать и сестричка Самие, утешьте их. Мюневвер одна-одинешенька, поддержите ее. Дайте ей силу. Особенно в эти дни...
В эти дни... Нет, в эти годы. Если б он знал, что принесут они Мюневвер, то, думая о ней, наверное, предпочел бы умереть так же, как, думая о Пирайе, хотел умереть в анкарской тюрьме.
Когда всему миру станет известно, что он в Москве, Мюневвер отправится в Анкару требовать заграничного паспорта. На выборах победят «демократы». Ее примет заместитель нового премьер-министра Самет Агаоглу. Не предложив ей сесть, встанет из-за стола и заорет:
– Мы раздавим головы таким, как вы! Паспорта вы не получите. Назым будет лишен гражданства. Вы будете нищенствовать. Но никуда не уедете!
– Стыдитесь, – скажет Мюневвер, – разве турецкий мужчина может так разговаривать с женщиной? Султаны сажали моих дедов в крепость, но не воевали с женами. Запомните, Назыма Хикмета никто не может лишить родины. Он будет жить, когда от вашего имени и слуха не останется. Политика – дело такое, как знать, может, завтра придется сидеть в тюрьме вам, а коммунистическая партия у нас будет легальной, как во Франции или в Италии!
Мюневвер, женщина их семьи, их породы, смелая, гордая Мюневвер!..
Десять лет подряд днем и ночью полицейский «джип» с двумя чинами будет ездить за ней, куда бы она ни пошла: за молоком для сына, в парк, в гости. По ночам полицейские будут трястись от холода у ее дверей. У нее не будет работы – разве найдется такой храбрец, который бы взял на работу женщину, чей муж объявлен вне закона? Но у нее появится множество незнакомых ей друзей. Мемед вырастет, пойдет в школу, будет переходить из класса в класс. А полицейские, все те же три смены полицейских, будут преследовать его мать. Ребенок привыкнет к ним, станет звать их «наши дяденьки полицейские», играть с ними. Но в восемь лет он узнает, почему растет без отца, прибежит из школы и крикнет им: «Верните моего отца! Верните отца!» И больше не скажет им ни слова. Мемед вырастет гордым, смелым мальчиком... Все дети будут расти на глазах у отцов изо дня в день. Его Мемед из года в год – на фотографиях без звука, без слова. И рядом с притаившейся в его груди смертью будет он носить с собой по миру тоску по сыну, по его матери, по его родине. И снова десять лет только исписанная бумага станет единственным вещественным выражением их любви. «Мой милый, это сто пятнадцатое письмо к тебе...», «Назым, любимый мой, это девятьсот шестьдесят четвертое письмо мое...», «Любимый, пишу тебе тысяча пятьсот тридцать первое письмо...», «Назымушка, мой милый, это две тысячи триста двадцать пятое письмо... Забудь мои заботы, мои печали – меня не забывай...» Десять лет. Как другие узнают все породы деревьев, все виды рыб, все классы звезд, так он узнает все виды разлук. И эта последняя разлука с матерью его единственного сына будет страшнее смерти...
Известие, что он решил начать голодовку, вызвало такой гнев, что власти оцепили бурсскую тюрьму двойным кордоном полиции. Он не зря полагался на совесть своей страны – тюремщики боялись, что его освободят силой. Тысячи телеграмм полетели в Анкару. Власти попробовали оказать давление на родных поэта, чтоб те уговорили его переменить свое решение. Но не возымели успеха.
И тогда сквозь полицейские кордоны пошли к нему в камеру газетчики.
...Как бы это сказать, ну, скажем так – странный народ наши газетчики. Я, мол, в отчаянии, в глубокой душевной депрессии... Моя жена рыдает у ворот тюрьмы в три ручья и прочее и прочее. Вот, мол, поэтому я и принял свое решение... Послушайте, сделайте милость, я ведь вас утешил, успокойтесь. Разве я не говорил: «Я не отчаялся!» Но никому до моих слов нет дела. Если я поступаю так, как должен поступить, то не с отчаяния и не с горя, не от уныния и душевной депрессии, а потому, что у меня нет другого способа восстановить справедливость, помочь властям приступить к делу, кроме как рискнуть своей жизнью. Чтобы хоть чуточку помочь этому делу, я готов принять смерть. Слава богу, я в своем уме и знаю, что делаю. Но, как я говорил, не смог растолковать этого даже адвокату. Почему-то никто не допускает, что гражданин Турции может, если нужно, рискнуть жизнью и умереть ради истины, ради правды, ради восстановления справедливости. А ведь сколько, сколько людей, умевших принять смерть за правду, за справедливость, дал и даст еще миру наш турецкий народ...
Срок ультиматума, который он поставил властям, истекал. Он вышел в коридор, разыскал повара Якуба. Обнял его за плечи:
– Говорят, ты здесь повар?
– Повар, ваша милость, – в тон ему ответил Якуб.
– Отлично. Настало твое время показать свое искусство. Завтра я начинаю голодовку. Приготовь мне все лучшее, что ты умеешь. Какие продукты прикажешь заказать в тюремной лавке? Что у тебя там в меню?
Якуб склонился в поклоне, словно официант в ресторане, и проговорил без единой запятой:
– Из первых – суп вермишелевый суп макаронный суп рисовый из тушений – фасоль в стручках бобы в стручках бамья баклажаны с мясом баранина с луком и овощами сладкий горошек из жарких – кабачки жареные баклажаны жареные ягненок курица из котлет – люля с томатом и рисом из жаркого на решетке – отбивная печень шашлык бараньи яйца из салатов – горчичный русский помидорный яичный из сладких – кадынгёбеги шамбаба молочный кисель сютлеч гюллеч...
Назым остановил его:
– Кто все это может съесть?
– Ты, отец. Раз начинаешь голодовку, отведай всего сколько влезет и выдержишь не двадцать – сто один день...
Он расцеловал Якуба в обе щеки. Названия блюд напомнили ему детство. Все это он любил и хотел бы отведать. Только как есть блюда, о которых большинство арестантов и не слыхало, у них на глазах? Но ведь он будет есть последний раз в жизни...
В три часа утра 8 апреля они уселись с Ибрагимом друг против друга и приступили к трапезе. Отчего они выбрали такое время? Оттого ли, что днем было бы больше зрителей, или потому, что его подсказали им смутные воспоминания о рамазане, когда есть можно только ночью?.. Якуб превзошел самого себя. Ибрагим, чтобы разжечь аппетит учителя, старался вовсю – ел и нахваливал. Но кусок не лез Назыму в горло. Казалось, он стыдится, что позволил себе закатить этот пир. И когда взошло солнце, с облегчением отодвинул тарелку.
Голодовка началась.
Первый день прошел легко. Чтоб обмануть желудок, он пил воду и курил. Три раза в день.
На второй день вместе с голодом явился прокурор. Верно, телеграммы, отправленные накануне, властям и в газеты, вызвали отклик, раз он так настоятельно требовал прекратить голодовку.
Третий день был похуже. Голод вгрызался в кости. Явился адвокат. Странно, но он тоже убеждал его отказаться от своего решения.
На четвертый день приехала Мюневвер. Он лежал, вытянувшись на койке, похудевший и глядел на нее с такой нежностью, что она не сразу могла заговорить.
Мюневвер привезла массу новостей. И все добрые. В Анкаре три поэта – его двоюродный брат Октай Рифат, Орхан Вели, Мелих Джевдет – объявили трехдневную голодовку солидарности. Молодежь вышла на демонстрации. В США Поль Робсон обратился с воззванием к народу...
...В 1949 году, когда Назым узнал о попытке расистов линчевать народного певца Америки в Пикскилле, он написал:
Они нам не дают петь наши песни,
мой черный брат с жемчужными зубами,
орлинокрылый соловей.
Они нам не дают петь наши песни, боятся, Робсон.
Они боятся утренней зари,
боятся видеть, осязать и прикасаться...
Любить боятся, как любил Ферхад.
(У вас, наверное, тоже есть Ферхад. Как звать его?)
Они боятся семени, земли, воды текущей и воспоминаний.
Ведь на ладонь их никогда не опускалась,
как птица теплая, рука друзей, не жаждущих ни векселя, ни чека...
Они надежд боятся, да, надежд боятся, Робсон,
боятся, мой орлинокрылый соловей,
они боятся наших песен.
Теперь рука Робсона легла на его плечо: «Мы в Америке должны сделать все возможное, чтобы заставить турецкое правительство освободить Назыма Хикмета. Все прогрессивные силы американского народа должны объединиться для освобождения великого поэта. Наши писатели, художники, все, кто истинно любит культуру американского народа, должны поднять свой голос протеста. Назым услышит нас так же, как услышат нас и те, кто хочет заглушить этот голос. Мы можем спасти великого народного поэта для рабочего люда Турции, Америки, для всего мира, если будем действовать немедленно...»
По призыву деятелей культуры США вокруг турецкого консульства в Нью-Йорке, сменяя друг друга, круглые сутки ходили молодые люди с плакатами: «Спасите Назыма Хикмета!..»
Они не увидятся с Робсоном. Робсону не дадут заграничного паспорта, потом Назыма свалит инфаркт, затем заболеет Робсон. Но их имена снова прозвучат рядом в тот день, когда Всемирный Совет Мира назовет первых лауреатов Международной премии мира.
Скитаясь по свету из страны в страну, Назым Хикмет, как почтальон, будет «в сумке сердца приносить людям вести о земле, о родине, о дереве, о птице, о волке», о единстве человечества. Но, чтобы эта единая сущность стала понятной каждому, нужно каждый раз находить ту форму, в которую облекается эта сущность у каждого народа в каждую эпоху.
Назым Хикмет останется самим собой, но с каждым народом будет разговаривать на его поэтическом языке. Пожалуй, первым из поэтов Земли он будет так свободно обращаться к традициям всех знакомых ему литератур Азии и Европы, Африки и Америки, чтобы разговаривать со всем миром.
В 1955 году Назым Хикмет напишет четыре стихотворения о жертвах, которые понес японский народ от атомного оружия. Эти стихи будут напечатаны в крупнейших газетах Японии. Чем-то неуловимо напоминающие японские народные песни – ута – с их прозрачной и мудрой печалью, они действительно станут песнями. И на Всемирном конгрессе мира в Хельсинки делегаты всех материков земли стоя будут слушать голос негритянского певца Америки Поля Робсона, поющего японские песни турецкого поэта:
Прошли над нами облака,
Забудь, родная, рыбака.
Гнилей гнилого яйца
Родится сын наш без отца.
Наш черный гроб, набитый горем,
Плывет по мертвым волнам моря.
Кругом мертво и нет надежды.
Эй, люди! Люди мои, где ж вы?..
...Мюневвер рассказала, что Жан-Поль Сартр, Луи Арагон и Пабло Пикассо от имени французской интеллигенции вручили требование освободить Назыма Хикмета турецкому послу в Париже.
Он знал их имена по книгам и рисункам, восхищался ими. Но он никогда не был в Париже...
...Он побывает в Париже. И не раз. Вместе с Арагоном будет читать стихи рабочим, дискутировать с Сартром, увидит последние работы Пикассо у него в мастерской. Он увидит этих людей в одной колонне с рабочим Парижем на демонстрации против антидемократических законов: «Слава богу, видал, слава богу, видал этот день в Париже, видал, слава богу. Тек Париж настоящий, великий Париж!..» Его стихи в переводе Мюневвер станут предвыборными листовками Французской компартии. И в них неуловимо, но ясно слышимо для французского уха прозвучит эхо гражданского пафоса Гюго, политической лирики Элюара.
Если вам не плевать на Францию,
если вы не хотите завтра,
таща на спине труп свободы,
За танком бежать, чтоб уже не вернуться домой,
не позволяйте им, не позволяйте трогать компартию!
...Мюневвер назвала много имен, о которых он прежде и не слыхал. Вот Пабло Неруда и Николас Гильен, поэты Латинской Америки, присоединились к французской интеллигенции. А он, к стыду своему, не читал ни одной их строки...
Когда Неруде вместе с Робсоном, Фучиком и Назымом присудят Международную премию мира, он возьмет слово, чтобы сказать не о себе – о Назыме: «Его поэзия могуча, как полноводная река, ее стальной поток мчится навстречу боям. Годы тюремного заключения привели лишь к тому, что поэтическое слово Назыма Хикмета достигло гигантских размеров. Его голос стал голосом вселенной. Я горжусь тем, что мои стихи стоят рядом с его стихами в этот решительный час борьбы за мир».
Они познакомятся в 1951 году на Берлинском фестивале молодежи. И Назым услышит стихи Пабло на его родном языке, из его собственных уст. На раскаленном от солнца асфальте в одном из берлинских дворов соберутся все делегаты Латинской Америки и Испании, студенты, рабочие, крестьяне. Глядя, как они слушают своего поэта – позабыв обо всем на свете, то сжимал кулаки, то улыбаясь, то удивляясь, а в иные моменты смахивая слезы со своих черных глаз, жгуче глядящих из-под огромных сомбреро, – он будет гордиться Нерудой не меньше, чем Пабло гордился им. Оба они писали сложно, но их понимали самые простые, неискушенные в поэзии люди. И не только на родине. Они будут выступать на заводах и в школах в Москве и в Праге. Пабло, хоть они будут жить по разные стороны океана, станет его близким другом. Они оба не отделяют горя и счастья своего народа от горя и счастья других народов. Оба с одинаковой силой говорят и о великих надеждах эпохи и о любовных страданиях человеческого сердца. Оба они воспринимают мир в его вещественной конкретности, с его запахами, объемами. Оба видят не розу вообще, а непременно белую или красную, именно ту самую розу, не море вообще, а Черное море или Атлантику...
Вместе с Николасом Гильеном, поэтом Кубы, Назым будет жить в азиатских отелях, в европейских отелях. Долгие годы они, изгнанники, большими глотками будут вместе пить тоску по родным городам. И повсюду рассказывать о своих народах. Но Гильен окажется счастливее его – он увидит свободную Гавану. И Назым приедет в Гавану Революции не как гость – как ветеран борьбы за свободу. Опьяненные счастьем, они будут вместе с Гильеном бродить по набережной Малекон и авенидам Ведадо, по столице самой молодой социалистической страны, путая женщин с фруктами, детский сад со свободой, ча-ча-ча с пачангой, матерей с президентским дворцом. С каждым днем все мягче будут линии его ладоней, и, проходя по улицам Гаваны, все радостней он будет петь вместе с «милисиано»: «Сомос сосиатистос! Паланте! Палате!» – «Мы социалисты! Вперед. Вперед!»
Гильен дошел до своего города. Он не дойдет...
Родина, родина,
не осталось на мне даже шапки работы твоей,
ни ботинок, таскавших дороги твои;
твой последний пиджак из бурсской материи
износился давно на спине...
Ты теперь у меня только в этих морщинах на лбу,
в свежем шраме на сердце
да в моей седине.
Родина, родина...
В пятьдесят втором году в Китае он напишет стихотворное письмо солдату турецкой бригады в Корее Велиоглу Ахмеду, которого послали умирать и убивать за три океана. Кого? «Кого ты идешь убивать, Ахмед? Свою мечту, что стала явью на этой земле, ты идешь убивать. Мы, турки, – храбрецы. Если осталась в тебе хоть капелька храбрости, сдавайся в плен своим братьям, Ахмед!» Эти строки были напечатаны на листовках. Сброшенные на головы турецких мемедов, они оказались страшнее бомб. Турецкие солдаты – ими американцы прикрывали отступление – готовы, были стоять до конца: «Турки в плен не сдаются». Но, прочитав это письмо, многие из них сложили оружие.
Правительство Мендереса, пославшее шестнадцать тысяч солдат умирать за интересы США, объявило Назыма Хикмета изменником родины.
«Назым Хикмет остается изменником родины», -
Черным по белому написала газета в Анкаре. -
Он сказал: «Мы полуколония империализма американского».
Да, я изменник родины, если вы – патриоты,
Если родина – ваши поместья,
Если родина – ваши кассы и вклады,
Если родина – смерть от голода на обочинах,
Если родина – малярийный озноб,
Если родина – ваше право сосать из нас кровь на фабриках,
Если родина – лапы помещиков, дубинки полиции,
Если родина – американские бомбы и базы,
Да, я – изменник родины.
Напишите на трех столбцах трехаршинными буквами:
«Назым Хикмет остается изменником родины».
И эти слова услышит его народ. Для разговора с ним народная Венгрия предоставит Назыму Хикмету радио Будапешта.
Когда весть о том, что Назым Хикмет лишен турецкого гражданства, станет известна в Польше, родина его прадеда, повстанца Борженьского, предложит ему свое гражданство. Из рук президента Берута он получит свой единственный в жизни орден – высшую награду Польши. И он примет их, как знак интернациональной солидарности в борьбе за свободу...
Из Варшавы он напишет Мюневвер:
...Любимая, мать моего Мемеда!
Один из дедов, наших дедов,
польский эмигрант 48 года.
Может, поэтому вы так похожи, обе тонкобровы и красивы,
ты и эта женщина из Варшавы?
Может, потому у меня рыжие усы
и глаза у нашего сына такой северной голубизны?
Не потому ли эта равнина
так похожа на равнины нашей страны?..
Из Польши пришел он, дед нашего деда.
В глазах – мрак пораженья, волосы в крови.
Должно быть, бессонные ночи Ворженьского
похожи на бессонные ночи мои.
Может, так же, как я, каждым дыханьем
запах родины он вдыхал,
хоть знал, что там ждет тюрьма.
И мысль, что ее не увидит больше,
так же сводила его с ума...
Милая, где, когда сражалась свобода
и поляк не был в первых рядах?..
Он вспомнит всех, польских героев борьбы за свободу – волонтеров, павших в войне за освобождение американских негров, генерала Бема, сражавшегося в венгерской революционной армии против царских войск, Ярослава Домбровского – генерала Парижской коммуны, Феликса Дзержинского, генерала Сверчевского-Вальтера, который дрался под Мадридом и под Москвой, героев борьбы за народную Польшу. «Теперь скажи мне, любимая, могу ли не гордиться, что наш предок по крови был поляк?»
И когда Мюневвер, обманув бдительность полиции, вырвется из Турции, Варшава станет второй родиной для нее и их сына Мемеда, как Москва стала второй родиной для него самого...
На пятый день голодовки приехала Джелиле-ханым, Долго смотрела утратившими свет глазами на его пожелтевшее, истончившееся лицо. Она не стала говорить ни о голодовке, ни о том, что делается за стенами тюрьмы. Не спуская глаз с его лица, не отнимая руку, которую он положил к себе на лоб, она рассказала, как прибирает свой дом, готовясь к его приезду: они с Мюневвер, конечно, будут жить у нее, хотя бы первое время?!.
Как он гордился своими женщинами! Матери делают человека человеком, жены делают мужчину мужчиной. Он их творенье. Всем, что он ямеет, он обязан им...
Ему уже было трудно говорить.
Чтоб не утомлять его, Джелиле-ханым собралась уходить. Он протянул ей листок со стихами:
На пятый день голодовки
Братья мои,
я с трудом подбираю слова,
чтобы высказать все, что хочу,
вы простите меня:
я слегка опьянен, и кружится моя голова -
не от водки, от голодовки.
Братья в Европе, в Америке, в Азии,
я сегодня далек от тюрьмы и от голода -
майской ночью лежу на лугу,
над моей головой ваших глаз ослепительно яркие звезды
и в ладони моей ваши руки, словно одна:
как рука моей матери,
как моей милой,
как жизни самой рука.
Братья мои,
знаю, вы никогда не бросали меня одного,
ни меня, ни мою страну, ни мой народ.
И за то, что вы любите нас так же, как я вас люблю,
спасибо, братья мои, я вас благодарю.
Братья мои,
не хочу умирать, но, если прядется,
все равно буду жить среди вас,
в стихах Арагона -
в той самой строке, что расскажет о будущих радостных днях, -
в белом голубе Пабло Пикассо,
в песнях Робсона и -
это важнее всего и прекрасней -
в победоносной улыбке марсельского докера.
Братья мои,
по правде сказать – я счастлив, как никогда.
Когда, проводив Джелиле-ханым, Ибрагим вернулся на майдан, его окружили арестанты.