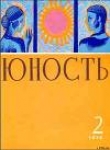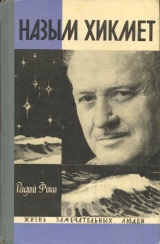
Текст книги "Назым Хикмет"
Автор книги: Радий Фиш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
В голосе его были дружелюбие и симпатия. Он и в самом деле любил флотскую молодежь: все вокруг шло прахом, только на них, на этих ребят, верящих в справедливость и честь, была надежда.
В ответ раздалось несколько голосов одновременно.
– Я ничего не слышу, господа. И потом толпа отнюдь не лучший вид флотского строя. Прошу построиться и высказать все, что вы желаете, по порядку!
Ничего другого не оставалось, как встать в строй. Когда порядок был восстановлен, начальник сказал:
– Я слушаю вас!
Команда растерялась. Кое-кто решил пойти на попятный.
– Ложек, вилок не хватает на камбузе!
– Люльки обрываются! Интенданты разворовали концы!
Дело принимало комический оборот. Бунт из-за ложек!
Назым сделал шаг вперед. Приложил руку к бескозырке.
– Мой миралай! В Стамбуле бесчинствуют иностранные солдаты, в Анатолии идут бои, а вы выдаете нам учебные винтовки...
Его поддержал мичман Джевад:
– Мы требуем, чтоб нам дали возможность сражаться!
– Я доложу о ваших требованиях везирю! – пообещал миралай. – А сейчас прошу вахтенных занять места и разойтись...
На следующий день на столах было разложено по две ложки и по две вилки на каждого. Люльки подвязаны новыми концами. А через неделю перед обедом сыграли сбор.
Ярко светило солнце, пробивая лучами сине-зеленую, как Изразцы бурсских мечетей, воду Мраморного моря, сверкало на меди горнистов, на желтых надраенных пуговицах мундиров.
Начальник прочитал приказ. Под звуки горна и барабана Назыму, Джеваду и еще троим вручили свидетельства об увольнении с действительной службы. Так закончилась его военная карьера...
Во времена султана за выступление в защиту независимости и бунт на военном корабле он был отчислен из флота, а в годы независимой республики его осудили на двадцать восемь лет тюрьмы по лживому обвинению в подстрекательстве военных к мятежу. То была расправа, а не суд. Но почему именно такой предлог был выдуман для расправы? Здесь была какая-то чудовищная издевательская ирония...
Назым вскочил с табуретки. Джелиле-ханым с кистью в руке поглядела на него поверх очков. На расстоянии она видела еще хорошо.
– Ну, что ты за непоседа, Назымушка! Десяти минут не можешь на месте высидеть!
Путаясь в полах длинной, как халат, шинели – на ветру было все-таки еще свежо, – он встал у нее за спиной. Бросил взгляд на портрет.
– Ну что? Опять не по-твоему? Не нравится? – грустно спросила Джелиле-ханым.
– Не в том дело, мамочка, нравится или не нравится. Не могу никак объяснить – тебя привлекает красота и ты ее копируешь, а живопись не копия действительности...
– Что поделать, Назымушка, если я люблю красоту? Разве это так скверно?
– Ну как мне лучше это сказать?.. Я думаю, что портрет прекрасной женщины, конечно, прекрасен. Но так же прекрасен может быть и портрет крестьянки Айше, желтой от малярии и худой от голода, как скелет. Вот погляди на Махмуда из камеры голых... Минуточку!..
Он сорвался с места и побежал к себе в камеру. Джелиле-ханым осталась одна перед портретом на мольберте.
На майдан погреться на солнышке выползли два арестанта из той самой камеры голых № 72, о которой говорил Назым. Один – громадный, как скала, – его так и звали Скала, другой – остроносый, с бегающими глазками, по тюремному прозвищу Скверный. Оба грязные, в лохмотьях, заросшие.
Скверный не отрывал глаз от бетонных плит – найди он окурок, можно поставить его на кон. Авось за окурок выиграет пять, за пять окурков – сигарету, а там, глядишь, целую пачку. Пачка – уже капитал.
Скала первым заметил старую женщину в черном. И застыл от изумления. «Прости меня, аллах, – пронеслось у него в голове. – Старуха, а пишет образа, грех-то какой». Он и не заметил, что проговорил эти слова вслух.
Как большинство крестьян, он с детства помнил наставления муллы: изображать животных, а тем паче людей – дело неверных. Гяуры поклоняются этим картинкам. Не знают, грешники, что поклоняться можно только аллаху.
Скверный, услышав его слова, очнулся. Оба подошли по-бчиже.
– Смотри, точь-в-точь Назым-баба [14]14
Баба – отец.
[Закрыть]!
– И волосы. Ну словно вылитый!
– Глаза голубые!
– Старуха на мусульманку похожа, а гяурским делом занялась!
– Вот, Скала, язви твою веру, – вдруг взъелся Скверный, – голова у тебя и впрямь камнями набита! Да это же мать Назыма-баба, невежа ты этакий!
На майдане показался Назым с картиной под мышкой. За ним надзиратель Талиб. Обитатели камеры голых растаяли бесшумно, как тени.
Назым, показывая матери портрет, продолжил дискуссию. Помогал себе жестами – рукава летали по воздуху.
Надзиратель, заинтересованный, о чем спор, встал за спиной Джелиле-ханым.
– То есть я хочу сказать, – говорил Назым, – что мало копировать природу. Надо вкладывать в картину что-то от нас самих, от нашей жизни...
Спор этот у них был давний. Не отражать мир, а, изображая, способствовать его изменению – вот чего добивался Назым от искусства. Рисовать закаты на Босфоре, где солнце окунается в розовое повидло, – все равно, что писать о соловьях и розах, когда в Анатолии люди живут, как вот эти двое из камеры голых.
Когда речь шла о поэзии, Джелиле-ханым безропотно соглашалась с сыном – он подкреплял свои мысли практикой. Но в живописи, как мастер, она была сильней Назыма. Он знал, чего хочет, но осуществить свои желания в линиях и красках не мог с достаточной убедительностью. А не будучи убежденной, Джелиле-ханым не могла с ним согласиться – не таков характер.
Назым был весь в нее. Коса нашла на камень.
Чувствуя, что его картины не убеждают мать, Назым приводил в пример Сезанна, Пикассо. Но Джелиле-ханым считала, что они, пытаясь вложить свои мысли о мире в картину, искажают мир, разрывают его на части и грешат против правды. Но что такое правда в живописи?..
Эх, будь здесь Абидин, он, может быть, сумел бы показать, в чем дело. Абидин, Абидин, как мало они виделись, а ведь в искусстве они как молочные братья...
Абидина он помнил молодым, нескладным, длинным. Руки как ветки. Умные, зрячие, они, казалось, жили своей, отдельной жизнью.
Назым и Абидин сразу поняли друг друга и оценили.
Абидин учился в Ленинграде. Работал художником на киностудии. Вернувшись в Стамбул зрелым мастером, гордился тем, что был художником-гримером Щукина в фильме «Ленин в Октябре». Уже тогда он пробовал самое трудное в живописи – изобразить время. Время, которое неотделимо от пространства.
Они встретятся с Абидином через девятнадцать лет. В Париже. Гитлеровцы, которые в тот день, когда Назым спорил с матерью, еще стояли недалеко от Москвы, будут давно разбиты, а Джелиле-ханым уже не будет в живых.
Скверный, Скала и десятки других заключенных из камеры голых умрут от голода, станут горстью костей. Но крестьянский сын Юрий Гагарин станет первым посланцем человечества в космосе. Назым приедет в Париж с Кубы.
Они сядут с Абидином у окна мансарды. Два пожилых человека, два молодых, как только что зажженный огонь, мастера. И будут, глядя на Сену, блестящую, как долька луны, говорить о своем ремесле. И тогда Назым напишет:
«Абидин умеет окрасить полотно
в цвета космических скоростей.
А я те цвета, как фрукты, ем.
И Матисс – космический фруктовщик,
и наш Абидин, и Авни, и Левни.
Какие краски мы видим в микроскоп!
Какие цвета в иллюминаторы ракет...
На холсте Абидина я вижу, как бежит и петляет время, и могу поймать время, как могу увидеть и поймать рыбу в воде.
Вот груша, вот космос, вот лицо человека. Вот груша, вот космос и лицо человека, которые были до меня. Вот те, что будут после меня.
Нынче утром я вернулся с Кубы.
Там на площади шесть миллионов – черный, белый, мулат -
с песней, с пляской сажают светлые зерна, зерна зерен.
Абидин, ты сумеешь написать это счастье?
Но без легких решений!
Не ангелоликую мать, кормящую розовощекого сына,
и не яблоко на скатерти белой,
и не красную рыбку, аквариум, пузыри водяные!
Абидин. ты сумеешь написать настоящее счастье,
то есть Кубу 1961 года?
Ты сумеешь, маэстро, нарисовать,
чтобы всем было ясно:
слава богу, я дожил, теперь умирать не обидно...»
Но до этого еще действительно нужно было дожить. Все, что написано в тюрьме, лежало в тайниках. «Человеческая панорама» еще не была завершена даже в его собственной голове. Не легли на бумагу сотни строк «Писем из тюрьмы», не существовало трагедий «Об Иосифе, продавшем своих братьев», «О Ширин, Ферхаде и Железной Горе»...
Нет, не просто дожить – пробиться сквозь стены словом, подобно тому, как Ферхад киркой пробивался к воде сквозь Железную Гору, – вот что еще предстояло, прежде чем они встретятся с Абидином в Париже...
Во двор вошла группа арестантов, которые работали в городе. Среди них Рашид. Он отбыл две трети срока. После этого заключенным разрешалось работать вне тюрьмы, и остаток срока сокращался наполовину. Рашид, конечно, хотел выйти скорей из тюрьмы, хотя именно здесь, в тюрьме, он нашел то, чего ему не хватало на воле, – учителя, мастера, друга, познакомился с политэкономией и французским, мировой поэзией и научным социализмом. Нашел самого себя.
За год до выхода на волю он начал писать рассказы. Как-то показал свои пробы пера учителю. Назым пришел в волнение. «В тебе закваска настоящего прозаика... Никогда не думал о том, как пишутся рассказы? Тем лучше. Не будешь повторять других...»
Рашид подошел к Джелиле-ханым, поцеловал ей руку и приложил ко лбу. Так по народному обычаю выражают почтение к старшим.
Назым тут же вовлек его в спор.
– Погоди, я принесу сейчас портрет Ибрагима из-под Картала. Ты знаешь его историю и поймешь, что я имел в виду...
Он снова умчался в камеру. А Джелиле-ханым беспомощно поглядела на Рашида.
– Парень безумен, ей-богу!.. Поглядите, отличный портрет. Ну что ему не нравится?..
...Глядя сейчас на портрет Назыма, написанный Джелиле-ханым в тюрьме города Бурсы весной 1942 года, я думаю, что, пытаясь доказать свою мысль, сын был несправедлив к матери.
Тюрьмы на портрете, ее стен не видно. Но есть ее запах, стойкий, кислый, казенный: он в мятой серой рубахе, трагических морщинах у рта, в поднятом круглом воротнике халата-шинели. Этот круглый воротник за спиной не венец мученика, а глухота непонимания, глухота заключения. В чуть наклоненной голове, в мощной шее – печаль и упорство. Как у вола в ярме. В глазах – тоска и одна неотступная мысль...
Вечером после второго удара гонга, когда с обычным скрипом задвинулись засовы камеры и стал стихать бесконечный гул тюрьмы, прорезываемый свистками надзирателей, Назым и его напарник по камере уселись на койках и долго смотрели друг на друга, не произнося ни слова.
Самое трудное время года в тюрьме – весна. Особенно когда задует лодос.
Он поднялся под вечер. Тяжелый, влажный, нагруженный запахами морской соли, просыпающейся земли. Ударяясь о запертые двери, бился между тюремных стен. Где-то зазвенело разбитое стекло. Скрипели деревья. Весна!
Не только птицами – людьми тоже овладевает желание сменить если не жизнь, то место. Куда-то уехать, кого-то обнять. Брести по полям, покуда держат ноги, сидеть у костра, под небом.
А здесь, в этом городе без улиц, вместо неба потолок, изученный до последнего пятнышка. Стены – справа, стены – слева. Холодные, толстые, глухие. На единственном окне – решетка. А за ней тьма как пропасть.
И в каждой камере сомкнутые или открытые, полные тоски глаза людей, пытающихся уйти хотя бы во сне. И ветер, тяжелый, влажный ветер, наваливающийся на стены, как волна. Лодос.
Они встретились глазами.
– Черт побери… Еще двадцать три года, – проговорил Назым.
Рашид опустил глаза. Он-то, если ничего не случится, через год будет на воле.
Навым растянулся на койке. Взял книгу. Это был один из детективов Агаты Кристи... Не читалось. Отложил в сторону, уставился в потолок.
Да, он часто бывал несправедлив к своей матери, которая дала ему жизнь, овой характер, свое сердце.
29 марта 1938 года,
Анкара
Мамочка!
Как это ни горько, я осужден на пятнадцать лет... (Пятнадцать лет...Это после первого процесса, а был еще и второй! – Р. Ф .)... по делу, похожему на дело Дрейфуса. Я подал апелляцию – ведь эти пятнадцать лет мне дали, несмотря на то, что за мной нет никакой, даже самой малой вины перед законом. Как ты говоришь, дай-то аллах, чтоб апелляционный суд исправил эту явную судебную ошибку. Не отчаивайся, надежда еще есть.
Если и она окажется напрасной, что поделать, мамочка! Придется отбывать наказание за неведомую мне вину, о которой я и представления не имею. Если это развитое тело выдержит пятнадцать лет, на свободу выйдет пятидесятидвухлетний инвалид. Пожелай же, чтобы я не дожил до этого дня. Уж лучше подохнуть в тюрьме, чем вылезти на свет пятидесятилетним калекой с потушенным разумом.
Я очень по тебе соскучился. Хоть бы раз еще увидеть тебя на этом свете. Если можешь, немедленно приезжай в Анкару. Здесь тебе есть где остановиться. Сможешь два-три раза со мной повидаться. Жду тебя, мамочка!..
...Как мог он такое написать матери! Положим, тогда, после первого приговора, который был для него неожиданней грома с ясного неба, он душой еще был на свободе, не привык. И все же вот он жив – и выдержит долго. Выдержит то, что казалось невозможным ему тогда, пять лет назад...
Чего бы он хотел сейчас больше всего?.. Очутиться в Стамбуле. В своем доме, устроенном по-своему, вот этими руками. Вечером выйти с женой и Мемедом на улицу, зайти в кабачок Барбы, сесть друг против друга, пить ракы и смотреть на Пирайе, а сын чтоб сидел рядом, задавал им вопросы, ел с их тарелок. За это, только за это немыслимое счастье он отдал бы десять лет жизни, нисколько о них не жалея... Он хотел было сказать об этом Рашиду, но вспомнил, что уже говорил, такими же самыми словами...
Назым приподнялся на постели. Очнувшимся взглядом поглядел на товарища. Тот сидел, по-прежнему опустив голову, тихонько постукивал пальцами по колену.
Назым поискал трубку. Набил ее табаком, раскурил и сквозь клубы дыма еще раз встревоженно поглядел на Рашида.
– Да брось ты, братишка... Знаешь что? Достань-ка эту самую... тетрадку по французскому... Раз ты стал писать прозу, надо читать Мопассана, Бальзака в подлиннике...
Рашид промолчал. Нехотя вынул из-под подушки тетрадь в желтом переплете.
Они занимались около часа.
Назым встал. Надел пижаму в красную полоску. Повесил над головой японские часы, купленные вместе с Пирайей в незапамятные теперь времена на проспекте Бейоглу в Стамбуле. Залез под одеяло. Сверху накинул халат и укрылся с головой.
Рашид решил еще поработать – все равно не уснуть сегодня. Хорошо бы закончить рассказ, начатый еще на прошлой неделе: надо выйти из тюрьмы с книгой под мышкой.
Прошел еще час.
Лодос выл и бушевал по-прежнему.
Вдруг Назым вскочил, отшвырнул одеяло и, щуря спросонья голубые глаза, попросил:
– Дай-ка карандаш!
Рашид протянул карандаш. Назым что-то нацарапал на стене в изголовье. Вернул карандаш и снова накрылся с головой. Рашид тихонько встал, подошел на цыпочках. Прочел:
На самой одинокой волне
пустая консервная банка...
Часы над головой Назыма показывали два часа ночи. Лодос продолжал свою гигантскую работу...
Весь следующий день до обеда Назым мотался по коридору. То удалялся, то приближался стук его деревянных сандалий по бетонным плитам. Он бормотал, прищелкивал пальцами, отбивая ритм. Натыкался на дверь. Заходил в камеру, словно что-то ища. Невидящими глазами обегал стены. Снова выходил в коридор...
...В Батуме в 1922 году, в гостинице «Франция», они с Валей Нуреддином ночевали в номере у профессора Ахмеда Джевада, а работали, спорили и обедали у себя, на втором этаже. Впрочем, жили они коммуной, так что где у себя, где не у себя, трудно было разобрать. Назым по своей привычке слагал стихи на ногах. В номере было много народу. И он выходил на балкон. Топтался взад-вперед, бормотал, размахивал руками.
Старая аджарка в доме напротив давно обратила на него внимание. Однажды он что-то уж слишком яростно жестикулировал – очевидно, стихи были боевые.
Соседка прибежала к портье.
– Скорей подымитесь наверх. Как бы ваш постоялец не выскочил на улицу с балкона. Такая жалость – молодой, красивый и умалишенный!..
С тех пор Назым не любил, чтобы во время работы за ним наблюдали со стороны. Но совладать с собой не мог – стихи забирали его целиком, а в тюрьме не спрячешься...
...Вечером он прочел Рашиду новые стихи:
...Наступает весна.
Дует лодос
свирепо и жарко.
Мы – числом нас шестьсот, -
мы – мужчины, лишенные женщин,
отобрали у нас
возможность зачатья.
Величайшая сила моя под запретом.
Запрещено мне коснуться, любимая, плоти твоей,
новую жизнь завязать,
смерть победить в плодородном лоне твоем,
сотворить с тобою вдвоем
и с тобою разделить
всемогущество бога.
Наступает весна.
Ночь.
И лодос.
Как он воет свирепо,
как жарко.
Где-то снова разбилось стекло -
третье за ночь.
И у камеры где-то пустой незакрытая дверь
бухает, бухает, бухает...
Глава, в которой Нум Ха учится в КУТВе, организует МЕТЛУ, пишет ПЭК и сотрудничает в ПРОМДе
Когда в канун нового, 1926 года Назым появился в Москве, за ним был уже опыт подполья, правда недолгий, попытка организовать в Измире тайную типографию, правда неудачная, и заочный приговор на десять лет тюрьмы, которые он, правда, не собирался отбывать. Он чувствовал себя опытным революционером и старым москвичом.
Тверская, главная улица Москвы, была и главной улицей в его здешней жизни. Она мало изменилась за эти четырнадцать месяцев, что он провел на родине, В ее начале, в Охотном ряду, все так же помещалась «Синяя блуза». Здесь Назым был частым гостем и желанным автором.
Чуть повыше Охотного, на правой стороне, среди магазинов и лавок, в небольшом приземистом здании все так же работал на полный ход кавказский ресторанчик. А еще выше, наискось от трехэтажного здания Моссовета, над бывшей булочной Филиппова, был отель «Люкс». Все номера его были отданы революционным эмигрантам пяти континентов. Кто только не находил здесь пристанища! Немецкие коммунисты Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт, поэты Эрих Вайнерт и Иоганнес Бехер, французские социалисты Суварин и Дорио, финн Тойво Антикайнен, иранский поэт и революционер Лахути, индусский драматург-коммунист Эс Хабиб Вафа, Пальмиро Тольятти из Италии (тогда он был известен под кличкой Эрколи). Большинство постояльцев жили под вымышленными именами – на родине им грозила тюрьма или даже смерть. Многие и погибли под этими именами.
В отеле «Люкс» летом 1922 года, проехав через голодающее Поволжье, Украину в составе «социальной семьи» профессора Ахмеда Джевада, Назым провел свою первую ночь в Москве. За одиннадцать суток на крышах и в переполненных вагонах они оборвались, завшивели. В «Люксе» первым делом отправились в ванну, сменили белье.
Назым поместился в одном номере с Валей Нуреддином. Хотя до вечера еще было далеко, они тут же завалились спать. Оба еле держались на ногах от усталости.
Не прошло, однако, и пяти минут, как Валя разбудил На-зыма и вызвал горничную: по его подушке ползали насекомые. Между тем назымовская была чиста как снег.
Валя сменил постель, тюфяк. Снова улегся.
– С богом! Надеюсь, теперь-то я высплюсь!
– Выспишься, Валя! В конце концов ты не питомник для вшей!
Только задремали – звонок. Валя в ужасе стоял посреди комнаты в одном белье: опять вылезли, проклятые. Откуда только они берутся? А у Назыма – ни одной.
Принялись вместе с горничной обшаривать номер. Оказалось, Назым, сменив белье, связал его в узел и пинком засадил под кровать Вали. Пришлось переселяться в другой номер, а этот отдать во власть дезинсекторов.
Они проспали двадцать часов подряд. Спустились в столовую только на следующий день, к обеду. Принялись изучать пеструю компанию постояльцев, среди которых они так нежданно-негаданно очутились.
Назым не удивлялся: Москва была центром мировой революции, естественно, что здесь собрались революционеры со всех концов света. Ведь и они сами тоже приехали сюда из Анатолии, чтобы научиться делать революцию и поскорей вернуться домой.
Здесь, в «Люксе», они познакомились с двумя сестрами – Лелей и Шурой, которые на первых порах были прикомандированы к «социальной семье» профессора в качестве переводчиц.
В гостинице собирались поэты и писатели. Читали стихи, спорили на странном языке из английских, французских, немецких и русских слов. В номерах «Люкса» Назым впервые услышал имена Есенина, Блока, Хлебникова, Сельвинского, Багрицкого.
От гостиницы «Люкс» до Страстной площади – рукой подать. У памятника Пушкину на Тверском бульваре, где зимой пахло свежим снегом, а осенью прелыми листьями, словно перебродившим вином, Назым подолгу сидел, собираясь с мыслями, глядел на открывшийся ему иной мир, сочинял стихи.
На этой же площади рядом с монастырем помещался их КУТВ – Коммунистический университет трудящихся Востока. Когда-то это старинное здание – ныне оно вплотную прижато к громаде «Известий» – видело в своих стенах Пушкина, Грибоедов обессмертил его в «Горе от ума».
Перед революцией здесь был голландский банк. В кабинете бывшей дирекции, под потолком, усыпанным лепными звездами, поселили их «социальную семью» после «Люкса». Потолок был в звездах, но вся мебель состояла из одного огромного письменного стола. Потом принесли железные кровати.
В дирекции бывшего голландского банка Назым сложил последнюю строку в размере хедже, которым писал с пятнадцати лет: «Как скелет огромного животного, стоит письменный стол...»
В витринах Тверской висели плакаты, призывавшие оказывать помощь голодающим, фотографии таких же опухших от голода людей, каких они видели под Ростовом из вагонного окна.
Голод, повсюду, где пролегал его путь, свирепствовал голод. В оккупированном Стамбуле, в деревнях Анатолии, похожих на стоянки пещерного человека. В Батуме, где деньги падали в цене каждый час и каждый час дорожали продукты, в Поволжье.
В тот вечер, когда их переселили в здание КУТВа, Назым написал свое первое стихотворение на московской земле: «Зрачки голодных».
Не единицы от голода стонут,
тридцать миллионов,
30 000 000!!
Боль и безумье
во взгляде голодных,
отданных смерти живьем!..
Эй ты, субъект,
стоящий поодаль,
не тронутый горем народным,
с презреньем
глядящий на тех, кто отдал
сердце свое голодным, -
знаю отлично,
что ты за гусь!..
Это были стихи и об Анатолии и о Поволжье. О всех голодных в мире, которым отныне принадлежало его сердце. Это оно, сердце, привело внука паши из дедовского особняка в Ускюдаре в Анатолию, из Анатолии – в Москву...
Рядом с КУТВом, в здании кинотеатра «Ша нуар» – «Черный кот» – разместился университетский клуб. Тут, на углу Тверской и Страстной площади, Назым ставил свои первые драматические опыты. Актеры в драмкружке КУТВа были самых разных национальностей. И едва понимали друг друга. Еще меньше поняли бы их зрители. Оставался единственно возможный театральный жанр – пантомима. И Назым писал пантомимы.
Еще в Батуме он увидел на афишной тумбе плакат, изображавший социальную пирамиду. На самом верху ее сидел царь, под ним – сановники, внизу – согбенные под тяжестью – рабочие и крестьяне.
Плакат был понятен и без подписи: падишах сидел на вершине такой же пирамиды, основанием для которой служили босые, оборванные крестьяне Анатолии. «Пирамида» стала темой его первой пантомимы...
Если идти по Тверской дальше, то на углу Триумфальной площади, там, где теперь стоит зал Чайковского, в здании бывшего казино играли Первый театр РСФСР, руководимый Мейерхольдом, и Пролеткульт.
Мейерхольдовцы шефствовали над КУТВом. Кутвовцы – над театром Мейерхольда. В пьесе «Рычи, Китай!» Сергея Третьякова по сложным конструкциям бегали десятки китайских студентов КУТВа.
Мейерхольд стал любимым режиссером Назыма: он переделывал театр наново, так же как Назым мечтал переделать турецкую поэзию, а заодно и весь мир.
Драмкружком КУТВа руководил актер и режиссер мейерхольдовского театра Николай Экк, человек необузданной и в то же время логической фантазии, вспыхивавший, как порох, и деловито бравшийся за самые грандиозные предприятия.
В первые дни нового, двадцать шестого года Назым пришел к Экку на Арбат. Теперь он был не студентом, а переводчиком КУТВа.
– Вот так новогодний подарок! – обрадовался Экк. – Жив! Здоров! Ну рассказывай! Рассказывай!
– Что рассказывать? Рыли типографию – не дорыли. Хотели повесить – не повесили. Вот я и опять среди вас, ребята, – говорил Назым, обнимаясь с Экком и его женой, актрисой и драматической писательницей Региной Янушкевич. – Есть дела поважней, чем воспоминания. Не считаешь ли ты, дорогой Ю, и вы, Регина, что пришла пора создать свой театр и заткнуть за пояс и Камерный, и МХАТ, и самого мастера? У меня есть ряд идей – накопилось, пока сидел в будке и рыл землю для типографии...
Вскоре в помещении бывшего «Ша нуар» появился новый театр. После долгих споров его назвали МЕТЛА.
В те годы сокращения были в ходу. МЕТЛА – означало: Московская Единая Театральная Ленинская Артель. Руководили театром Ю, Янушкевич и Нун Ха.
Нун Ха – таков был псевдоним Назыма Хикмета в те московские годы. Это первые буквы его имени в арабском начертании: латинский алфавит в Турции в то время еще не был введен.
Сокращения должны были экономить время и избавить людей от ненужной церемонности. Экк именовался Ю. И не только из любви к Китаю, где в те годы ширилась антиимпериалистическая революция, а еще и потому, что две первые буквы его фамилии сливались в факсимиле в одну – «ю».
У Назыма же были и другие причины, по которым он избегал выступать под собственным именем, – он стал профессиональным революционером, а Турецкая компартия была загнана в подполье. Валя Нуреддин – неизменный друг его детства и юности – стая называться Ва Ну. Но в отличие от Назыма сохранил этот псевдоним до конца своих дней.
Революционные художники того времени не любили слова «творчество». В нем слышалось что-то церковное – творцом был господь бог, и не к лицу им, призванным в искусство революцией, именовать себя творцами, подобно гривастым поэтам начала века, вещавшим истины под напором неизвестно откель снизошедшего вдохновения.
Они были рационалистами, материалистами – их планы переустройства мира основывались на трезвом расчете и строго научном предвидении. Они не творили, а работали. Владимир Маяковский недаром назвал свою статью о поэзии – «Как делать стихи?». Поэзия ставилась в ряд с любой другой производственной деятельностью, строго организованной и продуманной.
Стремление проникнуть разумом в самые глубокие тайники поэтического труда, сознательное отношение к мастерству, пусть выраженное в те годы еще по-юношески наивно, вели Назыма вперед и вперед всю его жизнь. И часто, когда читатели и критики полагали, что составили себе окончательное мнение о его поэзии, он выступал с новым произведением, которое опровергало все прежние оценки.
Такие резкие скачки каждый раз бывали вызваны не желанием высказаться пооригинальней, а изменениями в самой жизни, которые он, как всякий богато одаренный художник, чувствовал и понимал острее и раньше других...
Естественно, что и свой театр они назвали не творческим коллективом, а артелью. Они были мастеровыми революционного искусства.
Во многих московских театрах тех лет на актерах были не костюмы, а прозодежда. Занимались они не сценическим движением, а биомеханикой. Спектакль назывался показом, а концерт – отчетом. На сцене стояли не декорации, а конструкции. И художник звался автором конструктивной установки. Студии именовались мастерскими, а художественный руководитель – мастером.
Мастером, о котором Назым упомянул в разговоре с Экком, был, конечно, Всеволод Эмильевич Мейерхольд.
Итак, МЕТЛА – свое помещение, свой театр. Что же собирались делать его создатели? Выметать. Выметать сор «психоложеского», по выражению Маяковского, театра. Создавать новые формы агитационного сценического искусства.
Николай Экк и Назым Хикмет искали «средства для наилучшего выражения фактов современности». Они пробовали цирковое антре, приемы русского народного балагана, театра импровизации, пантомиму, кино, формы народного турецкого театра Карагёз.
Первым спектаклем, поставленным в МЕТЛЕ, был ПЭК. За ним должны были последовать ВЭК и ТЭК, что расшифровывалось как Первый, Второй и Третий Эстрадные Комплексы.
Назым писал сценарий. Текст во время репетиций импровизировали сами актеры. Затем отбирался лучший вариант и закреплялся на бумаге. Молодые студийцы разных театров, мейерхольдовцы, студенты КУТВа были одновременно и соавторами пьесы.
«Комплекс» начинался очень популярной в те годы песней «Кирпичики». На тему этой песни и было сочинено обозрение. Рассказ о фабричной девушке перемежался с документальными кинокадрами и сценами из истории революции.
Одним из участников спектакля был юный студиец, а ныне известный советский драматург Исидор Шток.
Рассказывает Исидор Шток
В зрительном зале за режиссерским столиком сидели Экк и Назым. Назым был худ, высок, светлоглаз. У него были темно-рыжие, очень красивые волосы. Усы он то отпускал, то сбривал. Отрастали они очень быстро.
На сцене бегали мы – артисты этого театра, таскали ширмы, изображали то народ, разоружавший солдат, то солдат, стрелявших в народ, то буржуев, то рабочих. Среди других ролей – каждый играл их по нескольку – я играл раненого солдата и должен был умирать на поле боя. Но стонал я так неестественно, что Экк выгнал меня со сцены. Обиженный, я пошел в партер и сел рядом с Назымом. Он удивился:
– Почему ты, брат, не можешь стонать? Смешной человек!
А на сцене разворачивалась история бедной фабричной девушки. Баян играл «Кирпичики». Короткие сценки перемежались с кинокадрами на экране. Потом опять шли малохудожественные сценки. Мы взад и вперед таскали ширмы. Прожекторы бегали за нами. Баян наяривал «Кирпичики». В финале все кричали «ура» и снова пели «Кирпичики». Потом расходились по домам.
Публики на спектаклях становилось все меньше. Зрители острили: «На спектакле ПЭК в театре МЕТЛА все время показывают темноту». Задумано было все очень неплохо – затемнения, как в кино, быстрая смена сцен. Но техника была ужасной. То и дело случались накладки.
Назым был очень занят в КУТВе. Писал беспрерывно. Пьесы, стихи. На улице, дома, на заседаниях. Как графоман. Наши спектакли прогорели, нас выкинули на улицу. Мы стали играть по другим клубам – помещение МЕТЛЫ снова отдали под кинотеатр.
Впереди у нас были огромные работы. Назым и Экк решили создать две театральные многосерийные эпопеи.
Одна «Государство и революция», другая – «Империализм, как высшая стадия капитализма». Ни больше ни меньше. А пока Назым написал пьесу «Все товар». О горестной судьбе великого ученого в капиталистической стране. Буржуи погубили сначала дочь ученого, затем самого ученого, затем и его открытие – лекарство от туберкулеза. Владельцам туберкулезных больниц и санаториев оно было невыгодно.