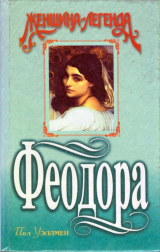
Текст книги "Феодора"
Автор книги: Пол Уэллмен
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)
– Скоро исполнится пятьдесят.
Феодора подумала, что он должен был находиться в самой гуще дворцовых событий, знать все тайны двора и на этой основе вырабатывать собственную линию поведения на протяжении, по крайней мере, трех десятилетий.
– И все-таки у меня по отношению к тебе остается какая-то предубежденность, – сказала она откровенно.
– С вашего милостивого разрешения мне кажется, я знаю ее причину, – ответил Нарсес. – Я – евнух. А евнухов вы не любите.
– Я не заметила, чтобы и они были доброжелательны ко мне.
– Я себя к таким евнухам не отношу, о прекрасная и великодушная.
– Что ты имеешь в виду?
– Если я и принадлежу к так называемым бесполым, вы можете считать, что я их предал, ибо мысли и желания у меня совершенно не такие, как у евнуха.
– Но, возможно, ты точно так же предашь и меня?
– Невозможно предать звезду, о славнейшая, которая горит надо мной – и к которой стремится моя колесница.
Феодоре показалось, что она отлично поняла этого худенького человека; даже более полно, чем позволяли его слова. В Нарсесе было что-то от ее собственного склада ума: амбициозность, отвага, стремление быть верным тому, кто прокладывает путь наверх.
– Я полагаюсь на тебя, Нарсес, – сказала она.
– Я не заслуживаю этого, о лучезарная, но сделаю все, что смогу.
Получив последние указания, выяснив все обстоятельства порученного дела и с достаточной суммой денег, врученной ему Феодорой, он откланялся и удалился.
На следующий день он покинул Константинополь.
Отец Поликрат стоял в охраняемом приделе собора, где проводилось тайное совещание иерархов церкви, разглядывая духовных сановников, сидевших полукругом перед ним, каждый со своим помощником. У каждого из помощников было перо за ухом, а на коленях – папирусный свиток. В центре на высокой седилии располагался Гипция, преподобный патриарх.
– Я могу сообщить следующие факты, святые отцы, – начал монах. – Они получены из надежного источника. – Сам источник он не назвал: им был Иоанн Каппадокиец, которому известно практически все, что происходит во дворце. – Нарсес, картулярий, был вызван из архива личным распоряжением наследника Юстиниана. Ему было велено явиться к Феодоре. Затем картулярий не менее часа находился с этой женщиной наедине. Прошлой ночью Нарсес отплыл на корабле «Мантос», который направляется в Александрию.
Он выдержал паузу.
– Учитывая, что поручение исходит от этой женщины, а целью поездки является Александрия, это гнездо еретиков-монофизитов, я посчитал целесообразным вынести вопрос на рассмотрение синклита.
В приделе возник беспокойный шум.
– А что тебе ведомо о сути поручения? – спросил Гиппия.
– Ответ знают только три человека, ваше святейшество. Это Юстиниан, Феодора и сам Нарсес. По моему скромному мнению, он является, скорее всего, послом от этой женщины к проклятым монофизитам.
Вновь в зале прошелестел шепот.
– Это зловещий знак, и с этим необходимо считаться, – продолжал отец Поликрат. – А поскольку именно Юстиниан приказал Нарсесу явиться к этой женщине, поручение, каким бы оно ни было, не только хорошо известно ему, но, боюсь, и поддерживается им.
Едва ли не все прелаты, собравшиеся в приделе, застыли в изумлении.
– Так ты считаешь, что эта женщина может отвратить Юстиниана от православия? – с ужасом спросил один из них.
– Я бы этого не сказал. Но такая возможность существует. Епископы и их помощники переглянулись.
– Кажется, дело зашло гораздо дальше, чем я предполагал, – заметил Гиппия.
Отец Поликрат молча смотрел на них, плотно сжав губы, с выражением величайшей суровости на лице.
Все подобные заседания синклита проходили в глубочайшей тайне. О предстоящем совещании знали только представители церковной знати и их приближенные.
Именно с этого дня церковь начала сеять недоверие к Юстиниану. Впрочем, никаких осуждающих наследника проповедей не читалось. Публично против него не было произнесено ни слова. Но зато по городу принялась шнырять горсточка священников и монахов, известных своим коварством и скрытностью. Где бы они ни появлялись, в головах православных верующих оставались намеки, смутные мысли и заставляющие призадуматься предположения. Поначалу вызванное ими брожение умов было почти незаметным. Но спустя некоторое время оно должно было вырасти как на дрожжах и стать значительным и грозным. Церковь, встревоженная новыми обстоятельствами, защищала себя.
Смерти императора Юстина ждали давно, но он все никак не расставался с жизнью. Он был очень дряхл и до того, как старческая немощь окончательно приковала его к постели, большую часть времени дремал, забывшись в кресле и опустив ноги на скамеечку, верх которой представлял собою нечто вроде мешка, подбитого мехом выдры, в который с тех пор, как ток крови в жилах императора замедлился, он помещал зябнувшие ступни. Даже жарким летним полднем он теперь кутался в теплую шерстяную накидку, наброшенную поверх царских одежд.
И вот настал момент, когда Юстин оказался не в силах подняться с одра. Весь он как-то внезапно высох, его глаза и щеки ввалились, лицо избороздила густая сеть морщин. Разве только нос, лоб да подбородок еще напоминали былые черты властителя. Когда же император выходил из состояния забытья, веки его складывались, словно кусочки пергамента, а глаза, водянисто-голубые, выцветшие от старости, неотрывно и невидяще сверлили потолок.
На ноге императора образовался отвратительный свищ, и эта гноящаяся рана постоянно требовала заботы лекарей, опасавшихся антонова огня[66]66
Антонов огонь – гангрена
[Закрыть]. Но еще больше хлопот доставляло кормление: Юстин, прежде обладавший могучим аппетитом, теперь уподобился капризному дитяти, наотрез отказывающемуся от пищи.
Феодора была одной из немногих, кому удавалось уговорить старика проглотить прописанную лекарями снедь – жидкую кашицу из кунжутной муки, сдобренную сывороткой ослиного молока и подслащенную каплей меда. Выглядело это месиво не слишком аппетитно, и Феодора не винила императора, что тому оно не лезет в горло. Но доктора велели есть, коли хочет жить. Вот она и проводила возле Юстина немало времени, улыбаясь ему, придумывая мелкие хитрости, потакая капризам, словно тот и вправду был маленьким ребенком, чтобы в конце концов уговорить его отправить в рот пять-шесть ложек этой тепловатой кашицы.
Но вот настал момент, когда чаши весов заколебались. Император стоял на грани смерти. Он лежал неподвижно, почти не дыша, сложив поверх одеяла руки – от старости пальцы вытянулись, и сквозь дряблую кожу, там, где она натягивалась, просвечивали суставы. Лекари, печально сгрудившись у его изголовья, искали совета в Святом Писании, которое в те времена служило общепризнанным источником медицинских рецептов, особенно в случаях, когда медицинские трактаты никаких решений уже не предлагали.
Нарсеса не было несколько месяцев, и известий от него тоже никаких не поступало.
Потом однажды он внезапно появился во дворце Гормизды с отчетом.
Опасливо и осторожно он сообщил Феодоре, что выполнить ее поручение в Египте не удалось.
Но, к его удивлению, Феодора нисколько не разгневалась, а принялась подробно расспрашивать его.
– Мне кажется, о милосердная, что проникнуть в тайны монофизитов невозможно, – сказал он ей. – Если ребенок жив, а никто так глубоко в это не верит, как ваш преданный слуга, то он затерялся в нескончаемых еретических убежищах долины Нила. Там несчетное количество всяких богаделен, монастырей, храмов, обителей, келий анахоретов, не говоря уже о частных домах, в которых девочку могут содержать. Несмотря на все мыслимые усилия твоего раба, он так и не смог установить ни куда ее передали, ни даже каким именем нарекли.
Вслед за этим он представил ей настолько подробный и полный отчет, что Феодора окончательно убедилась в том, что этому евнуху-недомерку не занимать ни мужества, ни усердия, ни преданности.
Выслушав, она поблагодарила его, прибавив:
– Нарсес, никому ни слова о цели твоей поездки.
– Клянусь, ваша милость!
– Ты выглядишь изможденным, – отметила она.
– В Египте меня свалила лихорадка. Но я недостоин, чтобы ты снисходила до того, чтобы замечать такие мелочи. По правде говоря, я еще слаб после недуга, но не настолько, чтобы не быть готовым исполнить любое другое поручение, которое ты пожелаешь доверить твоему ничтожнейшему рабу.
И вновь он раскрывался перед нею, обнаруживая честолюбие, горечь своего положения и веру в нее. Феодора сказала:
– Ступай, отдохни. За труды тебя ожидает достойная награда. И вот что я тебе скажу: служи мне, а когда власть будет моею – тебе воздастся, я обязательно помогу тебе осуществить помыслы, о которых ты говорил и которые евнухам вовсе не свойственны.
– Могу ли я молиться о большем благодеянии! – прошептал он и низко поклонился.
– Тогда пусть будет так. И учти – то, что я предлагаю сейчас, ни в коем случае не соответствует тому, чего заслуживают твои способности. Но если ты серьезен в своих намерениях, оставь должность картулярия и поступай ко мне на службу. Дворецкий Дромон меня раздражает. Я поставлю тебя на его место, как только упрошу наследника перевести его на какую-нибудь другую должность…
Когда Нарсес оставил должность картулярия, чтобы стать дворецким в Гормиздах, при дворе это осталось совершенно незамеченным. Это было несомненным понижением по службе, и почета в этой должности было меньше, ибо место главы архива куда важнее, чем место управляющего второстепенным дворцом.
Но Нарсес и виду не подал, что чувствует, что его понизили. Кое-что ему было обещано, правда, женщиной, но такой, подобных которой он прежде не знавал.
Что касается Феодоры, то она, в сущности, от миссии Нарсеса ничего не ждала. Она отправила его в Египет скорее для того, чтобы утешиться в отчаянии, не веря в результат поисков.
На самом деле где-то в глубине души она надеялась на иное – зачать от Юстиниана еще одного ребенка. И как-то раз, в поисках путей исполнения этого невысказанного сердечного желания, она смиренно открылась перед неграмотным и бесхитростным настоятелем православного монастыря из Иерусалима, явившегося к ней за покровительством. Она просила его помолиться за нее, чтобы Господь даровал ей сына.
Суровый монах по имени Саба отказался. Покорно и печально она выслушала отказ, дала ему денег, которых он просил для монастыря, и велела принять его с гостеприимством. Впоследствии тот насмешливо заметил другому монаху, своему приятелю: «Нам не надобен плод из этого лона, чтобы вскормили его на еретических учениях Северия!»
Некоторых поразило, что Феодора не разгневалась на зарвавшегося монаха. Более того, в поисках утешения она с величайшим рвением обратилась к религии.
Утрата заставила ее слепо и покорно вверить себя провидению. В надежде постичь его предначертания Феодора при всякой возможности затевала беседы с людьми, которых полагала праведниками.
И вскоре распространилась молва, что отшельники, черноризцы, бродячие клирики, как бы они ни были грязны и оборваны, всегда желанные гости во дворце Гормизды, куда они могут свободно входить и откуда так же свободно могут уйти. Здесь они получали кров и пишу, много лучшую той, к которой привыкли, и посему слетались сюда как мухи.
От дворца было отгорожено целое крыло для нищенствующих праведников. Монофизитствующие и православные анахореты-затворники помещались вместе, без всяких различий, из-за чего между ними не раз вспыхивали ожесточенные свары. Обычно это были вздорные и злобные перебранки, дрязги. Однако случалось, что святые люди лупили друг друга палками или же в своих рваных и замызганных одеждах катались по полу, пытаясь вцепиться оппоненту в глотку.
Феодоре, когда ее звали в таких случаях, всегда удавалось остановить схватку, пригрозив преподобным отцам, что продолжение приведет лишь к тому, что их вышвырнут вон. И те, несмотря на фанатичную страсть к спорам, скрепя сердце удерживались от открытых баталий и лишь метали свирепые взоры друг на друга.
Любопытно, что при этом часть их негодования обрушивалась на благодетельницу, которой только что удалось остановить ожесточенное побоище. Более того, даже вкушая пищу Феодоры, чавкая и набивая рты, они поносили и хаяли ее.
А однажды некий палестинский отшельник по имени Арсений, осмелев более прочих, имел дерзость прилюдно честить гостеприимную хозяйку дворца, обвиняя ее в ереси. Она молча выслушала его, причем совершенно не изменившись в лице. Больше того, этот его благочестивый поступок настолько покорил ее, что она одарила сего пламенного витию деньгами.
После этого честить Феодору в среде святых бессребреников стало чем-то сродни поветрию. Зная о безнаказанности, они упивались собственной неустрашимостью и дерзостью, которые существенно перевешивали чувство признательности за то, что они от нее получали.
Православные чернецы обличали ее в ереси; отшельники-монофизиты корили за прошлое. Это стало чем-то вроде ритуальной забавы – выяснить, кто сумеет наиболее дерзко уязвить женщину, дающую им хлеб, кров и возможность вести праздный образ жизни. Обнаружив же, что их языки никто не укорачивает, святые нищеброды превзошли самих себя, изощряясь в злоязычии.
Феодора кротко выслушивала обвинения всей этой оравы оборванцев с дико горящими глазами, грязной, вонючей и заросшей.
Как она нуждалась в их благословении! Но несмотря на брань и хулу, она смиренно продолжала поить-кормить их в крыле дворца, специально предназначенном для этого, да так, что на немытых, но праведных боках многочисленных приживалов нарастал жирок от безгрешной жизни.
То, чего не смел сказать о ней никто другой, эти набожные трутни высказывали без какой-либо боязни. Таким образом Феодора, молча снося оскорбления и брань, исполняла епитимью, наложенную на себя, в надежде на искупление грехов, ибо верила, что именно из-за них лишилась детей, рожденных в муках тела и души.
ГЛАВА 23
Для мужчины не имеют слишком большого значения ни его внешность, ни его сложение; для женщины, однако, ее облик – это все.
Феодора рассматривала себя и находила, что стала непомерно худой, больше того – кожа да кости, и только. Вследствие душевных мук и физических страданий лицо ее осунулось, глаза ввалились, она совсем обессилела. Сомнений не было: необходимо заняться собою, или прощай красота, которую она ценила превыше всего.
У Юстиниана теперь появилась привычка вставать с петухами и после скромного завтрака приниматься за государственные дела. Феодора же валялась в постели до самого полудня. Потом поднималась, немного перекусывала – хотя всякий раз для нее неизменно накрывали ломившийся от яств стол – и приступала к омовениям. Ежедневно до пяти раз она принимала ванны, горячие и холодные попеременно; она верила, что, расслабляясь таким образом, холя и лелея собственную плоть, сможет восстановить ее гибкость и упругость.
Когда о том, что она проделывает это пять раз на дню, стало известно в городе – женщины из ее окружения оказались столь же болтливы, как и евнухи, – то большинству жителей столицы это показалось совершенно неправдоподобным. Вполне естественно, что в последующих россказнях и пересудах упомянутый факт был раздут досужими умами и приукрашен самыми невероятными подробностями – дескать, вода в купальне супруги Юстиниана искрится чистым золотом, другие же утверждали, что купается Феодора только в молоке белых ослиц.
На самом деле в этих купаниях ничего иного, кроме проявления здравого смысла, не было: ей следовало как можно глубже расслабляться, потому что ничто так не вредит красоте, как напряжение, а коль так, то всем известно – лучше всего его снимает именно вода. Что же касается еды, то ее нужно ровно столько, чтобы восстановить былые очертания фигуры, но не больше, иначе подвергнутся опасности изящество и грациозность; кроме того, не следует забывать о массажах, косметике и укладке волос – и все это с единственной целью вернуть привлекательность.
Феодора все еще была молода, а молодость способна творить чудеса. И очень скоро жизненные силы заиграли в ней, как и прежде, а вместе с выздоровлением возвратилась и радость жизни, и теперь, придирчиво глядя на себя, обнаженную, в одно из серебряных зеркал купальни, она не могла не отметить, что минувшие тяжелые и горькие времена оставили не так уж много разрушительных следов.
Ей хотелось произвести на свет еще одного ребенка, и это ее страстное желание, инстинктивное желание материнства, было сильнее всех прочих.
Но отцом такого ребенка мог быть только Юстиниан. И всю силу своего женского волшебства она направила на него: столь изысканно тонка была ее любовная игра, настолько она была обольстительна, всегда суля ему неописуемое блаженство, всегда разное, что страсть его не затухала, а вспыхивала с новой силой. Феодора же очень рассчитывала на то, что вновь сумеет забеременеть.
Но несмотря на все ее усилия, она так и не понесла; и постепенно в мозгу у нее укрепилась мысль, что, вероятно, ей уже не суждено зачать. То, что прежде, будучи куртизанкой, она считала величайшим достоинством, превратилось теперь в источник острого разочарования и обманутых надежд.
Тем не менее в часы долгих любовных игр с Юстинианом она достигла другого: настолько прочно овладела всеми его чувствами, что принц готов был служить ей как раб.
Случалось, Феодора подвергала Юстиниана маленьким испытаниям, посылая, например, великого принца, правителя могучей империи, с каким-либо ничтожным поручением, для которых имеются бесчисленные слуги. Эти прихоти он неизменно исполнял, хотя это и унижало его достоинство.
Иногда эта его готовность услужить раздражала ее, а случалось, что ей едва ли не становилось стыдно за него. В конце концов осознание того, что каждый ее каприз становится для Юстиниана законом, вызвало у нее нечто вроде легкой паники.
Если Юстиниан так легко подпадает под ее влияние, то не произойдет ли этого и в государственных делах? Не влияют ли на него так же и другие, возможно, во вред наследнику?
Она вспомнила об Иоанне Каппадокийце. В отношении этого человека она никак не могла повлиять на Юстиниана; даже зная о ее нелюбви к префекту претория, он упрямо отказывался удалить его от дел. Бывало, это злило ее. Но сейчас, в отсутствие других доказательств силы, Феодора едва ли не дорожила этим его отказом, усматривая в нем проявление твердости и воли. Но во всем, что касалось Юстиниана, преобладала одна мысль: никогда, никогда не сможет она отблагодарить его за проявленные к ней любовь и доброту. Какие бы неудачи его ни ждали, она всей душой будет преданна ему и его интересам.
Постепенно это породило новое чувство: полуосознанную любовь-привязанность, очень похожую на любовь матери к ребенку, не слишком одаренному и удачливому, а возможно, даже и ущербному. Большую часть своей нерастраченной любви к потерянным детям Феодора перенесла на возлюбленного.
Из друзей Юстиниана самыми близкими оставались Трибониан и Велизарий. Оба были холостяками, и Феодора видела их часто. При дворе, подобно поветрию, распространилась мода на чатранг, которому она научила старого императора. Впрочем, сам несчастный Юстин был теперь слишком слаб, чтобы по-прежнему играть в эту игру.
Когда приходили Трибониан и Велизарий, то обычно кто-нибудь из них садился играть с Юстинианом. Так они просиживали часами над клетчатой доской и фигурками, вырезанными из дерева и слоновой кости. В этом случае Феодора развлекала того, кто оказывался не у дел. Когда за доской сидели Юстиниан и Велизарий, а Трибониан не играл, беседа с ним была истинным наслаждением. Законник был светским человеком до мозга костей, а смелость Феодоры, ее женственность и язвительное остроумие возбуждали его изысканный ум и могучий интеллект.
Трибониан был, пожалуй, единственным мужчиной, который сдержанно относился к красоте Феодоры. То ли он был пресыщен, то ли настолько умело управлял своими чувствами, во всяком случае, каждый раз побеждало благоразумие. Всегда циничный, он тем не менее оставался безупречно галантным. Зная о Феодоре едва ли не больше всех, он вел себя так, словно никогда прежде не встречался с нею. В обществе Трибониана, хотя он и был развращен до крайности, она чувствовала себя спокойно и комфортно.
Но когда за доску с Юстинианом усаживался Трибониан и ей приходилось развлекать Велизария, все обстояло иначе.
В отличие от Трибониана, Велизарий распутником не был. Наоборот, он столько времени уделял делам службы, что на женское общество его уже не оставалось, и он никогда в жизни не хаживал на улицу Женщин, где молодежь традиционно утоляла свои нетерпеливые желания. Поговаривали – и Феодора могла в это поверить, – что Велизарий и вовсе был девственником.
Военачальник был настолько прям и бесхитростен, настолько неумело маскировал свои чувства, что зачастую приводил ее в замешательство своим откровенным восхищением. В его голубых глазах, обычно холодных, загоралось такое жгучее пламя, а голос настолько теплел, что она смущалась, и не только потому, что женщине в ней нравилась эта дань восхищения, но и потому, что ей это больше чем нравилось.
Феодора не могла не оценить силу этого человека, при этом испытывая привычное и совершенно неуместное искушение приручить эту гору каменных мышц. И хотя она знала, каким образом Велизарий поведет себя, если она даст ему хотя бы малейший повод, она также знала и то, что его восхищение еще не стало осознанным чувством. О, этой опасности она обязана избежать, ибо в ней таится гибель.
Испытав мгновенное искушение, Феодора поступила так, как поступает большинство женщин: выбросила эту мысль из головы. Потому что для нее времена безудержного кокетства остались в прошлом. Никогда не станет она осознанно поощрять соперника Юстиниана.
Так что, пока двое в дальнем конце покоя сидели, склонившись за шахматной доской, она, беседуя с Велизарием, всячески старалась направить разговор в безобидное русло, при этом не оскорбляя его чрезмерной холодностью. Когда Велизарий уходил, она порой сама поражалась, как ей удалось выпутаться из неловких и двусмысленных ситуаций, в которые он ее ставил. Ей не хотелось терять его дружбу, но не хотелось и чтобы полководец утратил расположение Юстиниана. Главная опасность, считала она, это его неопытность. Трибониан, привычный к женским уловкам и обольщениям, мог с улыбкой не обращать на них внимания. Но Велизарий, чувствующий себя свободно в толпе мужчин, в присутствии женщин становился неловким, застенчивым и стесненным. Нет нужды и говорить, что такой человек под воздействием могучего чувства, прежде незнакомого ему, вполне мог, не подумав, сболтнуть лишнее, а не то и учинить что-нибудь такое, что могло оказаться роковым. Феодоре было совершенно ясно, что Велизарию необходима женщина. Каждому нормальному мужчине она нужна, и если бы ей удалось помочь ему в этом, подыскав такую, которая взяла бы на себя удовлетворение его безответного, но настойчивого желания, военачальник был бы сохранен для нее и как друг, и как собеседник.
Найти именно такую женщину было делом нелегким. Между тем проблема – как удержать на расстоянии нежелательного почитателя и в то же время сохранить его дружбу – становилась все более острой.
Решение, однако, пришло быстрее, чем она надеялась.
Однажды вечером Юстиниан сообщил ей:
– Велизарий собирается устроить смотр своим комитатам.
Речь шла о войсках, специально обучаемых в течение нескольких месяцев в соответствии со своеобразными взглядами Велизария на военное искусство и тактику.
– Он просил меня присутствовать, – продолжал Юстиниан, – поэтому я велел устроить завтра на Ипподроме учения. Ты хотела бы взглянуть?
Она была удивлена:
– А разве на Ипподром пускают женщин?
– На бега – нет, – ответил он. – Но завтра зрителей не будет. Только военачальники и должностные лица. Я не думаю, что присутствие в кафисме одной маленькой женщины явится нарушением обычаев и традиций.
Она приняла его насмешливое предложение с улыбкой.
На следующий день с высоты кафисмы они смотрели вниз, на широкую арену, которую подковой окружали каменные скамьи, сейчас пустующие, если не считать нескольких кучек официальных наблюдателей под самой кафисмой. А на противоположной стороне арены комитаты уже сидели в седлах, развернувшись в идеально ровную линию.
– Я, твое высочество, привел сюда только одну когорту, – заметил Велизарий, сидевший вместе с Трибонианом по левую руку от Юстиниана. – Здесь недостаточно места для маневра. Но я уверен, что то, что вы увидите сегодня, придется вам по вкусу.
Взгляд Феодоры привлекло облачение солдат; да и само по себе вооружение комитатов, несомненно, было необычным. Вместо цельных панцирей на груди и спине на них были рубахи из металлических колец, кольчуги – без рукавов, но закрывающие бедра. Тяжелые кожаные сапоги защищали икры и голени. На головах были облегающие стальные шлемы с султаном из перьев на гребне. Эти всадники в сравнении с пышно разодетыми эскувитами казались весьма невзрачными.
– А что нового в вооружении воинов? – спросил Юстиниан.
– У каждого, если угодно заметить твоему величеству, – отвечал Велизарий, – на спине колчан и лук. В сапоге справа – копье. Тяжелый широкий меч, слегка напоминающий классический римский, хотя и достаточно длинный, чтобы им мог воспользоваться всадник, – в ножнах на левом боку. Щит относительно небольшой, но из стали, а в нем с полдюжины запасных стрел, удерживаемых пружинным зажимом. Эти стрелы можно извлечь почти мгновенно.
Со стороны мест под кафисмой, где расположились высшие военачальники, послышались критические замечания.
– Весьма изобретательно, эти самые пружинки для стрел… но как же стрелять из лука верхом?
– Следует понаблюдать, как они при этом сумеют управляться с лошадьми: вот тут, по-моему, и кроется слабость…
Но когда всадники приступили к демонстрации, Феодора, несмотря на всю неопытность в делах такого рода, поняла, что перед ними – совершенно новая тактика.
Лук требует свободных рук, поэтому воины были обучены править лошадьми коленями и корпусом, а не при помощи поводьев. Комитаты двигались строем, то пуская лошадей рысью, то переводя их в галоп, меняли направление движения, давали задний ход, делали крутые повороты, при этом поводья свободно висели. Все совершалось по сигналам трубача, которому отдавал распоряжения командир когорты.
Потом пришел черед упражнений с луком. На полном скаку комитаты выхватывали из чехлов грозное оружие и, уперев его в петлю, предназначенную для этой цели на стремени, коленом и левой рукой сгибали древко лука дугой, а правой накидывали тетиву на верхнюю защелку. И тотчас левая рука хватала держак лука, а правая извлекала стрелу из зажима на щите или из колчана за плечом, и верховой лучник, почти не замедляя бега лошади, был готов к стрельбе.
– Превосходно! – в восторге зааплодировал Юстиниан. Седые военачальники внизу поклонились, однако едва ли с одобрением.
Теперь группами по шесть всадники промчались мимо ряда деревянных щитов, тетивы их луков зазвенели; и хотя лошади неслись галопом, большое количество стрел вонзилось достаточно близко к центру, и, окажись вместо щитов враг, он был бы утыкан стрелами, как дикобраз.
– Правда, замечательно? – воскликнул Юстиниан. – А вы что думаете, доблестные мужи?
Однако военачальники, похоже, не разделяли его энтузиазма.
– Недурно, – проскрипел один из них, – но, с позволения вашего высочества, для серьезного дела я все же предпочел бы пехотный легион.
– Для наших отцов и короткий меч был вполне хорош, – заявил другой, – и я утверждаю, что он достаточно хорош и для нас.
А третий добавил:
– Стрелы – это детские игрушки. Настоящий солдат должен сойтись с врагом для рукопашного боя, а не полагаться на лук.
Феодора видела, как вспыхнуло лицо Велизария. Она впервые столкнулась с той особой враждебностью к новшествам, которая свойственна военным определенного типа.
– Вы только представьте себе, – не выдержал наконец Велизарий, – что может сделать с вашими пехотинцами полк тяжелой кавалерии вроде моего. Прежде всего – туча стрел…
– Римские легионы много раз бывали осыпаны стрелами, – с презрением оборвал его престарелый полководец Милон.
– Но не такими! – возразил Велизарий. – Мои имеют стальные наконечники, словно небольшие копья. И лук также особой конструкции, из самого лучшего испанского тиса, упрочненный рогом. На небольшом расстоянии пущенная из него стрела пробивает панцирь навылет, в особенности если ее наконечник навощить…
– А когда стрелы закончатся, что тогда? – возразил Милон. – Военный опыт учит, что кавалерия не в состоянии прорваться сквозь строй пехоты, сомкнувшей щиты.
– У моей кавалерии имеются копья. На полном скаку железное острие, выдвинутое далеко вперед, способно разомкнуть любой пехотный строй. А уж оказавшись рядом, они обрушат свои широкие мечи на головы пехотинцев. Это подлинный переворот в военном деле!
Но полководцы только снисходительно и холодно улыбались, насмешливо вскидывали брови и отмалчивались.
В отчаянии Велизарий повернулся к Юстиниану.
В этот момент Феодора увидела, что Иоанн Каппадокиец наклонился вперед. На его лице застыло серьезное задумчивое выражение, словно он собирался предложить нечто важное.
– С разрешения твоего величества… – начал он.
Юстиниан, несколько озадаченный противодействием старших военачальников, кивком позволил префекту претория продолжать.
– Мне кажется, – сказал Иоанн, – что было бы неправильно отвергнуть новую идею без должной проверки.
– А какая проверка может быть лучше этой? – спросил принц.
– Только одна, твое высочество. Настоящая война.
– Война? – нахмурился Юстиниан.
– Да, на границе с Фракией недавно зашевелились племена авар, и карательная экспедиция помогла бы уяснить достоинства и недостатки тяжелой кавалерии.
– Благодарю тебя за это великолепное предложение, почтенный префект! – воскликнул, просияв, Велизарий.
– Возможно, – продолжал Иоанн, – Велизарий и сам не прочь возглавить кампанию против варваров и опробовать в деле своих комитатов.
– Только об этом одном и прошу, ваше высочество! – взмолился Велизарий.
Феодора мгновенно сообразила, что это именно то, что ей надо – Велизарий с его опасной откровенностью по крайней мере на некоторое время будет удален. И хотя ее мнения не спрашивали, она поклонилась и осмелилась высказаться в пользу этого предложения:
– Было бы лишь справедливым, – сказала она, – предоставить Велизарию такую возможность.
Юстиниан странно взглянул на нее. Но, по-видимому, именно ее мнение повлияло на него. Он кивнул.
– Значит, решено, – сказал он, – немедленно велите готовить суда для переброски войск на побережье Понта Эвксинского. Высадитесь в Варне, а оттуда, Велизарий, переход до границы не слишком сложен.








![Книга История знаменитых куртизанок. Часть 1 [старая орфография] автора Анри де Кок](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-istoriya-znamenityh-kurtizanok.-chast-1-staraya-orfografiya-73983.jpg)