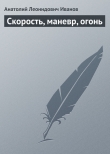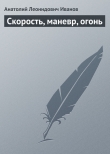Текст книги "Далекая юность"
Автор книги: Петр Куракин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
14. «Я тоже увижу коммунизм?»
Волна отнесла Яшку Курбатова к столу. Ленин сидел, быстро прочитывая записки, раскладывая их, и вдруг то начинал смеяться, то хмурился – очевидно, было написано неразборчиво. Наконец все записки разложены, но Курбатов, следивший за тем, как работает Ленин, не увидел своей: может, просто проглядел? В это время его кто-то больно прижал к краю стола, и Яшка, оглянувшись, увидел, что парень в бабьей кофте, который сидел перед ним, протискивается вперед, к Ленину.
– Куда ты?
Тот не ответил, скользнув по Курбатову невидящими глазами. И тут же снова нажал плечом, освобождая себе место. Схватив парня за рукав, Яшка потянул, но кофта подозрительно затрещала, и он отдернул руку. Парень уже стоял перед Лениным и молча глядел на него.
Ильич поднял глаза. Какую-то долю секунды он рассматривал эту нескладную, нелепую фигуру, и Яшка заметил на лице Ленина то ли боль, то ли участие.
– У вас тоже вопрос?
– Да… Вот вы скажите… – голос у парня срывался. – Значит, я тоже… коммунизм увижу?
Ленин порывисто встал.
– Да, да. Вы! Именно вы, дорогой товарищ!
И парень, шлепая в тишине подошвой, подвязанной куском проволоки, пошел назад, держа руки у груди, будто прижимая какую-то, одному ему доступную драгоценность.
Ленин снова провел ладонью по лбу, взял записки и вдруг забеспокоился, сунул руку в карман, потом положил все записки и начал искать в других карманах. Затем он, нагнувшись, встал на колено, отодвинул стул…
– Что вы потеряли, Владимир Ильич? – спросил председатель.
– Да записку потерял. Хорошая была записка…
– Вы на эти ответьте, не ищите ее.
– Как не искать? Надо найти. Товарищ, может быть, волнуется, ждет, а я не отвечу. Надо ответить.
Наконец общими усилиями записку нашли.
Владимир Ильич быстро разложил записки веером.
– Записок, товарищи, очень много, но я постараюсь ответить на большинство. Меня спрашивают о военном и хозяйственном положении. К сожалению, второго доклада вам я сегодня сделать не смогу, – он лукаво улыбнулся, – особенно хриплым голосом.
Нет, это были не «вопросы и ответы». Это опять была беседа о том, что волновало людей, о чем они думали, что их печалило…
И когда час спустя от подъезда дома на Малой Дмитровке отошла, пофыркивая, постреливая синим дымком, крытая брезентом машина, здесь остались люди, для которых жизнь начиналась словно бы сызнова; да, впрочем, оно и было так. Все они, сколько их ни было здесь, начиная от семнадцатилетнего рабочего паренька и кончая солдатами, прошедшими сквозь смерть, были только в начале жизни, той, которую они должны строить сами.
15. Живая вода
Пожалуй, ничем не была примечательна эта дорога. Вагон, битком набитый людьми, едкий, ставший привычным уже запах жженого угля, корболовки и пота, духотища и нескончаемые разговоры куда-то и зачем-то едущих женщин о том, что «леворюцию сделали, а хлебушка не дали».
Однажды Яшка не выдержал и, свесившись со своей третьей полки, крикнул:
– Да чего вы языками-то треплете: «не дали, не дали»! Может, вас Советская власть подрядилась за бесплатно кормить?
– Ишь, какой идейный, – спокойно заметила одна из женщин. – А что ж ты прикажешь делать?
– Работать – вот что. А то только и слышишь: ездим с места на место – всюду плохо. Потому и плохо, что ездят… такие.
– Верно, корешок! Давай знакомиться. Матрос Иван Рябов со старой калоши «Чесма».
Яшка и не заметил, как из другого купе высунулась взлохмаченная светловолосая голова. На Яшку смотрели лукавые, с искоркой, глаза.
– Верно агитируешь. Нынешним дамочкам теперь хлеба на блюдце с каемочкой подавай. А вот – не видели?
Он вытянул вниз руку, и женщины лениво отмахнулись от кукиша. Они и в самом деле устали; ругаться им, видимо, не хотелось.
Яшка познакомился с соседом: все-таки веселее было ехать. Но дорожные знакомства коротки; матрос вышел на станции Няндома, сказав на прощанье:
– Ну, корешок, будь здоров. Может, встретимся еще. Жизнь – она, брат, тесная!
* * *
В Архангельске Курбатова ждал сюрприз. Поезд подходил к вокзалу; и, стоя на подножке вагона, еще издали Яшка увидел одинокую и знакомую фигуру. Тощий, угловатый паренек, зябко поводя острыми плечами под разодранной курткой, вертел большой головой на длинной шее, выискивая кого-то в толпе приехавших. Яшка увидел огромные черные глаза, как две плошки на бледном, почти голубом лице, и заорал, сорвав с головы шлем:
– Лобзик! Эй, я здесь!..
Минуту спустя они стояли друг против друга, и Лобзик, счастливо улыбаясь, даже щурясь от удовольствия, торопливо говорил:
– А я тебя, брат, уже отчаялся встретить. Понимаешь, как получилось. Только ты уехал – бац, из губкомола еще разверстка на одного человека. Ну, я и напросился сюда.
Яшка был счастлив. Все-таки не один, все-таки рядом родная душа; странный он человек, Лобзик, но есть в нем что-то такое, по-особенному искрящееся, словно скрытый, но физически ощутимый огонек горит в этом щуплом человеке.
На пароходе они перебрались через Двину; осень в этих краях уже совсем кончилась, на улице стояла какая-то странная, бесснежная, но морозная погода, и пароходик шел, раздвигая бортами круглые льдинки густого «сала». Яшка слушал торопливые объяснения Лобзика – о курсах, о ребятах, о начальнике курсов, – и смотрел не отрываясь на берег, на низенькие дома, маковки церквей, длинные штабеля досок – лесные биржи. Ему неудобно было спрашивать у Лобзика, как Клава; да и что он мог рассказать сейчас: последнее письмо от Клавы было всего недельной давности.
Курсы политруков Курбатову понравились. Размещались они в помещении бывшего губернского архива – в длинном белом одноэтажном здании с низенькими окнами и сводчатыми потолками. Здание было старинное, выстроенное еще при Аракчееве; ребята говорили, что прежде здесь была тюрьма. Неподалеку находился кинотеатр «Мулен-Руж». За кинотеатром была толкучка; там торговали английским табаком и тупорылыми лыжными ботинками-шекельтонами, надо полагать, трофейными…
Яшка почти не заметил перемены, которая произошла в его жизни. Быть может, потому, что за годы, проведенные среди множества самых различных людей, он привык близко сходиться с новыми товарищами.
Едва устроившись на новом месте, Курбатов знал уже добрый десяток курсантов, кто они и откуда, и был польщен тем, что его наперебой расспрашивали о съезде, о Ленине, о ленинской речи, которую здесь еще не читали.
Лобзик – тот слушал с горящими глазами, все поторапливая: «Ну, ну…» А Курбатов, сидя на койке в полутемной комнате, словно бы заново переживал свою встречу с Ильичем.
Курсанты не заметили, как во время рассказа в дверях появился незнакомый мужчина – уже пожилой, в гимнастерке и высоких, закрывающих колени, русских сапогах. Все вскочили. Тот, кивнув – продолжайте, – подошел и сел на чью-то кровать, нашаривая в кармане кисет. Но Яшка смутился и замолчал.
– Что ж вы, товарищ курсант? Так интересно говорили, и вдруг…
– Я уже все рассказал, – ответил Яшка.
Все помолчали для приличия. Наконец военный, свернув папироску и несколько раз облизав ее для прочности, усмехнулся.
– А у нас вот не все еще понимают, как учеба, о которой Владимир Ильич говорил, нужна… Мы, говорят, революцию делаем, можем и без политэкономии обойтись. Знай бей буржуев – и всё тут.
Ребята вежливо улыбнулись; улыбнулся и Яшка, еще не понимая, какая может быть связь между битьем буржуев и политэкономией. Кто-то из ребят спросил:
– А политэкономии – про что это, товарищ Ходотов?
Яшка пытался припомнить эту фамилию: «Ходотов… Ходотов… А, Лобзик на пароходе говорил: комиссар курсов…» Тем временем Ходотов, неторопливо закурив и щуря от дыма один глаз, хитровато поглядел на спрашивающего.
– Политэкономия-то? Да так… про всякое. Про золотишко-серебришко.
Кто-то недоверчиво хмыкнул.
– Значит, денежки считать? Вроде бухгалтеров?
– Вот-вот, – обрадовался Ходотов. – А потом вас всех кассирами работать пошлем. Кого в булочную, кого еще куда.
Он все еще лукаво щурился, пряча улыбку, и вдруг, сразу став строгим, сказал:
– Нет, ребята, эта наука такая… как бы вам сказать… Ну, вроде живой воды. Знаете сказку: ослепнет человек, – так стоит только помазать живой водой, сразу прозреет. А без нее, без этой науки, мы как слепые кутята. Вот ты, товарищ Курбатов, например, знаешь, почему капиталисты богатели, а рабочие нищали?
Яшка удивленно повел плечами.
– Конечно, знаю. Эксплуатировали они нас, вот и все тут.
– Ну, а как же они так эксплуатировали? – допытывался Ходотов.
– Как это «как»? – не понял Яшка. – Ну, работали мы на них…
– А ведь они-то платили вам за работу?
– Ну, платили.
– Значит, не на них вы работали, а на себя?
Яшка смутился, буркнул что-то насчет штрафов, и, догадавшись, что ляпнул вовсе непростительно глупое, смутился вконец. Ходотов протянул руку, потрепал его по плечу.
– Ничего, узнаешь… Вот ведь как получается, ребята: простая вещь, а растолковать ее даже наш делегат не смог.
Он вынул из кармана зажигалку и, вертя ее в коротких, толстых пальцах, начал объяснять, что такое прибавочная стоимость. Яшка жадно, как губка, впитывал в себя каждое слово. Все казалось так ясно, что ребята как-то даже разочарованно переглянулись… А Яшка, недоуменно раздумывая над услышанным, досадливо поморщился: «Дурак, значит, я, что ли? Просто ведь, как огурец…»
Но через несколько дней он уже не говорил и не думал «просто, как огурец»: к вечеру у него от всех занятий голова шла кругом, – в ней мешались понятия, формулы, выводы, и он временами, тупо уставившись в книжку, напрасно старался усвоить что-нибудь еще: голова отказывалась работать.
Как-то Лобзик пожаловался ему:
– Убегу я отсюда, Яша. Ну на кой мне бес эти капиталы?
Он кивнул на том Маркса, лежавший перед Яшкой. В это время Яшка – в который раз! – перечитывал строчки: «Всякий труд есть, с одной стороны, расходование человеческой рабочей силы в физиологическом смысле слова – и в этом своем качестве, одинакового или абстрактного человеческого, труд образует стоимость товаров»… Лобзик жалобно взмолился:
– Да оставь ты это. Я говорю – не могу больше.
Яшка, медленно подняв на него воспаленные, сразу ставшие злыми, глаза, угрожающе поднял книгу.
– Убежишь – прибью. Понял? И дружба врозь.
На курсантов взвалили сразу массу занятий.
И быть может, потому, что Яшка чувствовал себя стоящим на ступеньку выше многих, он не жаловался; ребята косились на него – «Смотри, какой камешек, а? Будто ему нипочем…» А он вспоминал мертвую тишину в зале, невысокого роста человека, разрубающего рукой воздух, и его слова о том, что надо учиться и учиться коммунизму…
16. Конец «Совы»
Первым серьезно нарушил дисциплину Лобзик. Вечером он стоял на посту у ворот. За две трамвайные остановки была красноармейская чайная, где выдавали бесплатно, по красноармейской книжке, чай с монпансье и маленький кусок черного хлеба с чем-нибудь, чаще всего с повидлом; Лобзик снял тяжелый и теплый тулуп, завернул в него свою винтовку и все это поставил в сугроб. Потом он закрыл калитку с внутренней стороны, перемахнул через высокий забор, сел на трамвай и поехал в чайную.
Комиссар курсов, Ходотов, в этот вечер лично обходил посты. Он наткнулся на тулуп, торчащий из сугроба, забрал винтовку и снес ее в караульное помещение. Возвратившийся Лобзик не нашел винтовки: тулуп валялся, а винтовки не было. Ему ничего не оставалось, как самому пойти в караульное помещение; там он был сразу же арестован, У него отобрали поясной ремень. Утром на общекурсовой проверке Лобзика вывели и поставили перед строем. Ходотов зачитал приказ начальника курсов: за проступок Лобзику дали пятнадцать суток гарнизонной гауптвахты. Яшка стоял, глядя себе под ноги. Когда Лобзика провели мимо, он взглянул на него и увидел, что тот лукаво подмигивает.
– Отдохнет парень, – шепнул кто-то сзади не то одобряюще, не то завистливо.
Лобзик вернулся с гауптвахты еще более похудевший и какой-то притихший. Какой там отдых! С утра до вечера он работал с другими штрафниками на лесобирже! Яшка, покатываясь со смеху, глядел, как Лобзик то и дело поддергивает галифе.
– Вот как исхудал, – крутил Лобзик головой. – Штаны не держатся.
Но что-то изменилось в нем, словно сломалось; даже говорить он стал как-то меньше и чаще молчал, глядя куда-то в сторону, будто видел там что-то, ведомое ему одному.
Эту перемену заметил не один Курбатов; но то, что случилось, Лобзик рассказал только ему…
…В одну из суббот на лесобирже, где работали заключенные с гауптвахты, был субботник: пришли несколько десятков девушек-активисток, в основном работники комитетов комсомола, сведенные в одну бригаду.
Еще на «гражданке», на различных собраниях и вечерах такие девушки просто пугали даже не очень-то робкого Лобзика. Они старались и внешностью и поведением походить на ребят, да и то не на обычных, а какого-то блатного ухарства. Носили они русские, нечищенные месяцами рыжие сапоги, кожаные тужурки, короткие волосы, за которыми мало следили. У некоторых на чулках и грязных затасканных юбках были дыры, словно девушкам не хватало времени залатать, зашить их. Они, как правило, курили махорку, напрашивались, не стесняясь, на циничные разговоры.
Откуда они только взялись после гражданской войны? И почему-то, пока девушка была беспартийной или рядовой комсомолкой, она сохраняла и свой нормальный вид, и свою девичью стыдливость, но стоило ей попасть в активистки, да еще в освобожденные, она сразу преображалась. Лобзик не понимал таких девушек и поэтому пугался еще больше.
Быть может, именно поэтому он заметил среди них одну, самую обыкновенную, но показавшуюся ему необыкновенной. Во время перерыва они очутились рядом.
Ее звали Нина Гаврилова. Лобзик… стыдясь своего «арестантского» вида, долго не решался подойти к ней, она заговорила первая, надо полагать, изумленная этими огромными черными, не таящими волнения, глазами.
И Лобзик не сдержался. Он наврал ей о себе с три короба, чтобы только быть ближе даже в делах. Он ей наговорил о себе такого, что потом только краснел – и что он тоже комсомольский работник, и что на курсы приехал сразу со съезда, и что воевал против Колчака…
Нина в свой черед рассказывала ему:
– Знаете, мне тяжело на освобожденной комсомольской работе. С беспартийными и рядовыми комсомолками я всегда нахожу общий язык, все они… ну… такие все, какими и должны быть. А вот с некоторыми активистками не могу ужиться… Они меня интеллигентной птичкой зовут. Не могу понять – откуда у нас такие девушки появились? Ведь наша революция этого не предполагает. Я читала речь Ильича… Мне кажется, девушка везде должна быть девушкой. А какая это девушка, когда из нее, как из трубы, махорочный дым идет…
Лобзик в это время курил «козью ножку»; после слов Нины он незаметно смял цигарку и выбросил ее. Нина заметила и засмеялась:
– Ой, какой вы смешной! Да курите себе. Девушкой вы ведь не собираетесь быть?
Девушки редко разговаривали так с Лобзиком, а этот разговор вообще шел так, что у Лобзика в голове окончательно перепутались все представления о девушках. Нина казалась ему такой светлой и так высоко, недосягаемо высоко стоящей над ним, что он боялся обернуться к ней.
Они сели на кучу досок, и Лобзик, мучительно краснея, попытался поддержать этот умный, и потому для него непривычный, разговор. Слов он не находил; те, которые приходили, были какими-то пустыми и незначащими.
Он не заметил, откуда появился и когда сел рядом с Ниной незнакомый парень. Лобзик раньше не видел его: очевидно, он работал до этого в стороне, в бригаде лесокатов. У парня было наглое лицо, жидкие черные волосы вылезали из-под какого-то ободранного треуха.
– Ну-ка, Нинка, подвинься, – осклабясь, сказал он, толка девушку локтем.
– Я вам не Нинка, товарищ Кандидов, не забывайтесь, – строго и серьезно ответила Нина. Парень коротко хмыкнул.
– Верно говорят, что ты недотрога… Что, товарища красного курсанта захороводила? Сидите тут, любовь крутите? Не помешаю?
Лобзик покраснел от злобы; у Нины дрожали губы.
– Что вам от меня нужно? Уходите.
– А, помешал, помешал… Извиняюсь… то есть пардон, мамзель.
Лобзик не мог больше сдерживаться. Он вскочил, обернулся к сидящему рядом с Ниной, схватил его за ворот пальто и рывком придвинул его лицо к своему. Задыхаясь, он проговорил:
– Ну, ты… гнида человеческая. Кто ты такой? Подлец!
Коротким и сильным ударом он отбросил парня и тронул Нину за руку.
– Пойдемте…
Сейчас, вспоминая все это, Лобзик мучился: его вдобавок ко всему на месяц оставили без увольнительной. Курбатов поначалу было удивился, что с несерьезным Лобзиком могло приключиться этакое, потом загрустил сам и даже не улыбнулся, когда Лобзик, подсев к нему на кровать, сказал:
– Выходит, мы вроде женихов с тобой теперь, а?
* * *
Но думать об этом пришлось недолго: той же ночью курсы были подняты по боевой тревоге. Ребят и прежде поднимали по ночам: с оружием они выбегали и строились во дворе, потом начинался марш – далеко за Мхи, где англо-американская разведка совсем недавно расстреливала архангельских коммунистов.
На этот раз что-то не похоже было на простое ночное ученье. Во двор выкатили санки; на них положили цинковые ящики с патронами, и озабоченный чем-то Ходотов вместе с начальником курсов пересчитал их. Высокий человек в наглухо застегнутой длинной кавалерийской шинели то и дело поглядывал на часы и торопил начальство. Наконец он повернулся к курсантам, и по тому, как он начал говорить – тихо и с тревогой, – Курбатов понял: да, здесь не ночное ученье.
– Вот что, товарищи, – говорил тот. – Идем мы на боевое задание вместе с чекистами. Неподалеку от города, на Мхах, находится банда… Надо взять всех живьем, ну, а если не удастся… Короче говоря, идем!..
Шли молча. Быстро кончились освещенные улицы, и впереди легла темень, глухая, почти ослепляющая. Временами за спиной вдруг словно бы начинало светать; там появлялись, росли, ширились голубовато-зеленые полосы; они перемещались, начинали гореть, мерцать на своих концах тонкими игольчатыми стрелками и так же быстро, как возникали, гасли… Тогда еще гуще становилась темнота, чернее – небо.
Отряд остановился через час на большом поле. Здесь росли, прижавшись к самой земле, а сейчас занесенные снегом, можжевеловые кусты, тянулись вверх из-под снежных шапок уродливые, скрюченные, как мертвые пальцы, ветви карликовых берез. Хорошо еще, что погода стояла теплая: там, на курсах, градусник показывал пятнадцать градусов ниже нуля.
И все-таки разгоряченные часовым маршем ребята теперь продрогли. Курбатов почувствовал сначала легкий озноб и глубже зарылся в снег, под куст. Соседей он не видел, но знал: ребята где-то здесь, рядом, и так же мерзнут сейчас, как и он. Выберутся ли они все отсюда живыми?
Через два часа, немного привыкнув к холоду, Курбатов поймал себя на том, что ему неудержимо хочется спать. С трудом он взял негнущимися пальцами пригоршню снега и приложил к глазам; снег, растаяв, прилип к лицу. А когда где-то слева суматошно затрещали выстрелы, он даже не вздрогнул, не заволновался, а только подумал: «Ну, наконец-то…»
Три тени мелькнули неподалеку. Сосед справа начал стрелять, и Курбатов, опомнившись, закричал:
– Не стреляй… живьем брать будем… бежим!..
Он не мог бежать. Вернее, он бежал, но ему казалось, что он только медленно, как это бывает во сне, переставляет ноги.
…Опять на горизонте зародилось, начало тянуться вверх, раздвигая темноту неживым, голубоватым светом, северное сияние. Трое уходили: теперь Яшка отчетливо видел три согнувшиеся в беге фигуры. Курсант, бежавший рядом, припал на колено и начал стрелять. Один из бандитов, словно споткнувшись о кочку, которой он не заметил, повалился в снег, безжизненно раскидывая руки.
Курбатов не успел выстрелить: сияние, освещающее пустую белую равнину, начало гаснуть, и снова все кругом нырнуло во мрак, будто над землей сразу раскинули черный непроницаемый полог. Куда бежать? Выстрелы захлопали уже впереди, далеко и глухо. Он споткнулся о лежащее на снегу тело и, задыхаясь, опустился, все еще не сгибающимися, распухшими пальцами стараясь вытереть сбегающий с висков пот.
Рядом с ним оказался тот чекист в длинной шинели, который привел ребят сюда. Чиркая непослушные спички и закрывая огонек ладонью, он разжег, наконец, несколько штук и нагнулся над убитым. Курбатов, мельком взглянув на лицо бандита, отпрянул…
Прямо на него глядели мертвые, остановившиеся, но такие же круглые глаза человека-«совы».