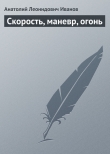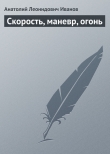Текст книги "Далекая юность"
Автор книги: Петр Куракин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
3. Первые дни занятий
Наконец подошел первый день занятий. В расписании, вывешенном еще накануне, стояло загадочное и одновременно немного скучное слово: «беседа». Галкин, изучая расписание, покривился.
– Мораль будут читать. Учитесь, детки, постигайте. На вас вся Европа и Азия смотрит. А я всхрапну часок.
Курбатов, перебирая сшитые нитками чистые тетради, не заметил, как открылась дверь и в класс вошел Григорий Иванович Данилов. Секретаря губкома партии Яков не видел давно и сейчас с каким-то новым интересом разглядывал крупное лицо Данилова. Он заметил, что тот постарел, даже потемнел как-то, и только глаза у него по-прежнему живые, с хитрым огоньком.
Данилов, поздоровавшись, прошел к учительскому столу, оглядел комнату и одобрительно качнул головой.
– А ничего хоромы. Только вид у вас всех какой-то такой… Не очень радостный вид, прямо скажем. А, и Курбатов здесь! Тебя что, уже в партию приняли?
– В кандидаты, – ответил смущенный этим вниманием Курбатов.
Данилов снова одобрительно кивнул, а потом хмыкнул то ли удивленно, то ли с досадой:
– Вот ведь как время бежит – и не замечаешь.
Он внимательно осмотрел каждого, и ребята невольно подтягивались под его пристальным взглядом. Вдруг Данилов тихо и как-то совсем буднично сказал:
– А я, товарищи, только что в Доме крестьянина был. Никто из вас не заходил туда? Зря, обязательно сходите, послушайте, очень интересно… Крестьян полно; в одном углу юриста обступили, в другом лекцию слушают. В общем, мужик всем интересоваться стал. Зашел я было в одну комнату… Сидит на топчане дед с эдакой седой бородищей, в лаптях и онучах. Спрашиваю его: «Откуда, дед? Зачем пожаловал?» А он мне отвечает знаете как? «Беспрекословно. Из-под Высоковского я… С Усть-Кубины. Пришел пешечком, пенсию себе хлопотать; потому, вижу, старость приходит, а с ней беспрекословно многие болезни, вредные для меня». – «Кто же тебе, дед, пенсию хлопочет?» – «Да юркий, чернявый такой… Извиняюсь, не выговорить… Юра… Какой-то консюлом прозывается». – «Юрисконсульт, что ли?» – «Во-во. Этот самый… Прости ты меня грешного, опять забыл… На городские-то слова язык туго ворочается».
Поговорил я еще с дедом и пошел дальше. В другой комнате второй дед. Но этот уже середнячок. В сапогах, волосы под горшок острижены, усы и борода аккуратные. Видно, с хитринкой дедка. Спрашиваю – откуда и зачем. Дед, оказывается, по железке с Вожеги приехал и сразу по двум делам. Во-первых, он посчитал, что на него налог неправильно наложили. Надо 13 рублей 70 копеек, а наложили 15 рублей 90 копеек.
Вот он – середнячок. У него каждая копейка на счету. Он свое хозяйство рачительно ведет и думку думает, как бы в зажиточные выбраться. Во-вторых, дед к «дохтору» приехал: чего-то в пояснице у него, как цепами молотят.
Спрашиваю у деда, как в деревне живут. Он мне так отвечает: «Живем – не тужим, бар не хуже; они на охоту, мы на работу; они спать, а мы опять. Они выспятся да за чай, а мы цепами качай».
Я говорю ему: «Что ты, дед! Бар-то ведь давно нету». – «Старые, – говорит, – баре провалились, новые вместо них народились». – «Кто же эти новые баре, дед?» – «Кто, кто? А рабочие, городские, – вот кто». – «Да какие же это баре? Они не меньше тебя работают». – «Говори!.. По восемь-то часов. Разве это работа? А мы от зари до зари».
Чувствуете, товарищи, как кулацкое влияние сказывается? Это кулачок хочет вбить клин между рабочим классом и середняком. А нам середняк вот как нужен.
Данилов провел ребром ладони по горлу. Курбатов покосился на Галкина, сидевшего рядом. Тот слушал секретаря губкома с какой-то недоверчиво-ехидной улыбкой, и Курбатов поморщился: «Не верит, что ли?» Наконец Галкин, не выдержав, спросил, перебивая секретаря:
– А на кой бес он сдался, середняк? Я, между прочим, сам из деревни; мне в Дом крестьянина вроде бы и не к чему идти, так вот неясность у меня: зачем нам середняк-то нужен. То же кулачье, только добра поменьше, а жадности побольше.
Данилов круто повернулся к Галкину. Он смотрел на него долго, так, что тот первым отвел глаза.
– Всем понятно или объяснить? – так же тихо спросил Данилов и, не дожидаясь ответа, начал объяснять одному Галкину.
– Ты, наверно, только достаток и видел у середняка. А того не заметил, что середняк в нынешней деревне – сила, большая сила. Без середняка нам туго придется. К кулаку пойдет середняк – у нас больше врагов станет; к бедняку – легче с кулаком разделаться.
– От добра добра не ищут, – усмехнулся Галкин. Усмехнулся и Данилов.
– Вот ведь ты какой упорный. Не веришь. Сам обмозгуй на досуге, а поймешь – самому легче работать станет.
Галкин, пожав плечами, сел поудобнее; его, казалось, заинтересовала эта беседа, на которой он собирался всхрапнуть. А Данилов, расхаживая вдоль стены, говорил уже о другом, медленно, словно обдумывая каждое слово, прежде чем сказать его.
– …Вы уже знаете, что́ происходит в стране. И какие задачи перед партией и государством стоят, тоже знаете… А вот хотя бы наша губерния: крестьянская, большая… Хозяйство сложное. Но главная особенность сейчас та, что в деревне идет жестокая классовая борьба. Мы опираемся на бедноту, боремся с кулаком, и это ведь борьба за влияние на середняка, который, как ввели нэп, еще больше колеблется. Мироеды и хотят перетянуть середняка на свою сторону. Мы же с вами социализм ведь не только в городе должны строить. В городе строить легче. А вот бороться за социалистическое преобразование темной, неграмотной, убогой русской деревни куда сложнее. Поэтому нам и не безразлично, с кем пойдет середняк. С рабочим классом – значит, в фарватере социализма, за кулаком – значит, в фарватере капитализма.
Потом Данилов говорил о новых кадрах, о молодых специалистах, и Курбатов даже думать забыл о Галкине. Когда же секретарь губкома, простившись, ушел, Галкин зевнул, потягиваясь.
– Ну, начнем благословясь. Жрать вот только охота. После занятий пойдешь на рынок. Я тебе одну штуку покажу.
Курбатов не расслышал его. Все, что сказал Данилов, было для него новым. То, что, по всей видимости, после Совпартшколы придется ехать в деревню, в сельский район, было уже известно, и Курбатов особенно прислушивался ко всему, что касалось деревенских дел.
Прежде чем пойти на рынок, Курбатов зашел в соседнюю комнату за товарищем по фамилии Горобец. Тот сидел на кровати, до пояса закутавшись в одеяло.
– Ты чего сегодня, Петро, дома, а не на лекции?
– Та дежуре, – ответил парень с густым украинским акцентом: сюда его завели из-под Полтавы сложные пути.
– Где дежуришь? По общежитию, что ли?
– Та ни. У себя у комнати.
– А что ты здесь делаешь?
– Сижу, та и все, – ответил Горобец.
– Да зачем сидишь-то? – не понимал Курбатов.
– А що мени робыть? Босый та без штанив, куда я пийду?
– То есть как без штанив?
– А так, без штанив. Бо не уси наши хлопцы мают ладни штани и обутки. Ну, значит, мы и ходимо по очереди.
Лишних штанов ни у кого не нашлось; пришлось идти на базар вдвоем с Галкиным, и Курбатов впоследствии пожалел об этом.
Впервые за все это время ему удалось увидеть Галкина таким, каким он был. На руках у Галкина были деревенские вязаные варежки. Проходя мимо женщины, торговавшей монпансье, Ваня хлопнул поверх конфет и спросил: «Сколько стоит». Та ответила, подозрительно оглядев покупателя.
– Дорого дерешь. Пойдем дальше, может, там дешевле.
Отойдя, он протянул Курбатову варежку: «Посмотри теперь». Курбатов увидел на варежке штук пять или шесть прилипших леденцов.
С продавцами махорки он поступал иначе. Махорка продавалась рассыпная, в мешках. Меркой был граненый стакан. Галкин подходил и спрашивал – почем. Ему отвечали. Галкин говорил: «Давай попробую», – свертывал из газетной бумаги цигарку толще пальца, прикуривал, затягивался и, скорчив гримасу, плевался: «Затхлая, не годится». Так он проделывал много раз, и всякий раз находил махорку то мокрой, то некрепкой, то горлодером. Но, отходя от очередной владелицы махорки, он высыпал содержимое цигарки к себе в карман. Через какое-то время у него скапливалось курева дня на четыре-пять.
Курбатов, которому все это поначалу показалось забавным, неожиданно подумал: «А ведь нехорошо. Мелкое, но все же мошенничество».
– Слушай, хватит… Брось ты эти свои штучки… Чем ты сейчас от любого мошенника отличаешься?
Галкин широко раскрыл глаза:
– Что ты, Яшка! Чего ж тут такого? Мы не у государства, не в кооперации, а у спекулянтки, у частников… Я, может, этой своей цигаркой частника подрываю.
Курбатов нахмурился и остановился, выругав себя за то, что сообразил все это слишком поздно.
– Нет, неправильно. Все равно это мошенничество. Частника подорвать захотел! Не так его подрывают. А сюда я больше не ходок.
Галкин неожиданно вспылил:
– Ишь ты, ортодокс какой. Да я не меньше тебя понимаю, ты меня не учи. «Мошенник, мошенник»! Черта с два я тебе теперь покурить оставлю или ландринину дам. Накося…
Курбатов не ответил – повернулся и ушел домой один.
Вечером, играя с ребятами в шашки, он прислушивался к тому, как заведующий Совпартшколой разговаривает с курсантами. Обычно такие разговоры были теперь каждый вечер: Иван Силыч знакомился с ребятами. До Курбатова донеслось:
– У меня и дед, и батька коровам хвосты крутили. Умею – лучше не надо.
– Значит, сельский пролетарий?
– Так точно. Еще больше, чем пролетарий: до четырнадцати лет штаны не носил: не было. В одной длинной рубахе коров гонял. Ну, а когда девки надо мной по всей деревне смеяться стали, так батя свои штаны отдал… Только чего на них больше было – дыр или заплат, – не помню.
Кругом смеялись, а Курбатов, нахмурившись, сделал вид, что думает над ходом. Что-то неприятное, отталкивающее виделось ему сейчас в Галкине: и то, как он спорил с Даниловым, и как рассказывал сейчас о себе, и как вел себя на базаре. «Может, не надо так строго судить? – подумалось ему. – Пройдет время – поумнеет, перемелется… Так-то говоря, что он до сих пор видел?» И все же ощущение чего-то неприятного не проходило.
4. «Дурак Галка»
Наконец жизнь в Совпартшколе вошла в свою, ставшую уже привычной, колею. И незаметно оказалось, что учиться не так-то уж трудно; снова вернулась прежняя бодрость, чаще слышался смех, даже стали поговаривать, что Галкин влюбился в какую-то нэпманшу. В самом деле, вечерами Галкин куда-то исчезал и возвращался тайком, поздней ночью, сопровождаемый ворчанием тети Нюши.
– Ах ты, черт!.. Гуляешь все, вельзевул. Ну, ступай спи – дело ваше молодое.
Наутро Галкин еле поднимался; глаза у него были сухие и красные. Когда ребята начинали подтрунивать над ним, он смущенно разводил руками: «Что ж поделаешь, ребята, такая уж природа…»
Потом стал пропадать курсант Митя Чубуков. Вместе с ним уходил киргиз Мухаметдинов. Возвращались они все вместе, и однажды Курбатов, не выдержав, спросил:
– Да что вы все, за одной ухаживаете, что ли?
– Зачем ухаживаем? – ответил Мухаметдинов. – Мы учиться ходим. Каменский учит – мы слушаем. Приеду домой – ай-яй-яй какой умный приеду. Как аксакал.
Курбатов насторожился. Тем более что он заметил, как Галкин толкнул Мухаметдинова в бок: жест, должно быть, означающий – помолчи, не болтай лишку. Насторожился он еще и потому, что о Каменском, читавшем в Совпартшколе историю партии, говорили, что он был в оппозиции.
Галкин понял, что тайна открыта, и деланно рассмеялся.
– Ну да, аксакал. По складам читать научиться бы нам с тобой – и то хлеб.
– Чему же он вас учит, Каменский? – поинтересовался Курбатов, стараясь казаться равнодушным.
– Да всему… Книги читаем. Достоевского он очень любит – читаем вслух.
Однако после этого исчезновения ребят прекратились, а Каменский разговаривал с Курбатовым подчеркнуто-любезно. «Рассказать Ивану Силычу про эти занятия? – думал Курбатов. – А зачем? Чего здесь плохого? Только почему все это в тайне от других?» Он молчал и молчал до тех пор, пока к нему не подошел Мухаметдинов.
– Слушай, Курбат, объясни… Совсем башка пустой стала… Объясни, пожалуйста, почему это мы социализм у нас не построим? А если я хочу строить, тогда что?
– Да кто тебе сказал, что мы не построим?
– Галка говорит… Он умный мужик. А ему Каменский сказал. А я не понимаю. Зачем не построим? Зачем тогда революцию делал?
Курбатов нахмурился. Вечером, подойдя к Галкину, он спросил его в упор, глядя сверху вниз:
– Слушай, что это ты болтаешь, парень? Почему это мы социализм не построим?
Галкин пожал плечами, отворачиваясь.
– Это только гипотеза… Есть много pro и contra, то есть «за» и «против». Могу пояснить.
– «Контра», – усмехнулся Курбатов. – Ах ты кулацкая душа! Да что ты знаешь, что ты в жизни видел? Теоретик сопливый! Да мы…
Курбатов поднялся; вскочил и Мухаметдинов. Они вышли из общежития; и, только очутившись на улице, Курбатов почувствовал, как у него ноют зубы – так он стиснул их.
– Дурак он, Галка!.. Ой, дурак!.. – коверкая слова, быстрой скороговоркой повторял Мухаметдинов, – Я приеду – всем расскажу… Нельзя такой дурак учить, бить надо такой дурак.
Курбатов шел, глубоко засунув руки в карманы куртки. У него было такое ощущение, будто он притронулся к чему-то скользкому, неприятному, холодному. «Член партии… – мучительно думал он. – Как же так, как же? Хотя… Трохов ведь тоже был большевиком… Потомственный пастух. Кто научил его всему этому?»
Когда он вошел к Зайцеву, тот сидел, читал какую-то бумажку и быстро спрятал ее в стол.
– A-а, это ты? Садись.
Он потер ладонями глаза и, вынув из стола бумажку, положил перед собой.
– Вот что, товарищ Курбатов… Тут из губкома пришло письмо. Данилов требует, чтобы мы сообщили официально, как преподает Каменский. На почитай…
Курбатов, прочитав скупые строки запроса, отложил бумажку и, глядя Зайцеву в глаза, ответил:
– Я бы Каменского к нам даже истопником не взял. И, если надо, я сам пойду к Данилову. Слышали бы вы, что Галкин говорить начал…
5. Секретарь райкома комсомола
Каменского в Совпартшколе больше не видели. Произошло это как-то незаметно, и вместо него лекции по историй партии начал читать Зайцев. Ребята вздохнули: пусть заведующий читал скучновато, но зато все было ясно, просто, без выкрутасов… После его лекций не надо было еще часами ломать голову над тем, в чем же была сущность разногласий между Лениным и Мартовым и почему Владимир Ильич, высоко ценивший вклад Плеханова в марксизм, разошелся с ним впоследствии как раз по основным вопросам марксизма…
Казалось, не будет конца учебе: каждый день открывал что-то новое, еще не известное; и Курбатов, вчитываясь в ленинские строчки, находил там снова и снова такое, что сразу же становилось близким его сердцу и оставалось там навсегда.
Но однажды вместо Ивана Силыча в класс снова вошел Данилов, а Зайцев, мелькнув в дверях, ушел. Данилов, как и тогда, осмотрев ребят, улыбнулся.
– Ну, как? Выросли, поумнели? Суть постигли поглубже или глубже копнули? А я вот грешен, уже забывать кое-что стал, снова садиться за книги надо… Ведь мы всю науку по тюрьмам проходили…
Он прошелся мимо столов и, поглядев в окно на улицу, повернулся.
– Словом, прощаться нам пора, товарищи. Губком решил ускорить выпуск. Нам очень нужны люди.
И повторил, словно бы в раздумье: «Да, нет людей-то, а они нам нужны…» Сначала никто не понял, что сказал Данилов, а потом все заговорили разом, перебивая друг друга; и Данилов, стоя у окна, наблюдал. Такого оживления у курсантов давно не было. Секретарь угадал чутьем: сейчас они рады, несказанно рады тому, что наконец-то начнется работа, по которой все стосковались. «Рановато радуются, – с неожиданной грустью подумал секретарь. – Хлебнут еще шилом патоки».
На Данилова уставились десятки выжидающих глаз. Он шевельнул густыми колючими бровями.
– Вот о чем надо нам сегодня поговорить, товарищи… О том, что у нас нынче происходит. О жизни поговорим… О той, которая не в пивных да на базарах идет (он кинул короткий и чуть насмешливый взгляд на Галкина), а о настоящей жизни…
И, по привычке расхаживая между столами, он начал говорить как-то необычно, по-домашнему, так, что все поняли: он говорит сейчас о самом главном, о своем и общем, а потому и сокровенном; говорит, как и положено говорить коммунисту с коммунистами, не тая и не изменяя ничего.
– …С молодежью придется вам больше работать. Политически отсталая ее часть все еще не может понять и примириться с новой политикой партии. Есть отдельные случаи, что даже рабочая молодежь выходит из комсомола. Отдельные комсомольцы направляют свою энергию на гульбу да хулиганство. Все это нужно учесть тем, кто пойдет на комсомольскую работу. Мне кажется, что у нас в комсомоле насчет методов работы не все продумано. Не всегда мы умеем заинтересовать молодежь делом и воспитывать на этих делах. Видимо, здесь что-то надо подправить. Молодежь не в пивные должна идти, не на вечеринки, а должна идти в наши клубы, в которых пока от скуки мухи и те дохнут.
…Как видите, задачи у вас большие. Но, когда ясна цель, когда мы правильно организованы, для нас нет невыполнимых задач. Нет предела силе человеческой, если эта сила – коллектив. Никогда не вините обстоятельства в своих неудачах, а вините только себя. Не успокаивайтесь, не остывайте, не старейте душой. Будьте всегда целеустремленны, не позволяйте, чтобы вас захлестнула текущая работа. Но не относитесь высокомерно к черной работе и к «мелочам». Из мелочей и крупные дела вырастают. Вникайте во все сами, серьезно анализируйте факты. К сожалению, у нас есть немало таких руководителей, которые не вникают, не анализируют происходящие внутренние процессы, пока обстоятельства не ткнут их носом. Такие могут лишь загубить дело. А нередко и мы допускаем ошибки в подборе людей. «Авось вытянет, вроде парень неплохой» – у нас еще это играет не малую роль.
Он замолчал, словно вспоминал, что еще хотел сказать, но, видимо, так и не вспомнив, кивнул головой.
– Вот вроде бы и все…
* * *
Казалось, этого дня все ждали с таким нетерпением, а прощаться было грустно. Мухаметдинов, добрых полчаса тиская Курбатова своими смуглыми сильными руками, быстро говорил что-то по-своему, и Курбатов вырывался, шутливо ругаясь: «Да уйди ты, шайтан!» Потом, отдышавшись, спросил:
– Куда ты сейчас поедешь? Где своих найдешь?
– Перебылызытельно искать будем.
Оказывается, чтобы найти свое кочевье, он должен «перебылызытельно» отмахать сотни верст, расспрашивая кочевников, куда ехать.
Галкин прощался с ребятами сдержанно, с достоинством; ему простили все грехи и назначили в экономический отдел губкома комсомола. Надо думать, он завидовал Курбатову. Тот ехал секретарем райкома комсомола в Няндому…
Узнав об этом назначении, Курбатов разволновался так, что первой мыслью было: просить о чем-нибудь полегче. «Справлюсь ли? А если нет?.. Как это говорил Данилов? „Авось вытянет, парень вроде бы неплохой…“ Ну и попроси чего-нибудь полегче, чего ж ты…»
Зайцев, словно угадав состояние Курбатова, спросил, обняв его за плечи:
– Что, страшновато?
– Страшновато, – сознался Курбатов.
– А знаешь, – задумчиво сказал Иван Силыч, – мне в восемнадцатом году полк дали… Целый полк. Понимаешь, как мне-то страшно было? За тысячи жизней в ответе…
И закончил, словно сам удивляясь происшедшему:
– И ведь ничего – вытянул.
6. «Нужно все перевернуть»
Как странно порой складывается жизнь!
Три года назад, глядя из окошка поезда на темный перрон, на далекие огоньки, на унылое, грязное здание няндомского вокзала, Курбатов не мог даже предполагать, что ему придется работать здесь. И сейчас, сойдя с подножки поезда на ту же самую платформу, он увидел знакомое здание станции и те же мерцающие огоньки вдалеке; поезд прогудел и ушел, оставив за собой теплый запах влажного кокса. Курбатова никто не встречал, и он был даже рад этому.
С чемоданом в руке он спустился с перрона и, оглядевшись, пошел по улице, еще не зная, где райком. В губкоме ему объяснили, как пройти туда, но он волновался, думал о другом и не расслышал половины этих объяснений. Сейчас спросить было не у кого: улица лежала перед ним тихая, безлюдная, будто вымершая, и только где-то далеко-далеко на разные лады заливались собаки.
Ночь была лунной, и густые черные тени заборов, деревьев, домов лежали на серебряной, припорошенной первым снегом земле.
Курбатову припомнилось другое. Там, в губкомоле, ему сказали так:
– Едешь на голое место. Есть человек триста комсомольцев, здание райкома тоже есть, но никто ничего не делает и не знает, как и что делать.
Из-за поворота, покачиваясь, вышли двое. Они что-то бормотали, придерживая друг друга; ноги у них заплетались. Курбатов не любил пьяных; эта нелюбовь оставалась у него с детства, когда он из угла смотрел испуганными глазами на бушующего дядю. Но ведь надо было кого-то спросить, где райком, и он окликнул одного из гуляк, как ему показалось, менее пьяного.
Тот недоуменно поглядел на Курбатова.
– А на что тебе?
– Так, по делу надо.
– По делу, так и ступай… Может, ты сюда работать приехал?
– Да. В комсомол…
– А, ну тогда валяй, работай. Только зря хлеб жрете, вот что я тебе работничек, скажу…
– Почему?
– А потому, – пьяный неожиданно зарыдал, рванув свободной рукой ворот свитера. – Кровь мы за что проливали, а? Опять брюханы с цепочками через все пузо пошли? Частных лавочек кто пооткрыл, а? Эх, вы!..
Он выкрикнул это тоскливо и, выругавшись, снова пошел, шатаясь, с обвисшим на плече молчаливым приятелем, так и не показав, где же все-таки райком. Парень был молодой, и Курбатов невольно подумал: «Может быть, комсомолец? Как это он сказал: „Брюханы с цепочками… За что кровь проливали…“ Не понимают новой политики партии, злобятся, пьют… Да, действительно – на голое место приехал. Но ведь не все же так».
Через час он разыскал райком. В окнах серого бревенчатого здания не было света, и Курбатов, поднявшись на скрипучие ступеньки, долго чиркал спички, чтобы найти хоть какой-нибудь звонок. На стук никто не отвечал. Он уже отчаялся было достучаться, как там, за дверью, раздались хлопающие шаги.
– Кто там?
– Откройте, пожалуйста.
– Кто это?
– Курбатов, новый секретарь райкома.
Негромко зазвенели какие-то многочисленные задвижки и цепочки; наконец двери распахнулись, и Курбатов, шагнув в сени, увидел зябко поеживавшегося паренька в накинутом на плечи полушубке. Тот держал в руках «летучую мышь»; в сенях пахло керосином и кислой овчиной.
– Мандат есть? – спросил паренек.
– Есть. Может быть, сначала в комнату проводите?
– Идите, – зевая, ответил тот: у него получилось «Ыыте».
Курбатов вошел в большую, холодную, нетопленную комнату, заставленную столами и шкафчиками. При неверном свете фонаря он разглядел поблескивающую по углам изморозь, окна, словно покрытые куриными перышками, выцветший плакат во всю стену: «Ударим по старому быту» и, наконец, заспанное лицо открывавшего ему паренька.
– Ты что, живешь здесь?
– Нет, дежурю. Так вы давайте мандат… на всякий случай.
Курбатов, улыбнувшись, достал свои документы. Хорош дежурный! Он все кулаки отбил, прежде чем достучался. Такого дежурного можно вынести со всеми потрохами – и не разбудить.
Дежурный внимательно посмотрел документы и, возвращая их, отрекомендовался:
– А я – Уткин Иван, член бюро райкомола.
– Вот как! – обрадовался Курбатов. – А работаешь где?
– В депо. Да вы садитесь, располагайтесь. Я сейчас дров принесу…
Через полчаса они вдвоем сидели возле печки, смотрели, как в черные трубочки сворачивается береста, как шипит на поленьях вода.
И Курбатов слушал негромкие, какие-то, пожалуй, даже тоскливые слова Уткина:
– Девать себя некуда. Вот только в компании, в буфете за пивом и находят себя ребята. В комсомоле у нас скучно. Мы уже квалифицированные рабочие; некоторые помощниками машинистов работают. Вот я чувствую, что и я себя не нашел. Скука – она как червяк сосет.
– Чем же все-таки молодежь занимается? – спросил Курбатов.
– Многие семейные вечерухи с выпивкой устраивают. Что там иногда бывает, рассказывать тошно. Зимой одна комсомолка повесилась после этих вечерух. В комсомоле у нас нынче только треплются, а дела не видно. Скажи – разве хорошо, что комсомол не помог той же девушке, даже морально не поддержал ее? А об этом и секретарь райкома знал, что нелады у девчонки.
– Конечно, плохо, очень плохо, – задумчиво ответил Курбатов.
– Видишь, и ты говоришь «плохо». Так зачем такой комсомол нужен? Мы все не знаем, куда себя девать. И так-то в глуши живем, ничего не видим. Молодежь потому и гулять ходит на станцию, что там хоть новые лица в поезде видит. Ничего у нас нет. Клуба нет. Учпрофсож давно обещает пригласить инструктора спорта, да одними обещаниями и кормит. Все треплются. От этого еще хуже: ребята никому не верят, особенно таким приезжим, как ты. Некоторые уже из комсомола выходят. Да, по совести, и мне неинтересно стало… Гоняюсь за ребятами, чтобы членские взносы платили. А это разве дело?
Курбатов смотрел на огоньки, перебегающие по поленьям, и ответил не сразу.
– Все это ты верно говоришь, Ваня. Такое положение не только здесь. А работать все-таки нужно. Нужно здесь все перевернуть. Райком не будет проводить старую линию. И перевернуть все надо так, чтобы в комсомоле каждому парню и девушке было интересно.
Уткин смотрел на Курбатова с нескрываемой усмешкой, а потом резко сказал:
– Брось трепаться-то, товарищ секретарь. И до тебя все так говорили. Все вы, активисты, трепачи. Вы только циркуляры писать можете: «Усилить, оживить, улучшить и принять меры». Знаю я, мне управдел райкома жаловался, что за три месяца из губкомола сто циркуляров пришло.
– Это ты тоже, пожалуй, правильно говоришь. Только учти, что циркуляры и хорошие есть, их выполнять надо.
Курбатов поглядел на кислую физиономию Вани и неожиданно расхохотался:
– Ой, член бюро! Так-то ты мне помогать думаешь? Ну, вот что: когда я буду делать не то, ты мне честно об этом скажешь. По рукам? Мне, брат, твоя помощь вот как нужна.
– Что я-то один сделать смогу? – кисло ответил Уткин. – Хочешь, завтра после работы я к тебе ребят в райком приведу? Ты поговори с ними. Только знаешь, не загибай – попроще и прямо. Много им не обещай. А то вдруг скексуешь или кишка v тебя тонка окажется – противно будет…
Курбатов, соглашаясь, кивнул.