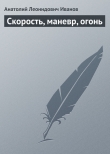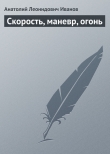Текст книги "Далекая юность"
Автор книги: Петр Куракин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
11. Не у дел
В Печаткино отряд вернулся с хлебом. В тот же день Чугунов отчитывался на бюро партячейки; почему-то на бюро пригласили и Яшку; он не успел даже вымыться и сходить в клуб, к Кияту и к Клаве. Алешин, сидевший рядом с ним, только хитровато подмигивал и посмеивался про себя.
Когда Чугунов коротко рассказал о стычке с бандитами, Яшка перебил его:
– Одного-то из них я знаю… Полковник… Ну, тот, что с Ермашевым.
Громов, что-то чиркая карандашом на листке бумажки, кивнул.
– Да, полковник Базылев… Мы его с восемнадцатого года ищем.
Дальше Яшка почти не слушал Чугунова: ему не терпелось скорее уйти и все-таки сначала забежать к Алешиным, а уже потом в клуб. Чугунов говорил медленно, словно вытягивая из себя слова, – о том, что хлеба еще по деревнях у кулаков закопано в ямах бог весть сколько.
– Мы только так, по сусекам поскребли, – сознался он. – Крепко запрятали хлеб…
Он по привычке выругался, и Булгаков, сам яростный ругатель, постучал карандашом по столу.
– Ближе к делу, товарищ Чугунов.
Все заулыбались, а Чугунов, еще раз – уже удивленно ругнувшись, сказал: «Извините».
На бюро проголосовали – деятельность отряда одобрить, всем бойцам вынести благодарность. Алешин, встав, хлопнул Яшку по спине:
– Ну, теперь небось к ребятам побежишь, секретарь? А тебя уже переизбрали.
– Как переизбрали? – не понял Яшка.
– А так вот. Долго отсутствовал, а надо кому-то работать… Выходит, не секретарь ты уже… Да не расстраивайся, Курбатов, мы тут… Словом, Булгаков, растолкуй ему.
– Пусть станцует сперва, – потребовал Булгаков. – Русскую, с присядкой.
Яшка слушал и не верил. По рекомендации бюро ячейки Курбатова заочно выбрали делегатом на губернский съезд комсомола, а Данилов будет рекомендовать его делегатом на Третий Всероссийский съезд… По предложению Булгакова, его направляют в Архангельск, на военные курсы политруков. Значит, сначала на съезд, потом в Архангельск, не заезжая домой… Булгаков хлопнул его по спине и, рассмеявшись, пошутил:
– Дай-то бог, чтоб и меня с секретарей так же сняли.
Яшка вышел на улицу, еще ничего не соображая. Все полетело кувырком: и работа в организации, и масса дел, которые были намечены, – все это уже будут делать другие, хотя до отъезда еще несколько недель. Он хмуро поглядел на уходящего к заводу Булгакова: все это, конечно, очень почетно, но зачем женили, не спросив?..
– Кому дела сдавать? – крикнул вслед Булгакову Яшка.
Тот обернулся, и Курбатов увидел зеленые, смеющиеся глаза секретаря.
– Да ты никак не доволен, парень? Сдавай Кияту, дружку своему. А если не доволен – дурень в таком случае. Подумай лучше.
Яшка покраснел и отвернулся. Где-то в глубине души шевельнулась слабая еще, но печальная, быть может даже тревожная, мысль: «Уеду… А Клава?»
* * *
Сборы были недолгими. Вот только надо проститься с Клавой. Уже третий вечер они прощались и никак не могли проститься. Оба, молчаливые и понурые, крепко прижавшись друг к другу, бродили по тихим темным улицам рабочего поселка, останавливались, целовались, шли снова и снова останавливались.
Он несколько раз хотел сказать Клаве, чтобы она не встречалась с Троховым, но молчал. Глупая ревность, зачем омрачать последние часы. Наконец настал последний день и час, когда они подошли к алешинскому дому.
– Зайдем к нам. С папой и дедушкой простишься.
Они вошли в дом, Яшка разделся и прошел в комнату, а Клава осталась на кухне – ставить самовар.
Дядя Павел сидел и что-то писал. Дедушка читал газету и, когда Яшка вошел, сдвинул к кончику носа свои очки.
– Проститься зашел, адвокат? Это хорошо, что не забыл. Садись вот сюда да рассказывай!
– Да чего рассказывать? Вот еду…
– Съезди, съезди. Срок невелик, а свет посмотришь и для себя что полезное почерпнешь.
Яшка опять что-то пробормотал, и старик переспросил: «Что, что?»
– Только не знаю, вот как… – повторил Яшка. – Что выйдет – не знаю. Уезжать как-то неохота…
Он посмотрел на вошедшую Клаву.
– Не дури! – прикрикнул старик, передразнивая: «Неохота»! – Поди, с Клавкой расстаться неохота, насквозь я вас вижу. Думаешь, ей охота, чтобы ты уезжал? Что, отговаривала она небось тебя?
– Что вы, дедушка! – вспыхнула Клава.
Она села за стол рядом с Яшкой, и Тит Титович смотрел на них исподлобья. Очки у него еще ниже спустились на нос; он снял их и сразу улыбнулся хитроватой, доброй улыбкой. Впрочем, улыбка тут же пропала: он нахмурился и прикрикнул на сына:
– Хватит писать-то, писатель! Видишь – гость у нас. В последний вечер, пришел проститься!
Павел послушно отодвинул чернильницу и бумаги. Старик лукаво подмигнул ему, кивнув головой, спросил:
– А что, Павлуха, не плохая пара? Что, разве неверно говорю? Краснеть вам, ребята, нечего, я правду сказал. По уши вы друг в друга врезались. Давно уж это все знают, а вы-то знаете об этом еще больше.
– Перестаньте, дедушка!
Клава сказала это таким тоном, что ясно было: старик действительно прав, и сказано это было для приличия. Алешин, видимо, так и понял это; остановить его уже было нельзя.
– Давай сосватаем их, Павел? Сегодня вот вроде помолвки сделаем, а вернется он, тогда и в Совете запишутся…
Павел Титович, отвернувшись, чтобы больше не смущать ребят, пожал плечами.
– Я не против. Такой дружбы, как у них, трудно найти. А что любят друг друга, так это сразу видно. Давай, Клава, собери по этому случаю чаек. Я слышал, ты самоваром гремела.
– Раз такое дело, – засуетился Алешин, – что в печи, на стол мечи. Принеси-ка, внучка… там рябиновая и смородиновая есть. Еще покойная Марфа, царство ей небесное, готовила! Вот и выпьем по поводу.
Клава стала собирать на стол. Принесла настойку, закуску – соленых рыжиков, огурцов, свиного сала. Подала на стол лепешки. Дядя Павел на вытянутых руках притащил кипящий самовар. Алешин уже разливал настойку; все сели за стол. Поднимая стакан, старик таинственно сказал:
– Давайте выпьем по первой, а я потом скажу – за что.
– Нет, нет! – запротестовала Клава, чувствуя какой-то подвох. – Так не бывает. Сперва всегда говорят, за что, а потом уже пьют!
– Ты сейчас помолчи, внучка. Я твой дед, а деду и вперед поверить можно; он за плохое пить не будет!
Пришлось выпить без всякого тоста. Старик вытер свои седые, снизу пожелтевшие от табака усы и прищурился.
– Знаете, за что мы выпили? А за правнуков моих. Правнуков я хочу иметь! Вот таких, – он показал рукой их рост от пола. – Слышишь, Клавка? Чтобы они вечером меня и за усы, и за нос теребили.
Клава и Яшка сидели опустив глаза; казалось, что Клава вот-вот заплачет.
– И смущаться тут нечего, – уже ласково, спокойно говорил дед. – Взрослые вы, сами все знаете. Хорошо вот, одобряю я, что вы до поры до времени себя соблюдаете. Расплескать себя недолго, а от этого только себе вред… Давайте по второй. Вот этой смородиновой выпьем. Пейте, пейте, нечего скромничать, сегодня можно!
Алешин залпом выпил еще полстакана, крякнул: «Ух и хороша!» – и сразу налил себе в третий раз. Под хмельком любил Тит Титович поговорить, особенно поучить молодежь житейской мудрости.
– Слава богу, сынами бог меня не обидел, целых трое было. Да вот двое неженатиками где-то бродят, только от Павла и есть внучка. Да опять же одна. Правнуков мне, стало быть, надо; хоть последние годы жизни порадуюсь.
Он снова потянулся к бутылке и налил одному Яшке.
– Да что, разве мне одному нужны они? Вот опять же с государственной точки. Новые люди нужны. Чтобы нарождалось их больше, чем стариков мрет. России нашей особенно людей надо, в этом ее и сила. Поняли? Давай еще по стопочке. Э, постой, постой, молодец, впереди старших нельзя! Ну-ка, валяйте поцелуйтесь при нас, а потом хоть потоп…
– Да что вы, дедушка! – крикнула Клава.
– «Что-что», – передразнил старик. – Да ничего! Что, впервой тебе с ним целоваться, что ли? А при нас стыдно?
Пришлось поцеловаться. Дядя Павел сидел и смеялся: раз уж старик вошел в раж, его перебивать нельзя.
– Ну, совет вам да любовь! – сказал Алешин и выпил остатки наливки, не замечая, что у него дрожат от волнения руки и капли вина стекают по подбородку…
Первым из-за стола поднялся Павел Титович. Незаметно подмигнув отцу, он подошел к Яшке и обнял его.
– Ну, до свидания, сынок! Ничего я тебе не говорю, сам все знаешь. Одно скажу – пускай хоть и все хорошо у тебя будет, а ты всегда собой немножко да недоволен будь. Не зазнавайся, не хвастай успехами, пускай за тебя ими другие похвастают. Теперь ты мне родной вроде… Ну, учись хорошо и домой возвращайся.
Он трижды поцеловал Яшку и вышел. Алешин, пошатываясь, пошел за ним.
Яшка и Клава посидели еще час. Клава проводила его на крыльцо; они в последний раз поцеловались, и Яшка, сойдя с крыльца, еще раз обернулся.
Клава глядела куда-то за его голову. Он быстро взглянул туда, куда смотрела она, и увидел возле забора двоих; они стояли к нему спиной, но Яшка сразу узнал рыжую куртку Кията и засаленный картуз Лобзика.
– Вы чего здесь?
– Можно повернуться? – спросил Лобзик. – Тебя что, поезд ждать будет?
У Яшки перехватило дыхание. Он, подойдя к Лобзику, обнял его, и тот, как и тогда, на пристани, недовольно заворчал:
– А ну тебя к черту! С ним вот целуйся, он тебя целый час ждал.
Кият смотрел на Яшку грустными, глубокими глазами и, шагнув к нему, убеждающе заговорил:
– Ты не волнуйся, все в порядке будет… Работать будем. Ты пиши только… А мы справимся, справимся…
12. Ночь накануне съезда
Москва!
Она появилась в окнах вагона еще задолго до того, как остановился поезд. Вначале потянулись низенькие домики, пакгаузы, разбегающиеся и снова сходящиеся ниточки рельсов, заводы за глухими заборами, потом появились улицы, красный с облупившейся краской трамвай, первые вывески… Поезд резко затормозил, подойдя к перрону, и сотни людей с корзинками, тючками, чемоданами заспешили к выходу, сошли с привокзальных ступенек на площадь и растеклись в разные стороны, как ручейки.
Накрапывал дождь – мелкий холодный осенний дождь, и делегаты из губерний жались к стенке вокзального здания. Их никто не встретил; и сейчас, стоя на улице, они гадали – куда ехать. Кто-то побежал к начальнику станции, позвонить по телефону в ЦК комсомола. Начальник долго не разрешал, кричал, что телефон только для служебного пользования, но когда делегат грохнул кулаком по столу, начальник трусливо шмыгнул в дверь и уже из-за дверей взвизгнул:
– Милицию позову…
В ЦК объяснили: ехать на Садово-Каретную. Но где эта Садово-Каретная, никто из делегатов не знал, – все были в Москве впервые. Курбатов кивнул на выстроившиеся возле вокзала пролетки.
– Довезут, наверно. Ну, заплатим лишних «лимонов».
– Правильно, – подтвердил кто-то. – Зачем знать географию, когда есть извозчики.
Но извозчик, сверху вниз поглядывая на ребят, спросил:
– У вас что – «лимоны»? Моя баба ими комнату обклеивает заместо обоев. Разве это деньги? Даете фунт соли – довезу.
Ребята поскребли по своим мешкам – соль была у всех. В кульке, отданном извозчику, было больше фунта, и тот, подкинув кулак на руке, проворчал:
– Ну и соль! Вода одна, сырь и ужасть.
Миновали Охотный ряд, стоящие бок о бок лавки, пустые, плотно забитые досками. С облетающих деревьев срывались галки и кружили над серыми, исхлестанными дождем улицами. Ребята набились в пролетку так, что смотреть по сторонам могли только крайние, но им кричали:
– Да не вертитесь! Рассыплемся…
В самом деле, пролетка, дребезжа по булыжной мостовой, стонала, скрипела, словно впрямь грозя развалиться на первом же повороте.
– Приехали с орехами, – проворчал извозчик. – Ежели еще понадоблюсь, ищите у Никитских.
Сказал он это таким тоном, что можно было подумать – Никитские вовсе не ворота, а какая-то известная всей Москве фамилия…
Делегаты приехали поздно: в коридорах и в комнатах третьего Дома Советов уже стоял несмолкаемый гомон; общежития были забиты, откуда-то сверху доносились звуки гармошки. Курбатов заглянул в одну из комнат: там, навалившись грудью на стол, какой-то парень печатал на разболтанном «Ундервуде», тыча в клавиши одним пальцем.
– Регистрация здесь? – спросил Яшка.
– Здесь, здесь. Заходи, зарегистрируем…
Находящиеся в комнате втащили Курбатова к себе и, не спросив, кто он и откуда, сунули в руки большой лист с крупным заголовком – «Подзатыльник».
– Читай! – приказал печатавший на машинке парень.
– Сашка! – кричали из коридора этому парню. – Безыменский! Куда ты пропал? Иди получай шамовку…
Делегаты знакомились повсюду и запросто. Одних, как Курбатова, затаскивали в комнаты, других останавливали в коридоре – жали руки, ходили в обнимку и пели. Яшка заметил: большинство было в военном. Но немало было и таких, как он, – и это успокаивало.
Расположиться на ночлег удалось с трудом: чудом досталась койка в общежитии ярославской делегации, и Яшка приходил сюда только переночевать – все остальное время гонялся с ребятами по Москве, попал в облаву на Сухаревке и долго объяснял в милиции, что он никакой не карманник и не фармазон. Его отпустили, предупредив, чтоб больше он на Сухаревке не появлялся: «Там у стоячего подметки оторвут – не услышишь».
Когда он вернулся в общежитие, там все гудело: Курбатов не сразу понял, о чем спорят ребята. Здоровенный парень с перевязанной рукой басил:
– Да ясно, о чем будет говорить.
– Он что, советовался с тобой? – ехидно спрашивал один из ярославцев, а известно, что ярославцы – народ бойкий.
Парень, не смущаясь от хохота товарищей, назидательно выставлял вперед палец здоровой руки, словно целясь в ярославца из пистолета.
– Неграмотный ты. Ну, подумай сам – о чем он может говорить. И вы еще тут ржете. Ясно ведь: Врангель не разбит – это раз. Мировая революция еще не состоялась – два. Чего еще-то?
– Это верно… И о дискуссии в комсомоле.
– Ну да, будет он этим еще делом заниматься.
– А что? Мы, брат, мировые проблемы сейчас решаем. Мы…
Курбатов осторожно подтолкнул своего соседа по койке.
– Чего распетушились-то?
Тот поглядел на Якова отсутствующим взглядом. Глаза у него были какие-то шальные, светящиеся, будто и впрямь только что решал одну из мировых проблем. Курбатову пришлось повторить – «Чего спорите?» – и сосед, поняв наконец, ответил, сразу же отворачиваясь к спорящим:
– Ленин завтра будет выступать.
У Курбатова сладко замерло сердце. Где-то в глубине души он и раньше надеялся, что увидит Ленина, но уверенности в этом не было. Сейчас, прислушиваясь к разговорам, Яшка пытался представить себе, какой будет эта встреча. Думал об этом не он один, и вздрогнул, когда сосед спросил, не обращаясь ни к кому:
– А какой он – Ленин?
Все сразу замолчали. Откуда им, ярославским, вологодским и костромским паренькам, было знать Ленина? Поэтому кто-то неуверенно ответил:
– Большой, надо полагать. Здоровый, вроде Кваснухина…
Кваснухин – парень с рукой на перевязи – прогудел:
– И голос у него, наверно, такой… – он сжал крепкий, тяжелый кулак и потряс им у горла: по-видимому, это означало бас.
Впрочем, в ту пору о Ленине так думали все, никогда не видевшие его; просто не верилось, что внешне самый обыкновенный человек может делать то, что сделал и делает Ленин.
– Верно, – отозвались с дальних коек, – на то он и Ленин.
Час спустя, лежа с открытыми глазами, Курбатов не мог заснуть. То, что он, семнадцатилетний слесарь, послан в Москву и через несколько часов – если верить ребятам – увидит Ленина, наполняло его каким-то новым чувством.
Все уже спали. Очевидно, навалившись во сне на раненую руку, вскрикнул Кваснухин и долго еще бредил потом, заставляя ребят тревожно подниматься на своих скрипучих, расшатанных койках: «Слева заходите… Слева… Пулемет…» – Кваснухин воевал и во сне.
Курбатов, осторожно пробираясь между кроватями, принес ему воды, и Кваснухин, проснувшись, долго не мог понять, почему его разбудили:
– Что? Опаздываем?
Пришлось шепотом успокаивать его.
– Попей и спи. Никуда не опаздываем. Вон какая темень за окнами.
13. Говорит Владимир Ильич
Что творилось в этом зале на Малой Дмитровке! Мест уже не было, а люди все шли и шли. Зал гудел, и с трудом можно было услышать в этом нестройном гуле голосов отдельные слова. Повезло многим: они сидели на стульях, по двое на каждом, на каких-то скамейках, притащенных из дворницкой соседнего дома, на подоконниках. Курбатову места не заняли; он едва пробился к сцене и сел на нее, касаясь головой рояля. «Считай, брат, мы с тобой почти в президиуме», – пошутил его сосед, парень в гимнастерке и густо-малиновых галифе. Курбатов, увидев эти галифе, только промычал в ответ что-то невразумительное.
Он оглядел зал. Серые стены, окна в потоках дождя и поэтому мутные, непрозрачные; плакат, с которого сердитый рабочий показывал на него: «Что ты сделал для фронта?» Курбатов смотрел на плакат, и ему почему-то стало неловко, как будто он ничего не сделал, – и он отвернулся.
Действительно, много ли сделано? Вон сколько ребят – в шинелях, кожанках, мятых солдатских папахах, ободранные, с забинтованными руками и головами; в картузах и кепках – поменьше, хотя и они тоже, надо полагать, видели виды. Курбатову снова стало неловко своей новенькой гимнастерки из «чертовой кожи». Прямо перед ним, разложив на коленях листки жесткой, как фанера, оберточной бумаги, сидел парень в перешитой бабьей кофте и в сапогах, перехваченных кусками проволоки, чтоб не отваливались подметки. Зато в первых рядах справа – несколько красавцев, матросы в лихо заломленных бескозырках и с пустыми деревянными кобурами маузеров. Один из них, рассказывали, недавно был у Ленина делегатом от балтийской братвы с просьбой прибавить морякам хлеба. И, рассказывали, Ленин его выслушал, а потом сказал: «Знаете, в Питере несколько тысяч детей на голодном пайке. Что, если бы моряки помогли им?» После этого балтийцы отдали детям четверть своих пайков.
Сейчас, сидя перед залом, Курбатов сам себе показался таким ничтожным, что даже оглянулся: не попросят ли его отсюда. За эти дни он наслушался всякого, и знал одно – что владельцы всех этих шинелей, курток, малиновых галифе, этих подвязанных проволокой рыжих сапог, этих разломанных картузов и смятых блином бескозырок – люди, которые сделали в тысячу раз больше его. Тот же парень в бабьей кофте – давно ли его вызволили с Мудьюга[1]1
Остров в Белом море близ Архангельска, где англо-американские оккупанты организовали концлагерь.
[Закрыть]. И вовремя, иначе не быть бы ему здесь. Или разговор, случайно подслушанный в фойе: рассказывали о шестнадцатилетнем командире полка, именуя его при этом Аркашкой[2]2
Речь шла об А. П. Голикове (Аркадии Гайдаре). (Прим. автора.)
[Закрыть]…
Нет, мало было сделано Яшкой Курбатовым; он сидел, чувствуя, как в нем говорит сейчас самая что ни на есть обыкновенная зависть, и не сдерживал ее. Он даже усмехнулся, представив, что́ ответит ему вечно спокойный Кият, если рассказать ему об этом: «У нас еще впереди мировая революция». Да, может быть, и стоит утешаться разве что только этим…
Кругом него доставали листки бумаги, карандаши, готовились записывать, прилаживая бумагу на коленях, на спинах сидящих спереди. Курбатов досадливо поморщился: забыл-таки взять сшитую еще в Печаткино тетрадку.
Секретарь Цекамола – его показали Яшке еще вчера, – невысокий, широкоплечий, в поношенной синей рубашке с расстегнутым воротом, нервничал. Он то и дело посылал ребят, окружавших его, в коридор. О нем тоже рассказывали всякое, и в рассказах, по-видимому, переплетались правда и вымысел. Душевный и вместе с тем крутой человек, он мог остаться голодным на несколько дней, отдав свой хлеб другу, но, когда комсомольский стихотворец написал о секретаре, что тот сам тайком сочиняет стихи, – говорят, секретарь, от негодования задрожав, обругал поэта обыкновенной прозой.
Время тянулось долго; то один, то другой член президиума вставал и не очень настойчиво просил делегатов:
– Товарищи, очистите сцену! В зале полагается сидеть, товарищи…
Но все, сидящие на сцене, молчали и единодушно не слышали его. Зато если кто-нибудь кричал – «Тихо, товарищи!» – сразу, словно по какому-то волшебству, замирал этот огромный, гудящий, похожий на взбудораженный муравейник зал, и невольно все глядели на дверь возле сцены. Почему-то казалось, что именно оттуда должен выйти Ленин.
Яшка не уловил короткого мгновения, когда в зале что-то произошло. Сначала это было легкое, едва заметное движение в первых рядах, к которым он сидел лицом. Затем люди начали вставать, и словно какая-то невидимая волна прокатилась от первых рядов до последних. Яшка только услышал короткое, как бросок, слово – «Он!» – и, обернувшись, замер.
Возле дверей, ведущих на сцену, стоял невысокого роста человек в черном пальто. Кепку он снял – и Яшка прежде всего увидел огромный, светлый, крутой ленинский лоб. Уже потом он разглядел золотистые, хитровато улыбавшиеся глаза, прикрытые тяжелыми веками, знакомый по портретам овал лица и эти усы, и короткую бородку. Ленин был не таким, каким Яшка представлял его себе, и вместе с тем почувствовал, что будто давным-давно где-то видел его именно таким, каким увидел сейчас.
Потом он не мог вспомнить ничего, кроме того, что вместе со всеми до боли в ладонях хлопал, кричал одно только слово – «Ленин».
Ленин стоял, перекинув свое пальто на спинку стула. Несколько раз он поднимал руку, а овация все росла, росла и ширилась. Это был не просто порыв, нет! Это огромная любовь и огромное счастье – целое море любви и счастья выплескивалось из человеческих берегов.
Владимир Ильич нетерпеливо ждал, все чаще и чаще оборачиваясь к президиуму и что-то говоря: его слов не было слышно. Секретарь Цекамола, подняв над головой колокольчик, яростно потрясал им – не было слышно и этого колокольчика. Ленин сунул большие пальцы рук за вырез жилета, стремительно наклонился к залу, потом вынул часы и показал их: время дорого. Какое там! Это была лавина, неудержимый поток, и Ленин понял: надо переждать!
Яшка слышал, как председательствующий, перегнувшись через стол, кричал, стараясь перекричать грохот:
– Владимир Ильич!.. Как объявить ваше выступление?.. Выступление, говорю, как объявить? Доклад о текущем моменте?
Ленин отрицательно качнул головой. Его ответа не было слышно, и, по-видимому, его не расслышал и председательствующий.
Наконец зал затих. Вдруг неожиданно наступила такая тишина, что стало слышно, как хлещет по стеклам косой дождь и они тонко дребезжат.
Ленин подошел к краю сцены и как-то быстро, по-деловому, сказал, оглядывая ряды:
– Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, каковы основные задачи Союза коммунистической молодежи и в связи с этим – каковы должны быть организации молодежи в социалистической республике вообще.
Питерские делегаты – видел Яшка – слегка задвигались; матросы после этих слов расселись поудобнее, и Яшка подумал, что кому-кому, а им-то эти задачи дай бог как известны: где им только не приходилось воевать и придется воевать еще. «Очевидно, с Врангелем», – мелькнула мысль.
Владимир Ильич уже освоился на этой узкой сцене, заставленной стульями. Он даже прошелся по ней, откинув назад полу пиджака и снова засунув большой палец правой руки в вырез жилета. Яшка Курбатов, повернувшись и почти навалившись на соседа, хорошо видел его; был момент, Ильич подошел почти вплотную и быстро взглянул на Яшку. И тут же перевел взгляд на зал, выбросив вперед правую руку.
– И вот, подходя с этой точки зрения к вопросу о задачах молодежи, я должен сказать, что эти задачи молодежи вообще и союзов коммунистической молодежи и всяких других организаций в частности можно было бы выразить одним словом: задача состоит в том, чтобы учиться.
Он особенно подчеркнул это последнее слово – «учиться»; и тут же сосед толкнул Яшку в бок:
– Что, что он сказал?
Ленин не мог не заметить, как по залу прошел легкий шорох. Лица делегатов медленно менялись: только что они были напряжены; люди ловили каждое ленинское слово, вдумывались в него, настраивались на другое – на большой разговор о продолжении войны, о том, что надо покончить с Врангелем, надо бороться с разрухой. И вдруг – это «учиться», да еще сказанное так, особенно твердо, непререкаемо.
Кто-то переглянулся, кто-то со скрипом двинул стулом… Владимир Ильич, глядя в зал, чуть заметно улыбнулся и продолжал говорить, подавшись вперед:
– Я должен сказать, что первым, казалось бы, и самым естественным ответом является то, что союз молодежи и вся молодежь вообще, которая хочет перейти к коммунизму, должна учиться коммунизму.
Курбатов ничего еще не понимал. Учиться коммунизму – это чему именно и как? Очевидно, не понимал этого не он один. Ленин, на секунду задумавшись, пояснил свою мысль:
– Что же нам нужно для того, чтобы научиться коммунизму? Что нам нужно выделить из суммы общих знаний, чтобы приобрести знание коммунизма?
Опять зал замер. Каждый, словно ухватившись за невидимую ниточку, начинал разматывать новый клубок, а Ленин будто помогал в этом, подробно объясняя каждое положение.
– Естественно, что на первый взгляд приходят в голову мысли о том, что учиться коммунизму – это значит усвоить ту сумму знаний, которая изложена в коммунистических учебниках, брошюрах и трудах. Но такое определение изучения коммунизма было бы слишком грубо и недостаточно… Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой…
При словах «без работы, без борьбы» Яшка легко вздохнул. Это-то ему было понятно. А Владимир Ильич уже говорил о старой школе, с какой-то злой, пожалуй, интонацией в голосе, – о том, что было в ней чуждого, почему она была лживой. Тут же он, предостерегающе подняв руку, сказал:
– Но вы сделали бы огромную ошибку, если попробовали сделать тот вывод, что можно стать коммунистом, не усвоив того, что накоплено человеческим знанием.
Курбатов подался вперед. Он не успевал обдумывать каждое слово, хотя бы фразу; они западали в него и ложились где-то, и он скорее чувствовал, чем понимал все то, о чем говорил сейчас Ленин.
Он старался запомнить все. И то, почему стало всемирным учение Маркса, и что такое пролетарская культура, и что надо взять от старой школы. Когда же Владимир Ильич, заканчивая мысль, сказал: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», – Курбатов растерянно начал шарить по карманам: нет, бумаги не было. На него зашикали, – «не крутись».
Он все-таки нашел клочок бумаги и записал эту фразу; вторая половинка листка ему была нужна для того, чтобы послать Владимиру Ильичу вопрос.
А записки уже шли из зала. Владимир Ильич брал их и, не разворачивая, клал в карман. Сейчас он переходил к главному в своей речи – к обобщению того, что уже было сказано и стало ясно всем.
– У предыдущего поколения задача сводилась к свержению буржуазии… Перед новым поколением стоит задача более сложная… Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, только овладев всем современным знанием, умея превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, программ в то живое, что объединяет вашу непосредственную работу, превратить коммунизм в руководство для вашей практической работы.
Все глубже и глубже заглядывал Курбатов куда-то в далекие времена, которые словно бы приблизились, открылись ему сейчас, и стало видно кругом то, что еще совсем недавно было только в догадках, предположениях, сомнениях…
Ленин улыбался навстречу сотням молодых, ясных, светящихся лиц. Он держал в руке какую-то бумажку, очевидно конспект речи. Но то ли речь шла так живо, что не укладывалась в рамки конспекта, то ли новые мысли обгоняли те, которые были в конспекте, – он не заглядывал в него.
Но вот сказаны последние слова о том, что поколение, которому сейчас пятнадцать лет, увидит коммунизм. О том, что мы победим и что победа в строительстве нового мира будет еще более твердой, чем во всех прежних битвах. И никто поначалу не понял, что Ленин кончил свою речь. Все молчали, словно дослушивая уже свой, внутренний голос. Владимир Ильич поднял руку, устало провел по лбу и, повернувшись к столу, начал разбирать записки… Кто-то вскочил, придвинул ему стул.
И только тут снова грохнула буря аплодисментов; казалось, стены ее не выдержат…