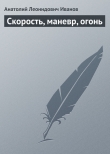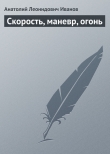Текст книги "Далекая юность"
Автор книги: Петр Куракин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
4. Выдержит ли?
Нового секретаря, как и думалось Чухалину, пришлось «тянуть». Его «тянули» уже на втором субботнике, потихоньку, незаметно от других, чтобы на первых же шагах «не подрывать авторитета», как позже, разговаривая с Чухалиным, выразился Пушкин.
Субботники вошли в жизнь завода как нечто обязательное, обыденное, без чего завод не мог существовать. После работы десятские давали сведения о том, сколько сделано. Однажды, сдавая такие сведения, Яшка с азартом сказал Пушкину:
– Смотри, дядя Захар, сколько я сегодня сделал: больше, чем в прошлый раз. Я думаю, еще больше сделаю.
– Кто, говоришь, сделал? – спокойно спросил Пушкин.
Яшка смутился и уже не сказал, а промямлил:
– Я… дядя Захар, я сказал, что вот двадцать две сажени перенесли и напилили.
– Значит, все же «напилили», говоришь? – с насмешкой переспросил Пушкин. – Как же ты это?.. Работали все вместе, а ты вроде бы об одном себе говоришь?.. Вот Чухалин тоже «якать» стал. Я да я! «Мой завод», «я сделал», «у меня на лесной бирже», «мои лошади». Нехорошо как-то получается. Конечно, ответственность у него больше, чем у тебя, и подчиняться мы ему во время работы должны. Но «якать» зачем? У нас все общее. Народ всему хозяин.
Передавая этот разговор Чухалину, он повторил все, что сказал Яшке, и Чухалин рассмеялся:
– И меня воспитываешь. Ох, и хитрый ты, Захар!.. Ну, да верно. Верно!.. Трудно Курбатову еще.
Он не ошибся. Яшке действительно приходилось нелегко. На его плечи вдруг взвалили необычайно большую и незнакомую ему работу. После смены он шел к Булгакову, и тот, сам уставший до предела, учил его. Именно учил, начиная с того, как проводить комсомольское собрание, и кончая разбором ленинской работы «Что делать?». Яшка только до боли стискивал зубы, чтобы не крикнуть: «Я же устал! Разве вы этого не видите?»
Булгаков все видел. Однажды после одного такого занятия он, провожая Яшку до дверей, тихо и ласково спросил:
– Что, парень, нелегкая, выходит, дорога в большевики?
* * *
Да, нелегкая…
Он работал на заводе с каким-то исступлением, забывая обо всем: и о том, что с фронта вернулся раненый в палец Трохов, – всего и провоевал два дня! – и что на танцах в клубе Трохов неизменно вьется около Клавы, и что дома у него хоть шаром покати, и, если Марфа Ильинична не покормит сегодня, ходить ему голодным. Яшка работал нетерпеливо, будто стараясь обогнать самого себя. Как-то мастер Мелентьев поручил ему сложный ремонт большой вращающейся печи. Мелентьев дал Яшке подручного, рассказал, какой надо делать ремонт и где взять запасные детали.
Печь стояла в кислотном отделе. Ремонт был срочный, времени дали мало. Яшка подгонял своего подручного. Часто приходилось выбегать на улицу и дышать свежим воздухом: в цехе стоял едкий пар. Яшка решил не выходить больше на улицу: «Ничего, выдержим, а то времени совсем с гулькин нос».
В горле жгло, глаза покраснели, воспалились. Горькая слюна, остро пахнущая серой, заполняла рот. Закончив ремонт, оба уже не могли слезать с печи. Подручный как-то боком повалился на ее дно, и Яшка, пытаясь помочь ему подняться, почувствовал, как сам теряет сознание. Ребят стащили с печи и вынесли на улицу; оба были в обмороке.
Первым в больнице очнулся Яшка; его начало рвать, да так, что казалось, внутренности готовы вывернуться. Рвота была с кровью. Врачи уверяли, что отравление серьезное, но Яшка наотрез отказался снова лежать в больнице и к вечеру, улучив момент, попросту сбежал.
На следующий день возле проходной уже висел специальный приказ директора завода Чухалина, в котором Яшке и подручному объявлялась благодарность; кроме того, им была выдана премия-по пять фунтов на брата сушеного урюка, который рабочим отпускали в лавке вместо сахара.
Яшка ходил гоголем. Пять фунтов урюка, конечно, на улице не валяются, но благодарность, которую прочли чуть ли не все в поселке, – это посерьезнее. Да и такой ремонт поручался обычно только слесарю шестого разряда.
А потом Яшка «сорвался». Мастер вызвал его и, шевеля густыми бровями, сказал:
– Пойдешь сушильный агрегат ремонтировать. Знаешь, в отжимном отделе.
Он стал медленно объяснять Яшке, где и что надо сделать, Курбатов стоял и слушал его, с нетерпением перекладывая из руки в руку зубило. Наконец он не выдержал:
– Дядя Ваня, да что я, маленький, что ли? Сам знаю…
Всегда доброе лицо мастера стало злым. Мелентьев вспылил:
– Видишь ты, всезнайка какой! Молокосос, индюк надутый! Вот ведь сколько тебе надо: раз поблагодарили – а ты уже и нос задрал. Я давно замечаю, как ты этаким фертом ходишь, а еще, оказывается, и знаешь все. Мне вот скоро пять десятков, а я, старый дурак, до сих пор считаю, что знаю всего ничего… До сих пор, у кого можно, учусь, ко всему приглядываюсь.
Яшка стоял красный. А мастер все еще кипел. Однако тон его был уже другой, более Душевный, поучительный:
– Запомни, павлин мокрохвостый, что я скажу. Вот ты сделал досрочно ремонт печи – завод и не встал на простой. Тебе и благодарность объявили и пять фунтов урюку выдали за старание. А знаешь ли ты, что, прежде чем пустить печь, я сам осмотрел твой ремонт? У двух болтов на фланцах гайки на две нитки отходили. Думаешь, если бы я недоглядел, долго печь работала бы? Да я про это никому не сказал, сам довернул гайки. Тебя пожалел: видел, что стараешься. Выходит, зря я не сказал…
Когда Яшка услышал это, он вспомнил, что гайки завинчивал подручный и работу Яшка не проверил. А ведь он отвечал за ремонт.
Сейчас он стоял, стараясь не смотреть на Мелентьева. «Стыдно, ой как стыдно!» От стыда щеки у него пылали. И урюк, съеденный им, был не в сладость. А верно, он хвастался, Клаву этим урюком угощал. Хвастался перед Титом Титовичем, перед Чухалиным. Но одна Марфа Ильинична вслух похвалила его, остальные только слушали, а старик Алешин – вспомнил Яшка – лишь неопределенно улыбался.
– Давайте, дядя Ваня, рассказывайте о ремонте, – пробормотал он.
Тот усмехнулся, отворачиваясь.
– Нет, Яша, теперь я тебе этого ремонта не дам. Возьми-ка ты керосину да тряпок да промой как следует сушильные цилиндры, чтобы на них никакой ржавчины не было.
Яшка не ожидал этого. Он чувствовал себя уничтоженным окончательно.
– Дядя Ваня… а ведь это… прочистить-то и ученики смогут. Мне три года назад эту работу давали.
– Вот и сделай как следует. А работы ты никакой не бойся. Всякая для человека не зазорна.
Так «тянули» Яшку большевики, рабочие. Горько было ему порой, но он держался. Как-то раз, взглянув на себя в зеркало, увидел Яшка, что губы у него незнакомые, плотно сжатые, с двумя короткими черточками по краям.
Чухалин при встречах говорил с ним обычно как со взрослым, но Яшка не знал, что в глубине души Александр Денисович тревожится: «Выдержит ли? Тонка еще кишка у парня».
5. На субботнике
Дни были короткие, а вечера длинные, темные. Днем ярко светило солнце. Кое-где на крышах начинало подтаивать; в воздухе уже чувствовался еле уловимый запах весны – трудной весны двадцатого года.
В один из вечеров при ярком свете больших электрических ламп курбатовская «десятка», давно завоевавшая почетное место в числе передовых бригад, работала на субботнике: пилила на лесной бирже бревна. Ребята накатывали бревна на штабеля, подавали под пилу, а чурки укладывали на «козлы»; там девушки снимали кору.
Все шло хорошо. По обыкновению шутили, беззлобно переругивались и, разгибая занемевшие спины, закуривали.
До конца работы оставалось минут пятнадцать. Вдруг загремели бревна, раздался пронзительный девичий крик, и Яшка, вздрогнув, кинулся к штабелю.
На утоптанном грязном снегу сидела Клава, обеими руками обхватив ногу. Скатившееся со штабеля бревно задело ее; и хотя она только вскрикнула, не заплакала, Яшка перепугался: бревно могло переломить ногу, как тростинку.
Ребята помогли Яшке поднять Клаву, но стоять она не могла.
– Как кончите, давайте в столовую, – сказал Яшка, – а я ее до дому провожу. Возьми, Валька, мой талон, похлебку съешь, а хлеб захвати домой, я забегу.
Ребята пошли работать. Яшка остался с Клавой. Он помог ей встать и крепко взял под руку. Клава попробовала было идти, сделала шаг, вскрикнула и опустилась на снег. Яшка не на шутку встревожился:
– Давай-ка держись за мою шею, – нагнулся он к Клаве, – я тебя на закорках попробую.
– Что ты, Яша! – тихо и протестующе подняла руки Клава.
Все-таки она крепко обхватила его шею. Яшка поднял ее и понес. Идти было далеко, не меньше километра. Клава крепко сжимала горло Яшки; тогда он хрипел:
– Не дави на горло. Задушишь.
Клава была тяжелая в своем зимнем тулупчике. Три раза Яшка отдыхал, сажая девушку то на попавшуюся поленницу дров, а то и просто на снежную дорогу. Уже выбившись из сил, он дотащил Клаву до крыльца.
Открыла им Марфа Ильинична. Увидев Яшку с Клавой на спине, она ахнула, отшатнулась и заплакала.
Потом Марфа Ильинична, немного успокоившись, суетилась около Клавы. Яшка хотел было уйти: может быть, успеет в столовую, а потом надо еще почитать дома «Коммунистический Манифест» – Булгаков будет проверять. Но Марфа Ильинична и слышать не хотела об уходе.
– Да куда тебе идти? Здесь поешь, да и отдохнешь у нас. Вон лицо-то какое, ровно у шкелета.
Яшка взглянул на Клаву и уловил в ее глазах какой-то особенный блеск. Такими глазами Клава еще не смотрела на него. Яшка остался. Он снял спецовку, вымыл на кухне грязные руки, по нескольку раз намыливая их и стряхивая ледяную воду. Когда он вернулся, Марфа Ильинична стаскивала с Клавы валенки. Один валенок валялся на полу, второй старушка снять не могла. Как только она бралась за ногу, Клава бледнела и откидывала назад голову.
– Разрезать, бабушка, валенок нужно, иначе ничего не выйдет. Наверное, нога распухла, – сказал он.
Старуха махнула рукой.
– Давай режь, Яша. Шут с ним, с валенком! Сходи, там на кухне ящик стоит с сапожным инструментом, возьми ножик.
Яшка сходил, принес нож и стал разрезать голенище. Руки дрожали; он краснел и не глядел на Клаву, не понимая, что с ним творится. Бабушка начала снимать с Клавиной ноги чулок, и Яшка отвернулся.
Нога у Клавы сильно распухла и стала багрово-синей. Бабушка, все еще причитая, отжимала тряпку, потом попросила Яшку помочь придвинуть Клаву к столу. Но как придвинешь, если пол крашеный и стулом его поцарапаешь? Яшка, как ребенка, поднял Клаву на руки и перенес к столу.
Поужинали. Яшка хотел было уйти.
– Не уходи, Яша, посиди, – попросила Клава. – Дедушка на работе, папа еще на субботнике. Не уходи, сегодня ведь в ячейке ничего нет. Давай что-нибудь почитаем…
Он молча согласился.
Яшка читал вслух и ничего не понимал. Клава тоже ничего не понимала. Ею владело, видимо, такое же чувство, и она первая остановила чтение.
– Хватит, Яша. Давай лучше посидим, помолчим…
Они были вдвоем в комнате: Марфа Ильинична хлопотала на кухне. Клава закрыла лицо обеими руками и о чем-то думала. Потом она, словно очнувшись, взяла Яшкину руку и тихо пожала ее. Яшка растерялся.
В комнату вошла Марфа Ильинична, и он поспешно вскочил.
– Пойду я, Клава…
– Посиди, – шепнула она. – Тебе недалеко идти, из крыльца в крыльцо. Хотя нет… Иди ложись спать.
Яшка пришел к себе в барак. Его сосед, Валя Кият, уже спал. Стараясь не шуметь, Яшка разделся и лег на свой топчан. Он лежал и улыбался в темноте. Новое, тревожное и вместе с тем радостное чувство не проходило.
* * *
Нога у Клавы разболелась, ходить она не могла. Яшка каждый вечер прибегал к Алешиным, усталый, измотанный. Из губкома пришла директива подготовить бригаду на сплав. Весна была не за горами.
Всякий раз, навещая Клаву, Яшка все больше и больше убеждался, что теперь в их отношениях появилось что-то особенное. Сейчас он уже не мог не чувствовать какую-то близость Клавы.
Однако они по-прежнему только читали вслух да играли в «подкидного дурака». Яшка не решался сказать Клаве о том, что он чувствовал.
Клаве надоело сидеть дома. Как-то вечером она пожаловалась:
– На воздух хочется, а ходить не могу. На крыльцо и то не выйти.
Она даже вздрогнула, когда Яшка, ни слова не говоря, не одеваясь, выбежал в сени; хлопнула входная дверь.
В бараке, где он жил, стояли финские сани с длинными – полозьями и высоким сиденьем – креслом. Он быстро вытащил сани на улицу и подогнал к дому Алешиных. Яшка раскраснелся, тяжело дышал, но на лице сияла улыбка.
«Чего же я ей на больную ногу дам? Даже дедушкин валенок не влезет, нога толсто увязана», – задумалась Марфа Ильинична. Потом она что-то вспомнила, ушла и вернулась с куском овчины. Вместе с Яшкой она бережно укутала больную ногу Клавы. На руках он вынес Клаву на улицу, усадил в финские сани и встал сзади на длинный полоз.
Они ехали по тихой, безлюдной, темной улице поселка. Небо было звездное; луна разливала свой холодный бледно-голубой свет. Снег скрипел под полозьями, искрился и вспыхивал. Высоко в небе виднелась широкая полоса Млечного Пути.
Стояли последние зимние крепкие морозы. Порою слышалось сухое потрескивание, о котором говорят, что это «морозко грозится» – на холоде трещали деревья.
Долго ехали молча, словно боясь нарушить тишину. Первой заговорила Клава:
– Красиво, верно? Сейчас бы побежать да в снег… Как это стихотворение про мороз? Помнишь его?
Яша стал тихо декламировать; ему, как и Клаве, не хотелось сейчас громко говорить.
…Метели, снега и туманы
Покорны морозу всегда,
Пойду на моря-океаны —
Построю дворцы изо льда.
Незаметно они очутились на окраине поселка; дальше белело, теряясь в темноте, занесенное снегом болото. Холодный ветер резал щеки и бросал в лицо тучи мелкой снежной пыли. Яшка развернул сани так, чтобы ветер не дул в лицо. Стало теплее. Они простояли несколько минут. Во всем – в этой поземке и самой темноте – была какая-то притягательная сила.
– Наклонись ко мне, – тихо попросила Клава.
Яшка наклонился к ее лицу, и девушка, обхватив его, поцеловала в губы и отвернулась.
Яшка опустился на снег. Он не сразу понял, что произошло. Вдруг он бросился к Клаве, обнял ее и стал быстро говорить, путая слова, почти рыдая:
– Клавочка!.. Родная моя… Теперь я знаю, что это со мной… Всю жизнь!..
Он опомнился.
– Что же дальше-то будет, Клава? – робко и неуверенно спросил он у девушки, и та вдруг засмеялась, щуря глаза от ветра.
– Как что? Да ничего! Мы с тобой долго дружили, а теперь тоже… будем долго дружить… Глупый ты еще, Яшенька!
Пора было ехать обратно: Марфа Ильинична, надо полагать, волновалась. Яшка нехотя повернул сани. Холода он не чувствовал. Самый родной, самый близкий человек сидел перед ним. Он видел только платок да прядь волос, выбившуюся наружу, занесенную снегом, и щекой прижался к этому платку.
– Глупый ты, Яшенька! – снова с ласковым упреком повторила Клава. – Тебе еще семнадцать, а я старше тебя, мне уже восемнадцать. Что дальше? Да ничего! Пускай никто об этом не знает. Ты только не выдавай себя при народе. А то ты на танцах все время сердишься, когда я с другими танцую. Мне даже обидно делается.
Яшка вдруг буркнул, нахмурившись:
– Я сержусь, когда ты с Мишкой Троховым танцуешь. Не люблю я его, трепача. Вояка!.. В палец ранило… Да у нас в ячейке все говорят, что он себе палец прострелил. Вот только как доказать это. А потом… Смотреть противно, когда он языком себе губы лижет.
– Это в тебе ревность говорит, – засмеялась девушка. – Мне вот кажется – он совсем неплохой парень. И что на продсклад его послали – тоже так надо ведь кому-то и на складе надо работать.
Яшка не сдавался, чувствуя, как раздражается и совсем некстати начинает говорить резко, вот-вот поссорится.
– Ты послушай, как он заливает. На складе мог бы и старик сидеть. Зачем он таким пижоном оделся? На какие шиши фасонистую форму завел? Вон ребята говорят: не иначе как продуктов нахапал.
Злость душила его. Но Клава не оборачивалась и не видела, как у Яшки по лицу пошли темные пятна.
– Зачем же ты так о человеке говоришь? Не знаешь, а говоришь.
– О Мишке все так говорят, – снова буркнул он. – Хочешь, спроси о нем отца.
– Никого я спрашивать не буду. Сама разбираюсь. Мало ли что говорят. Одно время и про тебя говорили «алкоголик», «хулиган». Ну, мы, кажется, приехали?
Они не заметили, как добрались до дома. В окнах горел свет, и тень Тита Титовича двигалась по замерзшему окну. Яшка несколько раз согнул и разогнул онемевшие пальцы, поднял Клаву и понес к дверям.
Простились они сухо, и Яшка ушел с ощущением чего-то неприятного. Что-то было недоговорено, какой-то холодок вдруг прополз между ними; хотя, вспоминая этот вечер во всех подробностях, он не мог разобрать, что же так взволновало его и откуда появился этот холодок.
6. На сплав
Основным сырьем для завода были металл и древесина. Для заготовки древесины у завода были свои лесоразработки. Лес сплавлялся сначала в реку Кубину; на Высоковской запани бревна сбивались в плоты, и два буксирных парохода тянули их через огромное Кубинское озеро в реку Сухону, на которой стоял завод.
Май выдался теплый. Весна была в разгаре, а из-за паводка сплотка древесины в Высоковской запани прекратилась. Заводу угрожала остановка. Весенние паводки никогда не были здесь неожиданностью; их побаивались и готовились заранее. Но когда Чухалину сообщили, что ночью бревнами разбило часть запани, он заволновался не на шутку. Данилов, уезжая, все-таки сказал ему:
– За то, что не в твоих силах, ругать не имеем права. Но если что-нибудь по твоей вине случится, ответишь перед партией. Знаю, трудно все усмотреть, но надо.
Когда Курбатов, вызванный Чухалиным, вошел в кабинет, директор уже подписывал приказ об отправке комсомольской бригады на запань. Бригада комсомольцев готовилась к этой работе уже давно: ребята «для практики» учились разбирать лес на Сухоне.
Страшно было смотреть, как какой-нибудь лихач, стоя на крутящемся бревне, орудовал багром, подгоняя другие бревна. Ледяные ванны не останавливали ребят, а случалось, в воду летели многие.
Не поднимая головы, Чухалин отрывисто спросил:
– Кого бригадиром?
– Меня, – удивленно пожал плечами Яшка.
– А посерьезнее? – строго вскинул на него глаза Чухалин.
– Чего ж посерьезнее? – обиделся Курбатов, – Что, я работать не умею, что ли?
Чухалин качнул головой и крякнул:
– Эк герой! А здесь за тебя дядя работать будет? Нет у тебя такого подходящего дяди. Так что проводить – проводи, но дальше пристани не пущу. Бригадиром, я думаю, назначим…
– Кията, – не дал ему договорить Яшка.
Наутро Яшка стоял на пристани и с грустью смотрел, как ребята поднимаются по шатким мосткам, раскачиваясь и широко разводя руки. Жаль было расставаться с Клавой, Киятом, но на пристани стояла обычная предотъездная сутолока, и никто не замечал Яшкиного настроения. Только Клава угадала его состояние.
– Яшенька, ты что? Мы же скоро… Да и ты, наверное, выберешься.
– Я не о том!.. – махнул он рукой. – Ты береги себя… Осторожней на сплотке.
Клава рассмеялась и, спохватившись, быстро пожала Яшкину руку. Буксирчик, сипло прогудев, шлепнул плицами по воде, и вода вспенилась, будто закипела. Ребята стояли вдоль борта, облепили рубку, что-то кричали. На корме, чуть в стороне от остальных, сидел на канатной бухте Валя Кият, но смотрел он не на берег, а куда-то в сторону.
Впервые за все время они разговорились этой ночью, накануне отъезда. Яшка спросил его:
– Где у тебя семья? Кто есть у тебя?
Кият промолчал, и Яшка смутился: молчание стало томительным.
– Не знаю, – наконец отозвался тот. – Отец погиб… при взрыве.
– Да, да, – поспешно, далее, пожалуй, чересчур поспешно перебил его Яшка, – ведь и у меня мать.
– Ну, а где мои остальные, не знаю. Где-то Там, в Эстонии.
Они просидели до утра на одной кровати, и – странная вещь! – Яшка, сам того не замечая, рассказал Кияту все, начиная с того, как его били в полицейском участке и кончая темным заснеженным полем, возле которого как-то ночью стоял рядом с Клавой. Он и сам не мог понять, почему вдруг так разоткровенничался, но утром, провожая ребят, почувствовал, что ему жаль расставаться с этим парнем.
Долго были видны все уменьшавшиеся фигурки ребят, и среди них выделялась белая, словно седая, голова Вали Кията, все так же неподвижно сидевшего на корме.
7. Лобзик
Кто-то тронул Яшку за рукав. Позади него стоял ученик из варочного отдела, худенький, большеглазый Лобзик.
– Идем? Нам сегодня днем дежурить.
Они шли рядом, и Лобзик без умолку тараторил, что это безобразие – назначать комсомольцев дежурить по ЧОНу днем и что надо обязательно пойти к чекисту Громову или начальнику ЧОНа Чугунову: пусть переводит на ночные дежурства. А то какое это дежурство, ходи себе да поплевывай по сторонам.
Курбатову Лобзик нравился. Казалось, у него не было ничего, кроме огромных черных глаз да удивительной способности говорить без остановки хоть все двадцать четыре часа в сутки. Ребята смеялись на ним: «Лобзик, а тебя как заводят?»
Никто не знал, откуда он появился здесь, на заводе, где он жил до этого, что делал, где его родители.
Лобзик то забегал вперед Яшки и, отчаянно жестикулируя, доказывал, что с этим безобразием пора кончать, то шел позади и спрашивал:
– Так ты пойдешь к Чугунову? Нет? Тогда я сам пойду, и я…
– Да остановись ты, – взмолился Яшка. – Голова разболелась.
– А я не могу, – выкатывая и без того огромные глаза, серьезно ответил он, – У меня там, – он ткнул себя в горло, – какая-то дрянь сидит, понимаешь? И говорить охота, будто прыщ какой чешется. Так пойдешь к Чугунову?
Яшка вспомнил, как он сам ходил хвостом за Чугуновым, вымаливая у него «Смит-Вессон», и, рассмеявшись, хлопнул Лобзика по спине.
– Ладно, идем. Ну и костлявый же ты! Всю руку о твои кости исколол.
– Девчонкам нравится, – хмыкнул Лобзик.
– Что? – Яшка от удивления и неожиданности спросил, заикаясь. – К-как ты… г-говоришь?
– Нравится, говорю. Гляди.
Он оглянулся, нет ли кругом людей, и, вытащив из штанов рубаху, задрал ее до подбородка. На вдавленном куда-то под ребра животе была вытатуирована большая синяя змея, несущая в зубах обнаженную женщину. Лобзик пошевелил мускулами, и змея тоже зашевелилась, зашевелилась и женщина, развела руки, словно моля о пощаде.
– Видал? Я как девчатам покажу – визжат от страха. А нравится…
Так нелеп был этот переход от чоновских дел к татуировке, что Яшка, потрясенный, даже забыл спросить, откуда у него этот рисунок. Лобзик уже засовывал рубашку в штаны, довольно улыбаясь.
– Во всем мире три такие штуки. Одна у малайского пирата, другая у меня, а третья… у одного человека.
– Какого человека?
– Так… – уклончиво ответил Лобзик, поняв, что сболтнул лишку. – Был знакомый… Ну, так, значит, к Чугунову?
– Ты ему покажи это, – полушутя, полусерьезно посоветовал Яшка. – Может, за такую диковинку он тебя в специальный чоновский музей отправит. Я слышал: есть уже такой в Москве.
Лобзик метнул в Яшкину сторону недоверчивый, испуганный взгляд.
– Слушай, Курбатов, будь друг, не говори в ЧОНе об этом… Громову не говори, а? Не скажешь, а?
Яшка насторожился. Видимо, Лобзик в своем хвастовстве зашел дальше, чем хотел, и теперь струсил.
Яшка спросил как можно равнодушнее:
– Что же у тебя за тайна такая? Девчонки, говоришь, видели, а Громову нельзя? Подумаешь, змея с теткой…
– Не говори, – взмолился Лобзик, – Я лучше тебе скажу, если слово дашь. Ну, комсомольское?
– Ну, комсомольское, – все еще стараясь казаться равнодушным, повторил Яшка.
– Я ведь по тюрьмам шлялся… И кончил, шабаш… Мне в Бутырках печенки отбили… Я Дзержинскому письмо написал. Судили виновных. А потом, знаешь, Дзержинский в больницу приходил. Говорит – в колонию, а я собрал барахлишко свое и рванул когти… сюда.
Яшка не заметил, что шли они медленно и что так случайно начавшийся разговор вдруг стал напоминать тот, вчерашний, ночной, который Яшка вел с Киятом.
– Боюсь я все-таки Чека, – со вздохом признался Лобзик. – Так что не говори, Курбатов, а?
Яшка неожиданно обнял его одной рукой за острое, выпирающее, худое плечо и то ли с удивлением, то ли вопросительно сказал:
– А ведь ты вроде ничего парень, Лобзик!
Чугунов был в помещении ЧОНа. Он сидел за столом, грузный, злой, небритый, будто невыспавшийся, и, постукивая по выскобленным доскам своим кулачищем, читал какую-то бумажку. Яшка заметил, что, когда они вошли, Чугунов поспешно спрятал ее в карман.
– A-а, орленки. Чего вам? Уже на дежурство? Отменяется.
– Почему?
– В ночь будете дежурить. Приказ пришел. И вот что, ребятки, садитесь-ка… Дело тут такое… Ну, прямо скажем, плохое получается дело. В городе застукали одну группку; они и раскололись – рассказали на допросе в Чека, что подготовлен поджог у нас на заводе. Поняли? Днем-то, на людях, не подпалить, а вот ночью будем высылать усиленные наряды. Когда у вас смена?
Яшка ответил, и Чугунов кивнул.
– Ну, вот и валяйте. Отработаете, сосните минуток так полтораста – и сюда.
Когда они вышли от Чугунова, Лобзик рассмеялся.
– Чего ты?
– Да ничего. Весело все получается. Ты разбудишь меня по пути, а?
Яшка, шагай впереди, не ответил. Уже у самых заводских ворот он, будто вспомнив что-то, обернулся.
– Вот что… После смены ко мне пойдем. Кият уехал, ложись на кровать. Барахлишко только захвати – одеяло там, подушку…
Лобзик как-то странно сверкнул на Яшку своими черными, как антрацит, глазами и улыбнулся.
– Значит, корешки?
– Какие еще «корешки»? – буркнул, не поняв, Курбатов. – Говори уж со мной по-русскому.
– Ну, дружки, значит? Гроб, могила, три креста…
Яшка оборвал его:
– Забудь ты эти свои штучки, Лобзик, могилы там или эти… когти. И о тюрьме у нас с тобой разговора не было. Точка.
Уже входя в цех, он подумал: «Что это он со мной так разболтался? Молчал, молчал – и нате вам». И тут же ответил сам себе: «А ты? Все Кияту выложил… Душа, что ли, требует?»