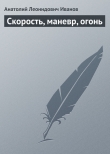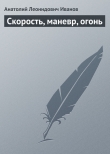Текст книги "Далекая юность"
Автор книги: Петр Куракин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
13. В землянке
Есть только радость…
Как они быстро прошли, эти три месяца! Облетел ивняк, заслонявший вход в пещеру. Отсюда, сверху, разом открылись взгляду побуревшие поля, уходящие куда-то в сиреневую дымчатую даль дремучих лесов. Рощи на противоположном берегу реки пожелтели, все меньше и меньше становилось на деревьях листьев. По ночам высоко в звездном небе тянули к югу косяки диких уток; далеко-далеко был слышен свист их крыльев в холодном осеннем воздухе.
А потом наступили ясные солнечные дни «бабьего лета». Пролетели и они. Выпал первый снег, мокрый, липкий, и стаял не залежавшись.
Прошли дожди. Косые ледяные ливни сорвали с деревьев последнюю листву. По ночам подмораживало, ветер стучал в крепкие ставни, заменявшие дверь пещеры. Выглянув как-то утром, Яшка увидел, что река побелела у берега: тонкий ледок сковал за ночь тихие заводи.
Три месяца! Каждый день Булгаков, кончая набирать очередную листовку, ложился на нары, подзывал Яшку и рассказывал ему о Ленине, о революции, о том, почему надо разогнать эксплуататоров. Три месяца! Яшка научился набирать на верстаке заголовки и печатать, прижимая рычагом к набору тяжелый пресс.
«Товарищи рабочие! Больше ждать нельзя. Партия призывает вас взяться за оружие в нужный момент. Пришла пора, когда мы, веками бывшие в угнетении и бесправии…»
Он сам помогал дяде Францу и Булгакову опускать на веревке в лодку тяжелые ящики. В ящиках были винтовки: Яшка знал об этом.
Часто землянка пустела; Яшка оставался вдвоем с Францем и, лежа на жесткой, сколоченной из неоструганных досок скамье, слушал, как Франц тихонько играет на губной гармошке. Как-то раз он неожиданно спросил Франца:
– Ты сюда как попал?
Франц, оторвав гармошку от губ, расхохотался:
– Вспомнил? Давно вместе живем – сейчас вспомнил? Да так, раз, два – и нет Франца.
– Сбежал? – догадался Яшка. – А ты разве тоже большевик?
– Я? Нет. Я социал-демократ… Как эта рука называется?
Он поднял левую руку.
– Ну, левая.
– Вот. Левая социал-демократ. Карл Либкнехт – слышал?
Подбирая слова, он долго объяснял Яшке, кто такой Карл Либкнехт, кто такие левые социал-демократы; и, наконец, Яшка понимающе кивнул:
– Тоже, в общем, вроде большевиков, значит…
На этом выяснение партийной принадлежности Франца кончилось, и Яшка остался доволен услышанным.
Ночью поодиночке возвращались жители землянки: Чухалин и Алешин, Бедняков, Пушкин и Булгаков. Просыпаясь, Яшка слышал их голоса; все говорили шепотом; Булгаков что-то раздраженно доказывал, а Чухалин повторял: «Ах ты, дьявол!»
Было ясно: у них что-то не ладится.
Как-то раз в землянке, кроме Франца и Яшки, остался больной Чухалин. Накануне он промок, простыл и теперь сухо кашлял, сгибаясь от боли в груди. Алешин не пустил его из землянки: «Пережди хоть день; я тебе горчичники принесу и молока с медом». И Чухалин остался. Он сидел злой, хмурый, осунувшийся, трясущийся от озноба, и словно не знал, куда девать себя, чем заняться. То и дело он подходил к выходу и глядел на пустую реку. Яшка понимал: нервничает.
Он подошел к Чухалину и, дернув его за рукав, спросил:
– Что вы все… какие-то стали, дядя Шура… Не такие какие-то.
Чухалин улыбнулся через силу:
– Какие «не такие»?
– Ну, такие… неразговорчивые.
Чухалин задумался. Подняв голову, он встретился глазами с Францем и, медленно подойдя, сел рядом на скамейку, устало растирая лицо ладонями:
– Плохо, брат, дело… Провокатор появился. За последние дни – пять арестов. По баракам обыски – нас ищут. А время такое, что люди нам позарез нужны.
– Скоро? – спросил Франц, глядя на Чухалина. Они снова понимающе переглянулись.
– Очевидно, скоро, – тихо ответил Чухалин. Он поднялся, зябко повел плечами и, что-то решив, направился к выходу.
Яшка загородил ему дорогу:
– Вы куда? Дядя Шура, вам не велели…
Чухалин хотел было засмеяться, но опять сухо закашлял; его так и било…
– А ты сам… хочешь… чтоб другая жизнь началась? Чтоб все скорей было? А?
Подойдя к выходу, он обернулся к Францу:
– Подержи веревку, пожалуйста. Ребята придут, – скажешь, я к шестерке пошел; проверю, достали ли они еще оружие. Ну, не скучать!
Он подмигнул Яшке и, обхватив веревку, соскользнул вниз по обрыву. Минуту спустя Франц, задумчиво сворачивая веревку, сказал, словно ни к кому не обращаясь:
– Какие люди!.. Я не все понимать… но это настоясчий революцьонер. Вроде он быть надо, Яша.
А Яшка думал о другом: о том, что вот сейчас идет сквозь эту глухую промозглую ночь Чухалин, идет, чтоб скорее началась другая жизнь.
Когда же через несколько дней, в одну из ночей – холодных ветреных-его подняли с теплой постели, он почувствовал, что жизнь меняется. Уже там, в лодке, Тит Титович прижал Яшку к себе, ткнулся колючим подбородком ему в щеку и, тихо рассмеявшись, сказал:
– К новой жизни едешь, адвокат! То-то! Стар я вот только… Обидно маленько.
Есть только радость!.. И как ни была холодна эта ночь, как ни метались низко по небу черные, в пепельных разводьях, разлохмаченные тучи, – только радость чувствовал Яшка, еще не зная, о какой новой жизни говорит старик и почему обидно ему от своей старости.
14. Вот она, буржуазия!
В первые же дни после Октября в пустом доме Печаткина, где тот жил, приезжая на неделю из Петрограда, шел обыск. Яшка увязался за милиционерами; милиция в поселке была новая, ее начальником Совет рабочих депутатов назначил бывшего брандмейстера пожарной команды Лукина.
Затаив дыхание, Яшка вошел в этот дом, словно нарочно спрятанный от глаз за высоким кустарником и деревьями. Впервые видел он такое богатство – золоченую мебель, ковры, разрисованные потолки, дорогие безделушки на каминной полке, столах, подставках… Лукин, заметив его удивленный взгляд, усмехнулся:
– Что, брат, красиво? То-то. Теперь эта красота наша; клуб здесь устроим.
Когда милиционеры отодвинули тяжелый, мореного дуба шкаф, Лукин захохотал: там, за шкафом, перевитые густой свалявшейся паутиной, лежали старая калоша, пустая бутылка, какие-то пожелтевшие обрывки бумаги.
– Вот она, буржуазия! – смеялся Лукин. – Наверху красота, а под ней пустота да калошина драная. Ну-ка, Яшка, беги в завод к уборщицам, пусть приходят с тряпками и ведрами.
На улице Яшка едва не сбил с ног Чухалина и торопливо, сбивчиво, захлебываясь от восторга, рассказал ему о доме Печаткина. Чухалин слушал его задумчиво; Яшка почувствовал, что он чем-то озабочен, и дернул его за рукав:
– Вы чего, дядя Шура?
– Да так, Яша. Понимаешь, дело-то какое… Меня комиссаром на завод назначили… Вроде бы тоже старые печаткинские калоши выносить надо. Барахла-то его здесь много скопилось. Да ты иди, иди…
Яшка помчался дальше, не подумав над словами Чухалина.
А «барахла», о котором он говорил, было действительно много. И вот уже 14 ноября Советское правительство ввело рабочий контроль над производством. Декрет предоставлял рабочим право контроля «над производством, куплей-продажей продуктов и сырых материалов, хранением их и финансовой стороной предприятия».
Общество фабрикантов и заводчиков, разумеется, не подчинялось этому декрету и разослало своим фабрикам и заводам циркуляр, в котором говорилось:
«Предвидя, что русский пролетариат, совершенно не подготовленный для руководства сложным механизмом промышленности, приведет ее к быстрой гибели, общество отвергает классовый негосударственный контроль рабочих и предлагает, в случае предъявления на предприятиях требований о введении рабочего контроля, такие предприятия закрывать».
До поселка Печаткино стали доходить слухи о саботажах, о том, что отдельные предприятия закрываются… Чухалин ходил по заводу, улыбаясь в усы, и хитро посмеивался:
– Ничего, пусть у нас попробуют.
Но завод работал, и управляющий Ермашев, ужом извивающийся перед Чухалиным, казалось, из кожи лез вон, чтобы заслужить доверие новой власти. Александр Денисович, приглядываясь к нему, догадался: да ведь он, Ермашев, просто хочет сохранить завод! На одном из собраний ячейки он высказал эту мысль, и большевики зашумели:
– Значит, рассчитывает, что старые хозяева вернутся?
– Приедут – и, пожалте, заводик: в целости и сохранности.
Чухалину пришлось успокоить страсти:
– Во-первых, не пойман – не вор. А во-вторых, пусть ведет себя так же, как сейчас, нам это только на руку. Мы-то ведь знаем, что старые хозяева не вернутся. А вот когда и Ермашев поймет, тогда уж за ним будем глядеть в оба. Давайте лучше послушаем Трохова…
Трохов поднялся и, держась за спинку стула, поднимая глаза к потолку, начал перечислять, что сделано по организации Союза молодежи: работает «актерский кружок» и ребят учат стрелять из винтовки.
– Маловато, – хмыкнул Алешин. – Я по своим ребятам сужу: Клава с утра до ночи Чарскую мусолит, а Яшка Курбатов мотается бог весть где.
Трохов, вскинув на него свои красивые, чуть раскосые глаза, удивленно пожал плечами:
– Они оба какие-то несознательные. Я их знаю, говорил с ними, а они не поддаются.
Чухалин захохотал, откидывая назад голову. Смеялся он так заразительно, что все находящиеся в комнате, кроме Трохова, заулыбались.
– Не поддаются? А может, ты не умеешь?
Трохов снова пожал плечами: дескать, ничего смешного не вижу, на самом деле не поддаются.
– И вообще, – обиженно сказал он, – в этом Курбатове сидит какой-то мелкобуржуазный элемент.
Чухалин качнул головой и нахмурился. Яшку он любил – это была очень строгая и скрытая любовь одинокого человека к другому одинокому и, в сущности, еще очень беспомощному. После того как он узнал, что Яшку били в милиции и ничего не выбили из него, Чухалин всякий раз, как они встречались, чувствовал себя в чем-то виноватым перед Яшкой. А встречались они теперь редко. На Чухалина и Алешина свалилось столько незнакомых дел, что впору было только за полночь притащиться домой, не разогревая, поесть, что найдется, и свалиться спать. Чухалин осунулся и словно бы постарел за эти недели. Алешин как-то с усмешкой заметил ему:
– Что, Денисыч, революцию-то, выходит, легче было сделать? А что с хлебом плохо, – это, брат, ноле острый… Ох, чует мое сердце, будет от этого беда… Голод – лучший агитатор против нас.
Действительно, с хлебом становилось все хуже и хуже. Стояли морозы, и люди мерзли в очередях. Иногда дня по три не выдавали положенной нормы – фунт в день. Хлеб был тяжелый, как говорили, – «с закалом», с овсяной колючей шелухой, но и такому были все рады. Часто вместо хлеба выдавали колоб или дуранду, – так называли в поселке льняные и подсолнечные жмыхи. Рабочие ходили на заметенные снегом старые картофельные поля, искали и собирали в мерзлой земле оставшиеся гнилые картофелины. Остатки вещей несли в деревню, меняли на картошку, на крупу, хлеб.
Однажды Чухалин, войдя в цех, увидел, как несколько рабочих что-то прятали по карманам. Он сделал вид, что ничего особенного не заметил, подошел, заговорил о делах, о том, что надо расширять больницу и открыть школу для взрослых… Рабочие слушали его молча. Наконец один из них, мрачно сплюнув, сказал:
– Ты лучше вот что скажи, комиссар: совецска власть нас все время будет голодухой жать? У нас уже животы к спине поприсохли.
Чухалин кивнул:
– Знаю. И с хлебом будет пока трудно.
– Пока? – ухмыльнулся другой. – Ну вот мы пока и будем себе… облегчать.
Он вытащил из кармана пригоршню зажигалок и протянул Чухалину:
– Возьми, комиссар. Поменяешь на хлеб. Сам уже желтый, ровно лимон.
Чухалин обвел лица рабочих медленным, тяжелым взглядом и, ничего не сказав, пошел к выходу… Проходя мимо инструментальной мастерской, он невольно зашел туда и еще издали увидел, как Яшка, склонившись над тисками, опиливает косарь, какими в деревнях щепают лучину.
Яшка не замечал Чухалина, а тот долго стоял и глядел на него с какой-то бессильной, мертвой тоской, боясь подойти и сказать пареньку что-нибудь ласковое и утешительное.
15. Третейский суд
Ячейка большевиков и заводской комитет проводили многочисленные собрания и митинги, много говорили о дисциплине, но все чаще и чаще Чухалин слышал от Ермашева: «Сегодня опять сорвали норму».
На одном из собраний был избран товарищеский, кем-то названный «третейским», суд; он состоял из трех членов. Вошли в него старые и самые уважаемые рабочие: Фома Иванович Кижин, финн Тойво Иванович Киуру и дед Клавы – Тит Титович. Вскоре суд был завален делами.
Когда Яшка заходил вечером к Клаве, старик Алешин смеялся:
– Вот видишь, адвокат, и я в свои семь десятков судьей стал. А ты Плевакой обязательно будешь. Шустрый ты, да и говоришь складно. Только берегись этой породы, – кивал он на Клаву, – они под монастырь подведут.
Яшка смеялся над шутками старика, но тот быстро обрывал смех и, глядя в глаза мальчику, тихо спрашивал:
– Где ты пропадаешь?
– Так, – уклончиво отвечал Яшка. – То работаю, то дома сижу…
– Почему у нас редко бываешь?
– Некогда.
– Ишь ты, какой занятый! Небось в орлянку режешься?
Яшка молчал: старик был прав.
В поселке ребята с упоением играли в орлянку. Монеты ударяли об стенку, а потом «натягивали четвертью» – большим и указательным пальцами – расстояние между ними. И если доставали до обеих монет, то они считались выигранными.
Однажды Васька Матвеев, семнадцатилетний подручный слесаря, первый хулиган в поселке, предложил сыграть «по крупной».
– А то никакого интересу нет. Так хоть, кто выиграет, брюхо набьет. Ну, Курбатов, будешь?
Яшка не хотел отставать от компании и согласился.
Вначале ему повезло, он выиграл больше рубля «мелочи» и две «керенки». А потом проиграл все: не только деньги, но и ремень с пряжкой. Матвеев предложил сыграть на казенный инструмент, и Яшка, подумав, согласился, проиграл взятые на марки из кладовой штангенциркуль, набор небольших сверл, три метчика и нутромер.
Лицо у него горело так, будто ему надавали пощечин. В пальцах появилась какая-то ранее не знакомая дрожь; ему казалось, что он сейчас разревется от досады. Матвеев ухмылялся, рассовывая по карманам выигранный инструмент, и, когда Яшка снова предложил ему сыграть, осклабился:
– Штаны ставишь? Или нет… Если проиграешь, пойдешь со мной на деревню. Вроде как бы слугой. Что дам, то и понесешь. Ну?
Они снова сыграли, и Яшка проиграл. Васька, уходя, погрозил ему пальцем:
– Завтра пойдем, а не пойдешь – прибью.
«Что ж я наделал? – думал Яшка ночью. – Хватятся инструмента, а его нет. Отнять по дороге у Матвеева? Убьет насмерть. У него финка в кармане. Сказать – стыдно». Сон у него был неспокойный, проснулся с тяжелой, гудящей головой, будто и не спал.
Пора было идти. Матвеев ждал его под окном, лениво потягивая толстую, с палец, цигарку.
Из деревни они возвращались часа через три. Яшка торопился попасть к смене и, задыхаясь, тащил небольшой мешок муки и бутылку с самогоном. Васька, шагая рядом и чертя прутиком, говорил:
– Ничего житьишко с новой-то властью. А только, парень, все едино; каждый о себе думает. Вот и я тоже: сыт и нос в табаке. Постой-ка…
Он взял у Яшки бутылку, приложился к горлышку и начал пить. Острый кадык заходил вверх-вниз под грязной кожей, словно стараясь разрезать ее. Матвеев покраснел, вытер слезы и протянул бутылку Яшке.
– Попробуй хлебни. Греет.
Яшка был голоден. Самогон ударил ему в голову, ноги перестали повиноваться. Он плохо помнил, как добрался до Печаткино. Очнулся он на своей постели с противным ощущением во рту, будто кто-то приклеил язык к нёбу. Голова трещала.
Сколько времени спал, он не мог определить. Дни на севере короткие, – в четыре часа уже темно.
В комнате было пусто. Яшка встал; его поташнивало. Он вышел на улицу и побрел к заводу, с омерзением вспоминая даже самый запах выпитой самогонки.
Его мучил стыд. Яшка не представлял себе, как будет смотреть в глаза старшим и что скажет мастеру. Он умылся в уборной холодной водой, сунул под кран голову и напился. Вода приятно холодила во рту. Яшка постоял, подумал и пошел в цех.
Здесь уже работала вторая смена. Часы показывали без четверти шесть: он опоздал почти на два часа. Неизвестно откуда, в цеху уже все знали. Его встретили ехидными улыбками и нарочито громкими словами, чтобы слышали все.
– Смотри, ребята, алкоголик пришел! Такой шкет, а уже пьяница.
– Что ж дальше будет? С таких лет, а уже самогонку хлещет. В глаза-то не стыдно смотреть? – ругалась уборщица тетя Паня.
Яшка повернул к выходу, но дорогу ему загородил мастер Мелентьев. Добрейшей души человек, он смотрел на Яшку как-то исподлобья, словно не зная, с чего начать разговор.
– Инструмент где? – тихо спросил он.
Яшка не ответил.
– Пропил, значит? Ну, что ж, иди… Протрезвись, зеленый весь.
Яшка прожил два дня как в тумане. На третий день его вызвали на допрос к члену «третейского» суда, и Яшка, не таясь, все рассказал: и об орлянке, и о Матвееве, и о себе.
В воскресенье в клубе состоялось заседание «третейского» суда. Большая комната была полна, а люди все шли и шли, принося с собой свежий морозный запах улицы. Яшка и Матвеев сидели на «скамье подсудимых» – двух табуретках с правой стороны от судейского стола.
Вышел суд. К своему ужасу, Яшка увидел, что на председательское место усаживается Тит Титович Алешин. Покраснев, Яшка отвернулся.
Секретарь суда стал читать обвинительное заключение. Потом наступила томительная пауза. Члены суда не спеша протирали стекла очков. Наконец Тит Титович надел очки и взглянул на «скамью подсудимых». Он сделал вид, что впервые увидел Яшку.
– А, и адвокат здесь? Что же это получается? Я надеялся, ты скоро судить других начнешь, Плевакой будешь. А ты на-ко! – сам под суд попал. А я-то, старый дурень, думал, что парень ты хороший. Вот, думал, жених будет моей внучке. Сватать за тебя Клавку хотел. А какой бы из тебя зять получился? Верно все говорят: чистый алкоголик. Тебе не самогонку, а молоко еще сосать…
Яшка вспыхнул, и Алешин, видя, что он готов зареветь, поднял голос:
– Ты не реви. Плакать надо было тогда, когда такое безобразие начинал делать! А теперь поздно, слезы все равно не помогут.
– Москва слезам не верит! – качнул головой неразговорчивый Киуру.
Яшка всхлипывал все чаще и чаще, а суд, казалось, не замечал ничего.
– Вот видишь, человек читает про твои грехи, а мы тут сидим, на тебя смотрим, – тихо, словно нехотя, говорил Алешин. – Нам всем троим, поди, лет за двести будет, и никто себя дурным делом не запятнал. Скажи, Яшка, часто это ты на деньги играешь?
– Ни разу я не играл, Тит Титович, – сквозь слезы сказал Яшка. – Первый раз это было…
– Может быть, тебя кто принудил или уже очень приглашал сыграть? – спросил Киуру.
– Нет, это я сам… Сам виноват! Никто меня не заставлял.
Ему не хотелось выдавать ребят. Да и так-то сказать, конечно, виноват сам: кто насильно мог заставить? Значит, еще силы воли нет. О силе воли он читал во многих книгах и знал, что ее нужно воспитывать.
А Тит Титович не унимался:
– Скажи-ка, Плевака, как дело было, с чего началось.
Яшка еле слышно начал рассказывать. Из зала послышались крики;
– Громче, громче! Ничего не слышно!
– Вы сами-то тише. Знаете, что человек голос пропил, – язвительно сказал один из членов суда.
Яшка стал говорить громче.
– Ну хорошо, – перебил его Тит Титович. – За инструмент тебе особо влетит. А ты мне вот что скажи: зачем самогонку пил? Заставляли тебя, что ли? Ведь на два часа опоздал в смену, да и то не работал, а в уборной отсиживался.
– Я попробовать хотел, что за первач такой. Интересно было, – тихо, чтобы не слышали другие, сказал Яшка.
– Ишь ты, попробовать!.. Что ж это вы, молодцы, когда из кладовой серную или какую другую кислоту несете, не попробуете?
Вслед за Яшкой допросили ребят и, наконец, Матвеева. Тот держался независимо, на вопросы не отвечал, а Яшке бросил сквозь зубы: «Сопляк и есть!»
Яшка не слышал. У него было сейчас такое чувство, что судят их все – рабочие, весь завод, весь поселок.
Час спустя суд удалился на совещание. Никто не уходил, все ждали, какой будет приговор.
Время тянулось мучительно долго. Наконец судьи вошли, и все, кто был в комнате, встали. Встал и Яшка; ноги у него были как ватные, он едва держался.
Судьи сели. Фома Иванович неторопливо надел очки в железной оправе. Он хитро и, как показалось Яшке, с доброй усмешкой взял в руки лист бумаги и начал читать:
«Именем Российской Советской Социалистической Республики суд, руководствуясь революционной совестью и сознанием, рассмотрел дело ученика-слесаря Якова Курбатова в том, что он проиграл в орлянку не свой, а принадлежащий заводу инструмент (дальше следовало перечисление инструмента). Это является обкрадыванием молодого Советского государства и своих же рабочих завода. За такие дела, как за воровство, Яков Курбатов подлежит строгому наказанию. Но учитывая, что оный Яков Курбатов сам во всем чистосердечно признался, осудил свой поступок и обещает никогда больше не повторять его, и также учитывая, что этот поступок является отрыжкой старого, прогнившего строя, который развращал рабочих с малолетства, постановил: Якова Курбатова оправдать и предложить ему возместить заводу стоимость проигранного инструмента».
То, что слышал Яшка, было как во сне. Он не верил своим ушам. Его оправдали?! А ведь по ходу суда, по вопросам судей Яшка ждал самого тяжкого наказания.
– Подойди сюда, Яша, – сказал Алешин, хмурясь, но это была уже показная хмурость. – Подойди, не бойся. Что, попало, брат, тебе? Ну, ничего. На то и народ нас в судьи поставил. Все ты понял, внучек, что здесь было?
– Понял, дедушка Титыч, – тихо сказал Яшка.
– Ну, теперь иди. – Тит Титович взлохматил Яшке мокрые, прилипшие ко лбу волосы. – Одно запомни, что в конце написано. Этот твой поступок есть отрыжка старого строя. А набезобразничал-то ты при нашей, при рабочей Советской власти, которая только хорошему учит. Вот ты и пойми: можно ли в этом только старый буржуйский строй винить? Нельзя все валить на старое. Понял?.. Ну и хорошо, что понял. Ладно уж, приходи к внучке… А все же сватать я ее за тебя подожду, посмотрю, что из тебя дальше будет, – в заключение сказал он.
Больше месяца висело на доске объявлений решение суда; его прочитали все. После суда над Яшкой еще долго посмеивались на заводе и в поселке.
В тот же день на партячейке снова обсуждали работу Трохова. Большевики взгрели его крепко за плохую организацию молодежи, за то, что такие ребята, как Курбатов, стали делать бог весть что. Придя с Алешиным с партячейки домой, Чухалин грустно сказал:
– Кругом мы виноваты. Был парень с нами – не нарадуешься. Упустили мы его – не наплачешься. Если Трохов и дальше так работать будет с молодежью, поставлю вопрос о его пребывании в партии.
– Не очень-то он много всегда делал, Трохов, – усмехнулся Алешин. – Не помню я, чтоб ты за него прежде радовался.
– Что? – не понял Чухалин. – Так я ж не о нем говорю. О Яшке. Перед ним мы с тобой виноваты, что он беспризорником стал. А Трохов…
Чухалин, не договорив, остановился и поглядел Алешину в глаза.
– Знаешь, Павел Титович, о чем я думаю? Измучился весь. Кто мог указать на людей, которые нашу землянку знали, а?
– Подозреваешь? – так же тихо откликнулся Алешин. – Трохова ведь в милиции Карякин тоже бил…
– Что из того? Стукнул – он и выдал. Хотя… Ладно, не было у нас с тобой этого разговора. Не пойман – не вор.