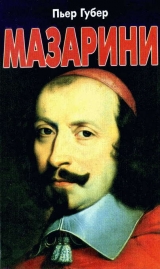
Текст книги "Мазарини"
Автор книги: Пьер Губер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Первый тяжелый год:
1648
Финансовое положение в связи с войной было практически безнадежным, и Партичелли, повсюду искавший деньги, подготовил для регистрации парламентом новую серию финансовых эдиктов и позволил себе несколько дерзких выходок, вызвавших раздражение «Господ» из высших судов, которые уже в мае перешли в открытую политическую оппозицию. Успех оппозиционеров вынудил Совет короля, опиравшийся на армию-победительницу, прибегнуть к полицейским мерам. Увы – жесткие и не слишком умелые полицейские меры привели в конце августа к двухдневным баррикадам в Париже. Оппозиция считала себя победительницей. Королева готовилась к реваншу, решив покинуть Париж, изолировать и взять в осаду, что и произошло в начале 1649 года после осенней «прелюдии». Париж (конечно, не весь) вынужден был признать себя побежденным в марте—апреле 1649 года – то была так называемая «первая Фронда», «Парламентская Фронда», «старая Фронда» или «Парижская Фронда» (впрочем, все термины весьма приблизительны). О первой Фронде рассказывали сотни раз, ее толковали в зависимости от тех принципов, которых придерживались историки. Нас не слишком вдохновляет эта история, но мы должны хотя бы коротко вспомнить о ней. Кажется, будто вступаешь на старую разбитую дорогу…
* * *
В парламентских кругах начались серьезные волнения, когда Партичелли, увлекшийся продажей многочисленных должностей (он делил уже существующие надвое, что, практически, обесценивало их), покусился на докладчиков Государственного совета, важных персон, «делавших донесения» в Королевском совете. Их часто посылали комиссарами в провинции, они входили в Парижский парламент и некоторые могли «высказывать свое мнение» (голосовать). Партичелли задумал продать, и очень дорого, двенадцать новых должностей (сначала речь шла о 24 должностях, но Партичелли отступился). Судейские всех рангов бурно протестовали, докладчики в Государственном совете даже объявляли на какое-то время забастовку.
Поскольку многие налоговые мероприятия подлежали регистрации – разделение должностей, увеличение числа свободных феодов и других арендуемых земель, – королева и министры потребовали, 15 января, провести торжественное заседание в присутствии короля, семьи, министров и пэров королевства (некоторых из них). Парламенту оставалось одно – признать себя побежденным. Королеве, пребывавшей в большом волнении, все-таки пришлось выслушать напыщенные, страстные речи, в том числе выступление Омера Талона, первого королевского адвоката. Темы были все те же: парламент должен помогать несовершеннолетнему королю, давать ему советы по всем поводам, обсуждать законы; все налоги плохи, все финансисты – отвратительные мошенники, народ несчастен, ему впору щипать траву в поле, война бесполезна и разорительна, «пальмовыми ветвями и лавровыми венками не накормить изголодавшиеся провинции, где с людьми обращаются, как с рабами и каторжниками». Талон осмелился посоветовать королеве задуматься над этими ужасами в уединении своей молельни. Анна Австрийская могла воспринять подобные речи только как оскорбление и не преминула заявить об этом со всем высокомерием дочери Габсбургов.
Тем не менее уже на следующий день парламент объявил недействительными результаты этого заседания и принялся обсуждать предложенные эдикты.
Б Пале-Рояле возмущались и негодовали, однако ответы не блистали отточенным стилем. Неизвестно, кто – Мазарини или регентша – несет ответственность за последовавшие события, скорее всего, они оба.
Первоначально эдикты, которые парламент отказывался регистрировать, представлялись на рассмотрение трех других высших судов; из солидарности они тоже отказывались регистрировать указы. Второй мерой была задержка жалованья (процент от стоимости должностей) высокопоставленных судей… хотя парламентариям платили, несмотря на то что именно они первыми встали в оппозицию. В ответ парламентарии из солидарности отказались получать свои проценты (будьте уверены, они знали, что сей гордый отказ будет кратковременным!). Вывод – правительству недоставало политической ловкости.
Регентский совет ответил контратакой на ежегодный налог («полетту») – право, по которому, начиная с 1604 года, чиновникам разрешалось платить казне, дабы обеспечить себе богатую должность, передававшуюся по наследству (даже в случае внезапной смерти ее обладателя). Годовой налог устанавливался на девять лет и подлежал возобновлению в январе 1648 года. Решение не принималось более трех месяцев. Королева угрожала, что не станет возобновлять договор, и президент Моле, человек, вполне уравновешенный, 6 апреля объявил, что подобное решение «меняет лицо королевства», охлаждает теплые чувства чиновников и «нарушает дисциплину» сообществ: такая выспренность была свойственна нескольким дюжинам парламентариев, заботившихся о собственном состоянии больше, чем о чести и здравом смысле, что больше всего раздражало королеву.
Следовало правильно отреагировать. 30 апреля было принято решение о восстановлении годового налога на девять лет при условии, что три высших суда из четырех будут получать жалованье четыре года, а не девять лет; четвертым судом был парламент: возможно, королева и правительство надеялись рассорить их? Увы, все вышло ровным счетом наоборот: парламент очень плохо воспринял подобный подарок и призвал все четыре высших суда собраться в одном из больших залов Дворца Правосудия, так называемой Палате Людовика Святого; так родилось «решение о союзе» (13 мая), которое многие историки считают отправной точкой «Парламентской Фронды». Начинание и впрямь было необычным, почти экстравагантным. Оно заставило королеву действовать очень быстро: было отменено право годового налога и запрещены – неверный шаг – любые собрания. Ослушание привело королеву в ярость, она заявила, что собрание «судейских крючков», которым было пожаловано Дворянство, вводит во Франции «нечто похожее на республику в монархии».
Каким бы преувеличением это ни казалось, но началась война или некое ее подобие (холодная война), что не мешало поиску «урегулирования» под неожиданным руководством Мсье: он проявил себя весьма ловким посредником из Люксембургского дворца. Все четыре палаты собрались вместе и принялись тщательно готовить предложения по реформам – некоторые историки видят зачатки конституции или даже текст конституции – впрочем, эфемерной, погибшей во младенчестве.
Прежде чем перейти к описанию пресловутых 27 статей, королева утвердила их после переговоров, взрывов гнева и исправлений, заранее решив никогда их не применять, но сделав вид, что уступает по нескольким пунктам, поскольку ничего другого сделать не могла; следует напомнить, что в основе конфликта с парламентами (в том числе с провинциальными) лежали без конца осложнявшиеся реальные налоговые проблемы, которые могли быть решены только волевым порядком. К лету ждали финансового краха и баррикад, и мы задаем себе вопрос: действительно ли самые скандальные вопросы были самыми важными?
27 статей (лето 1648):
реформы, предложения реформ, улаживание отношений
Ряд статей касается налогов – хороший способ завоевать популярность и оказать протекцию друзьям, не забывая о себе. Сначала будут сокращены на четверть налоги 1647 года и аннулированы недоимки трех или четырех предшествующих лет, что нисколько не волновало Мазарини, – онпрекрасно знал, что эти деньги никогда не будут выплачены. К тому же ради обеспечения популярности, с целью заставить «вернуть награбленное» мерзких финансистов (которые все-таки собрали налоги, но, конечно, присвоили добрую их часть), будет созвана «палата правосудия» (еще одна), перед которой предстанут виновные. Да, членов палаты назначат, но у них не будет ни времени для работы, ни желания ее налаживать (слишком часто пришлось бы судить самих себя). Статья о парижских налогах: разнообразные налоги предполагается брать с зажиточных людей, упоминается, что обмер, откуп, свободные феоды и даже тариф и его табло прав на городскую пошлину будут аннулированы или ограничены.
Поскольку чиновники никогда не забывают о себе, принимается решение о запрете на раздел должностей (не делать из одной должности две или четыре), о выплате жалованья и драгоценного годового налога. Любые меры, вступающие в противоречие с этими положениями, будут аннулированы – правда, не слишком быстро и не без тайного умысла. Дается главное обещание – не нарушать принятых законов. Что это? Парламентская наивность? Милые проделки Мазарини?
Другие статьи, не столь демагогичные, были опасны по-иному. Парламент претендовал на контроль, если не над всем правосудием королевства, то, во всяком случае, над всей финансовой сферой, признавая, по примеру английского парламента, только меры, которые сам обсудит и примет. Подобное решение могло заложить основу изменения самой природы королевства, породить своего рода законодательную власть, если бы королева хоть на мгновение решила уступить (конечно, для вида, по принуждению) этому требованию, совершенно неприменимому и неприемлемому для Французской монархии.
Впрочем, главное, скорее всего, заключалось в другом. Парламент собирался устранить то, что было оружием монархии многие десятки лет (со времен правления Ришелье), – «комиссаров, рассылавшихся во все концы королевства», назначавшихся Королевским советом и наделенных почти неограниченной властью. Интенданты состояли при губернаторах, при армии, но были поставлены над всеми чиновниками системы правосудия и финансового ведомства; с 1641 года они возглавляли даже сбор налогов при поддержке финансистов и солдат. Парламент хотел упразднить комиссии и комиссаров, и это ему почти удалось, но Мазарини в конце концов доказывает, что агенты короля необходимы при войсках и в приграничных провинциях, и спасает тех, кто заправляет делами повсюду от Пикардии до Бургундии, Прованса и Лангедока. Чиновники внутри королевства – жалкая кучка – теоретически исчезают, но получают разные новые должности и продолжают переписываться с канцлером (их письма были опубликованы…). Кроме того, известно, что совет продолжает посылать в провинцию своих уполномоченных, наделенных некоторой властью. Итак, монархия как будто капитулировала, в действительности же она лавировала.
Остается 6-я статья, вызвавшая много споров: казалось, что она устанавливает нечто вроде «habeas corpus» (знаменитый английский закон, гарантировавший личную свободу английских граждан) на французский манер: «Ни один подданный короля не может содержаться в тюрьме более суток без допроса и передачи судье». Мало того, что этот текст слово в слово повторяет указ Мулена (1566 год), который никогда не применялся (как многие другие), но онбыл практически отменен уже 31 июля. Тем не менее удалось сохранить конец статьи, где уточнялось, что «никакой чиновник не может быть отстранен от должности королевским указом»: по сути, вместо замечательного «habeas corpus» вводилось нечто вроде парламентского иммунитета только для чиновников.
Как бы там ни было, подобные тексты (одновременно амбициозные и ностальгические) были совершенно неприемлемы для короля (и для премьер-министра) и не действовали, разве что в краткий миг «событий».
Параллельно с политическими размышлениями (правда, их сопровождали переговоры), парламент, поддержанный парижским «общественным мнением» (его легко было воспламенить старыми лозунгами и оскорбительными памфлетами) принялся за откупщиков, арендаторов и финансовых «гарпий», ответственных за все налоги, скандалы и ужасную нищету. В конце июля президент Матье Моле выступает (наивно?) за конфискацию всего имущества всех финансистов ради решения денежных проблем монархии, а старик Бруссель, восторженный оратор и демагог, вовсю трубит о «неприличных» доходах откупщика Тюбефа, вдовы откупщика Лекамю и даже вдовы маршала д'Эффиа. Вскоре парламент, побуждаемый все той же группой людей, решит начать преследование крупнейших откупщиков (Кателана, Табуре, Лефевра), которые как будто случайно не были связаны с семьями известных парламентариев. Приближался момент, когда могли напуститься и на них, а этого допускать было никак нельзя: правительство, зависевшее от финансистов, вынуждено было реагировать.
Не стоит себя обманывать: суть дела заключайся именно в этом; смелые требования, дерзкие и в конечном итоге безответственные и глупые выступления парламентариев не шли ни в какое сравнение с задачами, которые Мазарини понимал лучше всех: необходимо было решить проблему государственного долга, даже пойти на банкротство, но спасти нужных финансистов, столпов государства, сохранить их для завтрашнего, послезавтрашнего дня, для далекого будущего королевства и короля. Деньги – подоплека практически всего, в том числе и баррикад.
Лето 48-го:
от хорошо испытанных уловок к забытому банкротству
Тридцать пять лет назад голландский историк Эрнст Коссманн первым констатировал (сегодня труды Франсуазы Байяр позволяют нам увидеть это совершенно ясно), что в 1648 году проблема поиска денег стала столь острой, что правительство без конца почти агрессивно взывает к налогоплательщикам и финансистам (чья помощь в конечном итоге всегда оказывается самой действенной).
Вернемся ненадолго назад: по-прежнему необходимо было оплачивать войну, в том числе помогать союзникам, расходы превышали 120 миллионов ливров, то есть 10 тонн чистого серебра (или тонну золота). В 1647 году расходы достигли 143 миллионов: но где взять деньги? В 1645 году правительство нашло достаточно банкиров и подписало 7 откупных договоров (на 17 миллионов), 82 соглашения (на 47 миллионов) и выпустило не менее 238 заемов, гарантировавших не менее 102 миллионов, несмотря на то что «денежные мешки» знали: правительство возвратит деньги не раньше, чем через два года. И все-таки в 1647 году банкиры не побоялись оплатить 84% расходов государства (цифры Франсуазы Байяр).
Однако в 1648 году денежные господа решили уменьшить свой риск (им благоприятствовала «конъюнктура»), заключив около 20 договоров на сумму, не превышающую 10 миллионов… Именно поэтому Партичелли так яростно взялся за Париж, собираясь заставить столицу платить, но у него мало что вышло. Становится понятно, почему в том году все жаловались, что денег не хватает, что они не поступают, и не хотели рисковать. Говорили, будто королева берет в долг (у кого?) и закладывает (где?) драгоценности, принадлежащие короне, что, возможно, было правдой; Мазарини писал верному (тогда) Тюренну, что ссоры с парламентом «нас оставили совершенно без денег и закрыли все счета, неизвестно, куда обратиться, чтобы получить хотя бы малые суммы». Пришлось пожертвовать несчастным (и не слишком честным, и неумелым) суперинтендантом д'Эрли и заменить его храбрым маршалом Ламейерэ, чьим главным достоинством была родственная связь с Ришелье. Что мог сделать маршал: ведь доходы 1648, 1649 и 1650 годов были уже съедены? Следовало прибегнуть к жестким мерам.
Для начала Мазарини сократил проценты (с 15% до 10%, а затем и до 5%), выплачивавшиеся сторонникам реформы, арендаторам и финансистам, но этого оказалось недостаточно. Главное событие произошло 18 июля 1648 года, В тот день совет «в узком составе» (шесть министров и королева) решил аннулировать все заемы, договоры, вторичные и дополнительные договоры с передачей обязательств, авансы, предоставленные частным лицам на этот год и на следующие годы, «поскольку король посчитал, что не сможет покрыть военные и другие расходы, необходимые для сохранения государства, если оставит эти документы в силе». Иными словами, свершилось открытое банкротство, на время решившее все финансовые проблемы, чего и добивался Мазарини. Было объявлено, что проценты по аннулированным заемам будут выплачены… позже. Вслух об этом не говорилось, но речь шла вовсе не о безобидной мере. Если вспомнить, что, во всяком случае, две трети парламентариев и членов других судов (так называемых высших) были еще и финансистами, поручителями финансистов и кредиторами финансистов, легко будет понять смысл постановления от 18 июля. Королевское банкротство серьезно затрагивало всех этих людей, что они немедленно ощутили, неважно – питая надежду на будущие выплаты и компенсации или заранее похоронив их. Именно это обстоятельство – хотя о нем никогда не говорили вслух – должно было разжечь гнев парламентариев, толкнуть их на дерзкие поступки, возможно, воздвигнуть чуть позже три-четыре баррикады, но, конечно, не более того, поскольку сии господа никогда не забывали об осторожности.
Что до честных финансистов – если кого-то из них вздули или ограбили, – они, судя по всему, смирились, ожидая, куда подует ветер, и тайно оказывая помощь двору: в конце концов их судьба была связана с судьбой монархии, они жили ею, она – ими. Итак, поколебавшись какое-то время, банкиры искренне поддержали короля.
Все это время продолжались дискуссии между парламентом и Пале-Роялем. В конце июля королева сделала вид, что соглашается с тем, что оставалось от 27 статей, «осыпав розами ненавистных парламентариев». Но розы быстро вянут…
Напомним, что тогда же испанская армия, по-прежнему сильная, освободившаяся от врагов на севере, вновь попыталась открыть дорогу на Париж, заняв Ланс. Как раз в тот момент, когда Конде разбил испанцев, Бруссель и его клика, пребывая в невероятном возбуждении, затеяли тяжбу с «отвратительными откупщиками», с которыми не состояли в родстве (20—22 июля), что переполнило чашу терпения финансистов, Мазарини и королевы. Уже 25 июля они кинулись в атаку, воспользовавшись возвращением в Париж героя и его солдат и великолепным благодарственным молебном в соборе Парижской Богоматери, который должны были служить в среду, 26 августа.
Благодарственный молебен, 600 баррикад, 400 000 парижан и Мазарини
Арест бунтовщиков из парламента был мерой, хорошо испытанной предыдущими монархами. Весьма ловким ходом было воспользоваться двойным кордоном войск между Пале-Роялем и собором Парижской Богоматери. Казалось благоразумным «взять под прицел» всего троих «зачинщиков», особенно если только один был хорошо известен, а двое других – нет. В том, что за ними послали неумелых (или слишком ловких) военных, сказалась неопытность министров и самого Мазарини, новичка в этой области. Председатель Шартон без труда скрылся, Бланмениля (еще одного Потье) посадили в Бастилию, но совсем иначе получилось с тем, ради кого затевалась вся операция. Бруссель, седовласый советник (73 года – возраст для тех времен невероятный), обедал, сидя за столом в домашних туфлях, после того как… «облегчил» желудок. Комменж оторвал его от трапезы, усадив в дурную карету: она должна была доставить Брусселя в какую-нибудь тюрьму подальше (в Седан или Гавр) и по пути дважды перевернулась. Крайне экзальтированный и красноречивый, говоривший на совершенно неведомой латыни, советник руководил самой неистовой парламентской оппозицией и был в глазах двора человеком, которого необходимо убрать. Для болтливых и требовательных парижан, считавших себя обманутыми, Бруссель был честным скромным стариком, наделенным всеми добродетелями, почти святым, любимцем всех тех, кто вопил о воображаемой нищете. Судьбе было угодно сделать его арест шумным: лакей и старая служанка великого человека, оба ужасно горластые, орали, что совершено преступление, и звали на помощь. В благопристойном буржуазном квартале дома, дворы и хозяйственные постройки сообщались. От Сите крики доносились до берегов Сены и канала, где толпились балаганные зазывалы, грузчики, торговцы, зеваки и любители сплетен, уже сочинившие первые непристойные частушки, поносящие Мазарини. На улицах, с одной стороны на другую, протянули цепи, чтобы преградить путь всадникам и каретам, но мера оказалась запоздалой. Вот так, из-за одного-единственного парламентария, собралась толпа, бунт продолжался почти три дня, на улицах появились собранные в кучу бочки, обложенные камнями и землей, капустными кочерыжками, опилками, – всем тем, что достали при чистке со дна Сены, а еще навозом. Париж привык к баррикадам (их строили еще 60 лет назад), они были проявлением гнева, мешали движению, возмущали и пугали тех, кого называли «средним французом».
Три дня криков, волнующихся толп на улицах, ружейная стрельба, беготня, коварные интриги, едва сдерживаемый гнев, запутанные заговоры и небольшие подлости, конечно, не были тем, что лет пятнадцать-двадцать назад называли «революцией». Впрочем, все очень быстро успокоилось: возвращаясь в субботу утром, 29-го, из своего прелестного замка в столицу, знаменитый парламентарий Оливье Лефевр д'Ормессон увидел лишь несколько пустых бочек и кучи камней – все, что осталось от бунта.
Попробуем коротко рассказать о том, что произошло, и попытаемся разобраться. Итак, 26-го, как только Бруссель был похищен и карета уехала (сначала в направлении предместья Сен-Жермен), в Сите и вокруг рынка возникло сильное волнение, начали собираться вооруженные банды, люди выкрикивали угрозы, и городское бюро (ядро тогдашнего «муниципального совета»), обеспокоенное ситуацией, решило «протянуть цепи», опасаясь одновременно Пале-Рояля и мародеров. В конце дня маршал де Ламейерэ с сотней-двумя кавалеристов дважды покидает дворец, пытаясь навести порядок; его встречают оскорблениями и градом камней, он возвращается с помощью Гонди (любовника собственной жены!), который позже будет ужасно хвастаться этим «подвигом». Когда Ламейерэ вышел во второй раз, его встретили ружейной стрельбой, был открыт ответный огонь: одного человека убили, нескольких ранили. Президент Моле дважды обращался к королеве, умоляя освободить Брусселя, Гонди тоже пытается уговорить монархиню, но в ответ лишь насмешки в адрес резвого коадъютора. К ночи цепи сняли, лавки, закрытые из осторожности, приказали наутро открыть. Внешнее спокойствие. Ни одной баррикады.
День-два спустя снова появились баррикады, начались жестокие столкновения. Кто был зачинщиком – друзья Брусселя, Гонди и небольшая группка близких у нему кюре, офицеры местной гвардии или полковники милиции (часто по совместительству чиновники)? Орден Святых Даров, который всегда присутствовал на сцене, играя двойную, а то и тройную игру? Вновь сошедшиеся вместе банды бунтовщиков-простолюдинов? Возможно, каждый внес свою лепту…
За эти два дня в Париже можно было наблюдать необычные сцены, когда трагизм шел рука об руку с гротеском. В 5 часов утра на канцлера Сегье, собравшегося в парламент, напали: за ним гнались, и он вынужден был спрятаться у дочери в особняке герцога де Люиня на набережной Августинцев. Канцлера избили и заперли в шкафу, его дочь поколотили, в особняке все перевернули вверх дном, и потребовалось вмешательство Ламейерэ и королевской гвардии, чтобы их освободить. В 8 часов толпа заставила 160 парламентариев, одетых в красные мантии с горностаевой обивкой, ведомых Моле, медленно прошествовать в направлении дворца и потребовать освобождения Брусселя. Королева яростно оскорбляет Моле, поносит парламент, потом, успокоенная Мазарини и другими ловкими придворными, соглашается удовлетворить просьбу об освобождении Брусселя, но, как свидетельствуют очевидцы, не может скрыть слез гнева. Парламент скрипя зубами обещает сохранять спокойствие до дня святого Мартена (11 ноября): впрочем, ему и так предстоит уйти на каникулы… чтобы следить за сбором винограда. По выходе из дворца парламентариев освистали и избили за то, что с ними не было Брусселя (советник уже находился далеко…). Некоторые парламентарии сумели сбежать, другие едва унесли ноги… Несколько позже, когда королевские войска заняли мосты и перекрестки, правда, никому не угрожая (их было около 2000 человек, и не все поддерживали Мазарини); по ту сторону баррикад ведут веселые разговоры, пируют, иногда постреливают, что заставляет Ламейерэ разместить в Булонском лесу тысячу кавалеристов из Этампа. На рассвете ратуша (где всегда боялись грабежей и проявляли политическую осторожность) призывает к спокойствию, которое восстанавливается с возвращением Брусселя (к 10 часам), которого восторженно приветствуют и привозят в собор Парижской Богоматери как генерала-триумфатора! И тут газеты пишут о груженых порохом телегах, выезжающих из ворот Арсенала, – новые волнения в Сент-Антуанском предместье и Пале-Рояле. Остается только рассуждать о роли слухов и страхов, что мы и сделаем позже. В конечном счете парламент, ратуша и Ламейерэ объединили усилия, чтобы воцарилось спокойствие: ночью еще грабили, но утром 29-го установился порядок.
Кажется вполне очевидным, что инцидент, спровоцированный неумелостью Пале-Рояля, возник именно благодаря нервозной, возбужденной, злобной атмосфере, которую подпитывали памфлеты и агитаторы, разосланные, скорее всего, Гонди, некоторыми парламентариями-экстремистами, скромными судейскими чиновниками, возможно, «школярами» и лавочниками… Каждый из очевидцев Рассказывает историю по-своему, а историки не Скрывают колебаний и сомнений. Очевидно одно: 7дней мятежа были многочисленные сложные предпосылки… хоть это и плохое объяснение!
Можно с уверенностью утверждать, что двор очень плохо воспринял то обстоятельство, что его заставили отступить. Оскорбленная в своей гордости, считая, что пострадала ее честь, королева хотела взять реванш над парламентом, Гонди и Парижем, который ее оскорбил; первый шаг она сделает две недели спустя.
Мазарини, до той поры совершенно поглощенный шедшей на всех фронтах войной, был занят малопродуктивными и трудными переговорами о мире, печальными финансовыми делами и жалкими гнусными интригами двора. Кроме того, его очень беспокоили дела Англии и судьба ее короля, которому грозила смерть. Но и кардиналу пришлось понять, что являют собой парламент и Париж. Джулио не знал ни парламента, ни Парижа, думая, что их можно покорить любезными словами, улыбками, хитростью, обещаниями, деньгами и подкупом, в конце концов. Подобные методы, возможно, годились для того, чтобы завоевать расположение парламентариев, но никак не огромного города. Чтобы преуспеть, лучше было сначала покинуть столицу. Тактика, избранная Мазарини, встретила одобрение королевы, которая давно мечтала уехать подальше от дурно пахнувшего (особенно в августе) скопления грубых людей и наслаждаться прелестями деревенской жизни, а уж потом, несколько месяцев спустя, смело вступать в бой с неприятностями.
Однако для того чтобы уехать и жить вдали от Пале-Рояля, необходимы были надежные войска и умелый генерал, чтобы ими командовать. Таким командующим мог быть только принц, увенчанный лавровым венком победителя при Рокруз и Лансе. Но с принцем у Мазарини возникали иные проблемы: он никогда, даже во время своих путешествий и поездок в Рим (особенно в Рим), не встречал личности такого масштаба, такого непредсказуемого человека.
Как бы там ни было, Конде все понял, одобрил, помог и взял под защиту – возможно, не без скрытого умысла, – добровольный отъезд двора: вернее, два отъезда: первый состоялся 13 сентября, второй (после возвращения на короткий срок) произошел ночью, накануне праздника Королей [66]66
Канун праздника Богоявления, накануне дня святой Эпифании (7 января). – Прим. пер.
[Закрыть].








