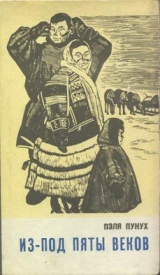
Текст книги "Из-под пяты веков"
Автор книги: Пэля Пунух
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Шоркунчику и всем остальным, что он прекрасный стрелок.
– Опробовать можно ружья? – спросил он у продавца.
Тот молча подал все, что требовалось для стрельбы.
И вот Проигрыш, окружённый толпой любопытных русских мальчишек, не выходит, а
выплывает из лавки вместе с Фёдором Фёдоровичем, с Шоркунчиком, церковным старостой,
Николой и Степаном. На лице его широченнейшая улыбка. В руках – четыре ружья.
Никола торопливо отмеривает 50 шагов и устанавливает мишень – клочок газеты,
привязанной к концу хорея.
– Из которого наперёд стрелять? – спрашивает Проигрыш то ли сам у себя, то ли у
окружающих.
– Какое тебе любее всех, из того и пали наперёд, – угодливо тарахтит Шоркунчик.
Николай зубоскалит:
– Лупи из всех сразу, как можешь!
Громко хохочет Проигрыш. Перебирает в руках ружья, не зная, на каком же остановить
свой выбор. Хочется ему всех удивить меткостью своей стрельбы. И все ружья как будто бы
правильные. Однако мало ли чего не бывает?
Хохочет Проигрыш, а сам волнуется. Вдруг подведёт первое ружье! Засмеют в тундре!
Наконец, его увлекает мысль – выпустить из четырехзарядной винтовки пулю за пулей так,
чтобы каждая попала не в бумажку, а в самый хорей. Остановившись на этом решении, он
крикнул Николе:
– Отнеси хорей еще шагов на двадцать – винтовку наперед опробую.
Никола быстро выполнил просьбу и сам отошел в сторону. Проигрыш встал на одно
колено и крикнул Николе:
– Буду в самый кончик хорея попадать!
– В меня только не попади вместо хорея, – сострил Николай, ухмыльнувшись.
Долго целился Иван Максимович. Руки у него дрожали от волнения. Всем уже стало
казаться – струсит Проигрыш и, чтобы не осрамиться, откажется от попадания в хорей, – как
хлопнул выстрел.
Никола метнулся к хорею:
– Есть!..
Возгласы удивления – «вот это ружьё!» – налили каждый мускул Ивана Максимовича
уверенностью.
– Теперь каждая пуля на вершок пониже другой пойдёт! – хвастливо выкрикнул он и
одну за другой выпустил оставшиеся в патроннике пули.
– Как по-писаному! – сообщил Никола, подскочивший к хорею.
– Иначе у Ивана Максимовича и быть не могло, – заюлил Шоркунчик. – Кто не знает в
тундрах, что Иван Максимович первейший стрелок?
Опьяненный похвалами, Проигрыш, как во сне, опробовал остальные ружья и поплыл в
лавку для окончательного расчёта.
Получив на руки больше 200 рублей наличными и увязав купленное на санях, он хотел
ехать к себе в чум. Но тут опять подскочил Шоркунчик:
– Неужели так-таки уедешь, ко мне не зайдешь чайку попить? Обидишь, кровно
обидишь, Иван Максимович! Прямо на олешках да со всей семьёй и приезжай ко мне. До
чума-то, поди, далеконько ехать, а прогреетесь чайком – глядишь, и не заметите, как доедете.
– Ладно, ладно. Заедем. Ладно.
– Да нет, уж тебя подожду, Иван Максимович. Ты уж прости: не заехал ты сразу ко мне и
не верю я тебе. Пока сам тебя до дому не довезу, не поверю теперь, что ты будешь у меня.
Смеётся Проигрыш. Приятные мысли бродят у него в голове. Так вот и хочется с кем-
нибудь ещё поговорить о том же, о чём говорил с Евстохием. У других спросить хочется,
правда ли всё это? У Шоркунчика, пожалуй, не худо спросить про такие дела, он, наверное,
всё знает: недаром сам недавно на другой женился.
К дому Шоркунчика двигался Иван Максимович, окруженный своего рода почётным
караулом: слева от него семенил Шоркунчик, то и дело сыпавший словами, справа грузно
шагал рыжебородый староста, а сзади, вытягивая шею, гусиным шагом шёл Никола.
Столько радушия, столько внимательности проявил Шоркунчик во время чаепития, что
Иван Максимович совсем потерял голову. Раньше он частенько сомневался в дружбе
Шоркунчика. Подозревал, что тот с ним водит дружбу только из-за игры в карты. На этот раз
Шоркунчик не мог рассчитывать на выигрыш шкурок (Проигрыш всё-таки подозревал, что
шкурки попадают Шоркунчику) и всё же оказался таким внимательным, любезным
хозяином.
«Нет, хороший человек Шоркунчик, – думает Иван Максимович. – Надо с ним
посоветоваться».
С трудом дождался Проигрыш конца чаепития. И сразу же, как встал из-за стола
Шоркунчик, сказал ему:
– Слово одно тебе сказать надо бы.
– Да хоть не одну тысячу, золотой мой! – встрепенулся Шоркунчик. – Говори, что надо?
Всё сделаю, что только в силах.
Потупил глаза Иван Максимович.
– Один на один надо бы сказать.
Шоркунчик переглянулся со старостой.
– Да тут все свои люди, Иван Максимович. В чём стеснение?
– На одиночку с тобой надо, – упрямо повторил Проигрыш.
Руками развел Шоркунчик.
– Ну, гости дорогие, извините. Покину вас на минутку, потому – надо человеку услужить.
И ушёл с Проигрышем в ту комнату, в которой столько раз и всегда неудачно играл Иван
Максимович, зашептал там в ухо гостю, сделав сочувственное лицо:
– Что, золотой мой, приключилось? Беда какая, горюшко накатилось?
Шепотом и Проигрыш начал ему выкладывать свои сомнения-заботы.
– С бабой своей расходиться задумал я. Тебя спросить хочу, кому парня присудят – ей али
мне?
Шоркунчик сложил губы бантиком, нахмурил брови. Помолчал.
– Серьёзное дело затеваешь, Иван Максимович. Ну, прямо скажу, пропащее дело!
– Но-о?!
– Вот хоть перед крестом господним побожусь, – посмотрел Шоркунчик на иконы.
Проигрышу холодно стало: боится он богов, и своих и русских. Перед богами человек
говорит – не врёт, значит.
– Советские законы, Иван Максимович, по бабе тянут. Перво-наперво ты половину
хозяйства своего отдать ей должен будешь. А как ещё парня не согласна она будет с тобой
оставить, на парня ещё придётся тебе особо пай выделить. Одно слово – раззор!
Но Ивана Максимовича не интересует имущество. Он согласен хоть всё отдать.
– Наживу не столько, как заживу по-хорошему, – говорит он. – А так – маята, не жизнь'
Шоркунчику такой исход совсем не нравится. Заживёт Проигрыш с другой женой по-
хорошему – пропали тогда все барыши от игры в карты. Нет, так не годится. Надо что-нибудь
придумать, чтобы Проигрыш навсегда оставался Проигрышем. Но как это сделать?
Вороватыми сороками скачут мысли в голове Шоркунчика, и ни одной подходящей не
подвёртывается. И, выигрывая время, он похваливает Ивана Максимовича:
– Хорошо, хорошо это ты придумал, как имущества не жалеешь...
– Не жалко. Нисколько не жалко имущества.
– То хорошо, хорошо... В час добрый! В час да в лад, да дай тебе бог зажить богато да
счастливо с молодой женой.
– А парня-то, парня-то как? Ты про парня мне скажи.
Шоркунчика «осенило». Он положил свои руки на плечи Проигрыша.
– Друг!.. Иван Максимович! – заглянул ему в глаза, а потом припал губами к его уху:
– Ты... верно знаешь, что... парень... твой?
Дернулась назад голова Проигрыша. Раскрылся рот. Расширились глаза...
– Чей... как... не мой? – прохрипел он.
– Чей?.. Сам знаешь: в наследство жену от брата получил...
– То верно, от брата. Только она говорит – мой сын. Я пытал её. Умный парень. В меня
весь.
– Когда сам верно знаешь да бабе веришь, о чём больше толковать? – равнодушно сказал
Шоркунчик.
– Не верю бабе! – заорал Проигрыш на весь дом. – А сын – мой!
– Кричать не надо так, Иван Максимович, золотой мой. Вот как на суд-то придёшь с ней,
тогда правду про всё и узнаешь.
Пот выступил на лбу у Проигрыша. Несколько мгновений смотрел он, раскрыв рот, на
деланно спокойное лицо Шоркунчика, а потом рванулся из комнаты.
– Сейчас убью, как собаку!
Шоркунчик повис на нём.
– Иван Максимович! Ты – мой гость. Ты в моём доме. В доме у себя я не могу допустить
того, о чём ты говоришь. В тундре как хочешь, так и делай, а здесь нельзя.
Проигрыш как-то весь обмяк. Повалился на пол и заплакал.
– Очнись, Иван Максимович' Нехорошо так. Не баба ты...
– Вы... выпить!.. Давай скорей выпить!
Шоркунчик на несколько секунд вывернулся из комнаты и принес бутылку водки и
чайный стакан.
Залпом выпил Проигрыш два стакана подряд, и прошли слезы. Скрипнул зубами.
Погрозился:
– Дознаюсь!.. Я – дознаюсь!.. А нынче – давай пить.
– Твоя жена и твой сын скажут: спаиваю я тебя. Они за тобой пришли.
– Они так скажут? Сию минуту отправлю их! – И Проигрыш вышел в ту комнату, где
пили чай.
– В чум поезжайте, – мрачно сказал жене.
– А ты? – спросил Степан.
– Тут останусь.
– Зачем?
– Дело одно надо справить.
У Шоркунчика блестели глаза. Он не мог сдержать улыбки, когда встречался глазами со
старостой.
Проигрыш даже не вышел из избы, чтобы проводить жену и сына в чум. Он выбросил на
стол червонец.
– Неси, Николай, на все!
Пили и играли всю ночь. Проигрыш пил водки больше всех. И он не пьянел и не
проигрывал. На этот раз ему везло. Как ни осторожны были Шоркунчик и староста, а к утру
перед Проигрышем лежало около ста рублей выигрыша.
УГОЛЁК
1
Старшему сыну было семнадцать лет, когда семья Ионы и Пеляпы Выучеев пополнилась
тринадцатым ребёнком – девочкой.
Иона взъярился:
– Опять девку!.. Важенкой тебе быть надо бы – оленьей самкой! Цена тебе хорошая была
бы: каждогодно по важенке рожала бы. Ты – баба на мою беду! Каждогодно по бабе рожаешь.
Десять девок, парней – три... Тьфу! Собака!.. Что с девками делать стану? Промышлять не
годятся, а есть каждый день им подавай!.. Сама нарожала – сама и корми!
Ещё в тот год, как Пеляпа родила пятую дочку, Иона ремнем выпорол домашнего божка и
пригрозил ему:
– Ещё раз у жены дочка родится – в огонь брошу тебя!
Пеляпа сказала тогда Ионе:
– Вожжа в твоих руках – оленья упряжка туда бежит, куда ты хочешь. Нужда да горе
мысли твои обвожжали. Не ты ругаешься – нужда да горе языком твоим правят.
– Так-так!.. Так вот и есть! – одобрил Иона рассудительность жены. – Не хотел бы
сказать – нужда заставляет! Про себя, однако, так думаю: – Трое наших сынов подрастут да
промышлять станут – вот тогда нужда вожжи из рук выпустит.
Сыновья подрастали, но увеличивалась и семья, а оленье стадо уменьшалось. И в
рождении каждой новой дочери Иона стал обвинять не только богов, но и жену. Пеляпа
терпеливо выслушивала грубую брань мужа: Иона был полным властелином над её жизнью и
смертью, как над жизнью и смертью любого оленя в своём стаде. Таков уж древний ненецкий
обычай. Этот же обычай наделял и её – мать десяти дочерей – правами владыки над жизнью
и смертью своих детей.
– Эту кормить не стану! – выкрикнула Пеляпа, когда стало ей невмоготу слушать
попреки да ругань мужа.
Иона будто не слышал. Это значило – он согласен с решением жены.
Не прошло после этого и суток – Пеляпа пожаловалась мужу:
– Груди ломит – терпения нет!
Иона равнодушно сказал:
– От грудей молоко в голову кинется. С важенками так бывает: молоко в голову кинулось
– важенка подыхает. С тобой тоже, однако, так будет.
– Я издохну – без меня с такой кучей ребят что будешь делать?
– Другую жену возьму... Нярвей, однако, женой сделаю. Нярвей – вдову Хылте Тайбарея.
У Нярвей четверо, однако, маленьких сыновей, а оленей больше, однако, двухсот.
Тут уж Пеляпа в крик, в слёзы ударилась. А Иона – из чума вон: повоет жена, да и
перестанет.
Вернулся Иона в чум – что такое? Пеляпа встречает его не плачем, а воркотней:
– Важенка, говоришь, я?.. Пусть так. Нялоку – детёныша важенки – родила тебе. Нялока
– так стану новую дочку звать. Хорошо?
У Ионы язык, что называется, за щеку запал. А убить жену, как это делали некоторые
мужья, – нет, Иона не был способен на убийство. Установленную обычаем деспотическую
власть хозяина чума он проявил несколько позже. Когда девочка была крещена в деревне
русским попом и названа Мариной, Иона приказал:
– Назовет кто девку Нялока – голову оторву! Марина – русское имя последней моей
дочери. Так и зовите.
И трехмесячная Нялока стала Мариной.
Старшие сестры забавлялись Мариной, как живой куклой: нянчились с нею, кусочки
пищи из своего рта совали в её ротик. Сестры же научили Марину одеваться и укрываться на
ночь оленьими шкурами.
Марине было пять лет, когда она неожиданно для всех и для самой себя в один день
стала общей любимицей. За нею начали ухаживать все, ей стали давать лучшие куски сырого
и вареного мяса.
Год, что принёс Марине общую любовь и суеверное перед нею преклонение, был
особенно тяжелым для всей семьи Ионы. Неудачно охотился в том году Иона Выучей с
сыновьями, и вся семья жестоко голодала.
Пятилетняя Марина как-то пролепетала старшему брату, собиравшемуся на охоту:
– Пойду с тобой. Мышь найду – съем.
Тот был сам голоден и понял голод ребенка.
– Пойдём.
Марина уселась на санки позади брата и тот погнал тройку оленей к сопке, чтобы
посмотреть оттуда, не видно ли где какого зверя. И с сопки Марина первая увидела стадо
оленей. Она толкнула ручонкой в спину брата и сказала:
– Ты!.. (Олень.)
Тот оглянулся.
Да, Марина видела оленей... Сначала он подумал, что это ручные олени, но, вглядевшись
попристальнее, обрадовался:
– Дикие!
Сделав большой крюк, брат сумел подкрасться к стаду и убил трёх оленей.
Вся семья Ионы в тот день была сыта. А про Марину отец сказал:
– Счастье девка приносит. Надо её на охоту брать.
Через несколько дней второй брат Марины поехал с нею на осмотр капканов и в одном из
них нашел лису-серебрянку. Шкурка такой лисы ценилась в ту пору очень высоко. От ижемца
Павлова, торговца в селе Пусто-озеро и владельца нескольких оленьих стад, в каждом из
которых было не меньше одной-двух тысяч голов, Иона получил за шкурку серебрянки
четыре сотни оленей. С той поры у Марины в косах и на расшитой панице появились медные
колокольчики. Каждое движение её стало сопровождаться легким звоном меди. Сестры
соперничали друг с другом в желании помочь Марине, облегчить её жизнь и стойко
переносили щелчки и ругань отца и матери: они молча, суеверно признавали право Марины
на исключительную любовь отца, матери, братьев.
И Марина росла капризной и требовательной. Это, впрочем, не помешало ей к
тринадцати годам научиться делать всё, что полагается ненецкой женщине: снимать с оленя
шкуру, выделывать эту шкуру, шить одежду и обувь, собирать топливо, варить мясо,
устанавливать и снимать чум, укладывать разное барахло в лари, привязывать шесты и
покрышку чума к санкам. Узнала Марина и большинство ненецких обычаев. К ней уже и
жених сватался, но Иона не выдал её только потому, что все ещё видел в ней живую богиню
промыслового счастья.
2
Зима в том году выдалась морозная и вьюжная.
С пастьбы оленей, по утрам, Иона возвращался в чум иззябшим, злым.
К его приходу жена всегда накладывала много дров на огонь, чтобы было теплее в чуме.
Марина, единственная из дочерей, ещё не выданная замуж, помогала матери заготовлять
дрова и поддерживать огонь.
Однажды Иона вернулся от оленей особенно мрачным: ночью напали на оленей волки и
загрызли трёх важенок.
Мать прикрикнула на Марину:
– Больше дров клади! Видишь – замёрз отец.
Марина набрала охапку еловых сучьев и бросила на огонь. Сучья весело затрещали, а
Иона начал рассказывать про нападавших на оленей волков.
Пеляпа, слушая рассказ и поохивая, наливала Ионе чай из кипящего над огнем чайника.
Когда она стала снимать чайник, из костра прыгнул ей на голову уголёк...
Ужас исказил лицо женщины.
Озверело вцепился в горло Пеляпы Иона. Завыл, брызжа слюной:
– Дьявол! Чёрт! Ведьма... Оторву голову!
Марина заступилась за мать: повисла на руке отца.
– Отец, не тронь! Не бей! Мать не виновата, я знаю...
Но Иона знает от стариков: «Уголь бросают боги на голову неверной жены».
Боги!.. Разве может Иона сомневаться в знаниях богов? Разве может он допустить, что
боги врут, а его жена и дочь говорят правду?
Нет, все тадибеи-шаманы во всех тундрах говорят одно:
– Боги знают то, что не дано знать человеку. Боги знают не одни дела – знают все мысли
человека.
И так утверждают не только тадибеи-шаманы, так утверждают русские тадибеи-попы в
церквах:
– Бог всё знает, все видит. Бог справедлив.
Неужели врут все тадибеи?!
Нет, не верит Иона ни жене, ни дочери! Он верит тадибеям, поэтому бьет наотмашь
Марину по голове.
Удар пришелся в темя. Марина, тихо охнув, упала возле огня. Правая её рука попала в
огонь.
Иона, схватив жену обеими руками за горло, приподнял её и бросил оземь. Плюнув
потом в лицо лежавшей, он повернулся к Марине и отдернул её от огня, прикрикнул:
– Что притворилась? Собирай чум!
Через несколько минут он убедился, что Марина не дышит. Животный страх охватил
Иону, вытолкнул его из чума.
– Поганое место! Проклятое место! – плевался он, торопливо разбирая чум и в
беспорядке наваливая весь скарб на сани.
Семь оленьих упряжек уже стояли около чума: готовился в этот день Иона к перекочёвке
и оленей запряг до того, как зайти в чум, позавтракать и напиться чаю.
3
Когда Марина очнулась, рядом она увидела хрипевшую мать. Отец уже отъезжал от
«поганого места».
Она пронзительно крикнула.
Но то ли не узнал отец её голоса, то ли не слышал крика, – только не оглянулся, а лишь
быстрее погнал оленей.
Марина обхватила шею матери руками и зарыдала, завыла вместе с нею...
Мать царапала ногтями свое лицо, рвала волосы на голове, неистово кляла богов:
– Проклятые боги! Тьфу, тьфу на вас! Ничего вы не знаете про человека, как песец не
знает про капкан у привады1.
– Тьфу на вас, слепые вы! Не верю больше вам!
Потом сама испугалась своих слов. Начала молиться богам, обещала им самые большие
жертвы, если вернётся Иона.
И верила: должен вернуться муж, потому что осталась на чумовище любимая дочь, ни в
чем не повинная...
Двое суток лежали на чумовище Марина и её мать.
Иона не вернулся...
На третьи сутки проходил со своим стадом мимо того места Максим Ванукан.
Максим Ванукан – старый человек. Максим Ванукан знает старые обычаи. Он не
остановит своих оленей у «поганого места». Максим Ванукан не скажет приветливого слова
«поганой женщине», издыхающей на чумовище.
Но Максим Ванукан видит не одну, а двух женщин. Такого случая он не помнит и от
стариков не слыхал о чём-либо похожем. Минуту он раздумывает, потом решительно
поворачивает свою упряжку к лежащим на снегу женщинам.
– Амгэ?2 – спрашивает, остановив оленей.
Мать Марины знает обычаи тундры. Она, обессиленная, уже согласна принимать их, как
месть злых богов, хотя и не знает, за что. Она знает: ничем не провинилась перед мужем. Но
думает: провинилась в чём-то перед богами. И боги бросили на неё уголь из костра. Она
покорна воле богов. Она может ругать богов, может плевать на них, но она не осмелится
нарушить обычая, освященного тысячелетиями. Она кричит Максиму:
– Я – поганая. Ко мне не подходи! Девка не поганая. Девку отец зашиб. Девка осталась
со мной мёртвая. А после девка ожила. Девка – моя дочь Марина. Возьми мою девку себе.
Увези девку с собой. Моя судьба – издохнуть на чумовище. Ты увезешь девку с собой – это
будет её судьба.
– Иди! – сказал Максим Ванукан Марине.
– Не хочу! – кричит девочка.
Максим взял Марину в охапку и положил на свои сани.
Марина рванулась с саней...
Тогда взял Максим Ванукан веревку и привязал Марину к саням.
Плакала привязанная Марина, колотилась головой о сани. А мать Марины опять рвала на
себе волосы, ногтями царапала себе лицо. И слёзы смешивались с кровью на лице.
Максим Ванукан оставался глухим к этим воплям. Максим Ванукан знал своё дело: он
взял вожжу и хорей – шест, которым погоняют оленей, и поехал к стаду.
ЕЁ СУДЬБА
1
Марина три месяца болела после того, как подобрал её на чумовище Максим Ванукан.
Жена Ванукана ухаживала за Мариной, как за своим любимым ребёнком. И Марина
постепенно примирилась с потерей матери. Время и работа притупили её воспоминания о
страшном дне, когда она вместе с матерью была брошена на чумовище.
От пережитого глаза её стали покорными, как глаза оленя, а улыбка очень редко
появлялась на её лице... Она делала то, что заставляли делать её Максим или его жена.
Никогда ни о чём не просила она ни самого Максима, ни его жену. Никогда не спрашивала у
1 При ловле песцов капканами ставят сначала «приваду» – рыбу или мясо. Песец привыкает ходить к приваде,
есть её. Тогда к приваде ставят капкан.
2 Амгэ? – Что?
них ни про отца своего, ни про мать. Она примирилась с тем, что семья Максима – её семья.
И когда умерла старуха Ванукан, Марина молча заменила её как хозяйку. Ни Максим, ни его
сыновья не почувствовали поэтому отсутствия руки хозяйки, когда умерла старая Ванукан.
День за днём Марина всё больше и больше начинала интересоваться жизнью семьи
Максима. Стала расспрашивать о их роде, о том, как они жили, как промышляли, где
кочевали.
Особенно охотно расспрашивала она старшего сына Максима – Сергея –
тридцатилетнего крепкого весельчака, умевшего о каждом событии рассказывать непременно
смешно.
Сергею тоже нравилось разговаривать с Мариной. Ему всё хотелось, чтобы Марина
засмеялась звонко, весело, как умел он сам смеяться. Но Марина всегда только улыбалась. И
эта беззвучная улыбка Марины стала со временем ему особенно нужной, стала чем-то таким
необходимым, без чего человеку трудно жить.
Максим Ванукан уже много раз говорил Сергею:
– Надо тебе жену. Годы твои текут, как вода в реке. Старость подкрадывается, как лиса к
куропатке, и не оставишь ты после себя семьи.
– Не хочу жениться. Не хочу семью иметь с молодых годов, – упрямо твердил Сергей на
все доводы и угрозы отца.
Настойчив был Максим Ванукан, но настойчив был и сын Максима – Сергей. Старик
махнул в конце концов на сына рукой и стал наседать на младшего сына Ивана, когда тому
минуло восемнадцать лет.
– Тебе, Иван, жену в эту зиму подыщу, – сказал раз Максим, когда Марины не было в
чуме.
Иван зарделся, но ничего не ответил отцу. Летом Иван видел красивую Харьку Леткову и
с тех пор думал о Харьке как о своей жене. Да, восемнадцатилетний Иван не прочь был
жениться на тринадцатилетней Харьке Летковой. Он так и сказал отцу, потупя глаза:
– Хочу.
Но тут в разговор вмешался Сергей.
– Я тоже, отец, хочу жену иметь.
– Но-о!?
– Хочу.
– Вот как опять! То не хотел – не хотел, то опять захотел. Ну, то опять тоже ладно. Тебя
наперёд женю. Потом Ивана женю. Завтра утром и поеду жену тебе искать.
Но Сергей не хотел, чтобы отец искал для него жену. Он сказал отцу:
– Не надо ехать искать. Я хочу сделать женой Марину.
Максим раскрыл рот. Почесался. Молча выпил чашку чаю.
– Что скажешь, отец? – не удержался, наконец, Сергей.
– Что скажу?.. Нечего сказать. Род Ионы Выучея – не худой род. Надо будет тогда Ионе
весть послать, чтобы не подумал, что мы воруем у него девку.
– Иона не согласится – тогда как?
– Не знаю... Без согласия Ионы тоже нельзя.
– Я сам поеду искать Иону.
– Ладно. Поезжай сам.
Сергей объехал Большую и Малую Землю, побывал на Тиманской Земле – нигде и никто
не слыхал об Ионе. На Большой Земле говорили Сергею:
– На Малую Землю Иона подался.
На Малой Земле сказали:
– В Тиманскую, надо быть, откочевал.
А в Тиманской Земле сказали:
– Кочевал здесь с сыном...
Долго ездил Сергей по Тиманской Земле, но нашел-таки Иону.
Начал Сергей осторожно, издалека.
– Девка Марина у тебя есть?
– Была.
– Ныне где?
– Не знаю.
– Так... Не умерла?
– Не знаю.
– Так... Не слыхал?
– Нет.
– Так... Я слыхал...
Иона встрепенулся.
– Где слыхал? От кого? Где живёт?
Осторожно, обходя многие вопросы, но рассказал Сергей, что было на чумовище. Тогда и
Иона сказал:
– Я через шесть дней был на чумовище. Баба, видел, – издохла. Думал – ушла девка к
русским. Деревня близко тут, вишь ты. Ездил и в деревню. Спрашивал. Не видали, говорят. У
наших тоже спрашивал. Не видали, говорят. Все тундры объехал – её искал. Зачем весть
раньше не подали?
– Она не просила. Мы не догадались. Её тоже берегли, чтобы от других о тебе не
услыхала: больна была. Теперь здорова. Хорошо живет. За хозяйку в нашем чуме. Поедешь
смотреть?
– Поеду.
Иона чувствовал себя виноватым перед Мариной и только поэтому согласился выдать её
за Сергея.
Для Марины снова началась хорошая жизнь. Сергей старался помогать ей во всём, берёг
её.
Три года прожила Марина за Сергеем, как три дня. А через три года случилось
непоправимое. Случилось такое, что и в тундрах редко бывает. Сергея, караулившего в
осеннюю ночь оленей, загрызли волки.
Как это произошло, так и не могли узнать. То ли ружье подвело Сергея – осечку дало, то
ли иное что случилось, но от Сергея нашли остатки разодранной одежды да кости ног,
обутые в пимы, кости рук и кровь. Винтовка Сергея валялась среди костей.
Максим осмотрел винтовку.
– Стрелял, – сказал он Ивану и Марине, – стрелял... Ранил, видно, волка, и волк на него
бросился.
Так или не так это произошло – Марине не было от этого легче. Она собрала остатки
того, что было недавно её мужем, обливаясь слезами.
Весь день сидела она над останками мужа, а к ночи Максим и Иван отнесли её в чум.
Максим закопал кости Сергея в землю и рано утром на следующий день ушел от этого
места.
Через неделю Марина перестала плакать. Но смех и даже улыбку она утратила навсегда.
Стала смотреть на всё как-то безразлично. Ничто её не трогало, ко всему она была
равнодушна. И равнодушно она отнеслась к словам Максима, когда он сказал ей:
– Будешь женой Ивана.
Иван не хотел иметь такую невеселую жену, но не смел пойти против воли отца, против
обычая.
МОЛОДОЙ ПРОМЫШЛЕННИК
1
Семья и все имущество всегда с собой у кочевника ненца.
Со времен седой старины и до последних лет ненец не знал разлуки с членами своей
семьи. В роли разлучницы выступала только смерть. И ненцы твёрдо верили, что их
семейный уклад останется навсегда таким, как навсегда останется солнце светлым, а волк
жадным.
Но пришел великий Октябрь 1917 года, и ненец начал рвать стальные путы исконных,
извечных обычаев и устоев. Октябрь заставил ненца подумать, подумать и ещё раз подумать
над своей жизнью и сделать вывод:
– Разлука на время – польза для меня, для моего сына, для моей дочери.
И сыновья и дочери ненцев отлучились от семьи: ушли в школы...
Тяжела первая разлука для родителей, для ребёнка. Многие не выносили её: родители
приезжали в школы и увозили своих детей раньше срока. Многие дети упрямо рвались из
душных деревянных стен на просторы тундры.
На место ушедших, не вынесших разлуки с родными, приходили новые – более
настойчивые, более приспособленные. Возвращались и те, что не могли сразу осилить тоски
по родным просторам. И выдерживали дольше, чем в первый раз...
Так шли день за днём, год за годом.
2
Первые дни Степан всего дичился в школе. Всё ему не нравилось. Стены и потолок
давили его. Ночью в спальне нечем было дышать. И под одеялом (а не под оленьей шкурой)
было очень холодно. С кровати он часто падал...
Недели две он не разговаривал с учителем, хотя и говорил по-русски. Плохо ел. Не хотел
играть, когда играли ребята. Не смеялся, когда смеялись товарищи: он не понимал, как можно
смеяться, когда не видишь оленей, не чувствуешь просторов тундры... И только чтобы
утишить тоску, щемящую грудь, – только поэтому он слушал учителя, писал, рисовал.
Запоминать, впрочем, не старался. Не видел смысла в запоминании слов учителя, не нужных
для тундры каких-то крючков, выписываемых на классной доске, в тетрадях.
Впервые рассмеялся Степан, когда учитель белым мелом на черной доске вывел:
СТЕПАН ВАНУКАН.
Эти два слова – только красным на белой полоске – были и на Степановой парте. Степан
узнал эти слова. Узнал – и кровь залила его лицо. Горячая кровь разогрела на щеках Степана
кожу и раздвинула губы в улыбку.
– Это – я! – сказал он учителю, показывая на доску.
Ребята залились дружным смехом. Застыдившийся Степан спрятал голову под парту.
Учитель подошел к Степану.
– Не стыдись. Ты узнал свое имя... Не ты на доске – имя твое написано. Клеймо твое
написано. Такое же клеймо и на твоей парте, вот здесь, – показал он на белую полоску
бумаги.
Степан посмотрел на бумажку, посмотрел на доску...
– Ты прочитал своё имя – это хорошо, – продолжал учитель, – теперь смотри: я напишу
другое имя. Попробуй узнать.
И учитель написал имя товарища Степана по парте.
Опять улыбнулся Степан и прочитал:
– Иван Вылка.
– Верно.
– Ещё напиши! – не помня, что говорит, крикнул Степан.
Учитель написал ещё и ещё.
Степан узнал только два имени. Это огорчило его. Хотелось уметь читать имена всех
товарищей. И в перемену он стал обходить парты и внимательно разглядывать написанное
красным на белых полосках. Он знал, кто где сидит, и через два дня мог прочитать на доске
имена всех своих товарищей.
С этих дней Степан не знал больше скуки. Огромнейшим наслаждением для него стало
разыскивать в книге знакомое слово, любовно выводить его чернилами и карандашом на
бумаге.
Одолевая в букваре строчку за строчкой, он стал смотреть на них, как на тропинки в
тундре. Но в тундре отец Степана знал все тропинки. В тундре и сам Степан узнал от отца о
многих тропинках. Узнал о начале и конце тропинок. Строчки в книге интереснее тропинок,
потому что никогда не знаешь, куда, к чему приведёт строчка-тропинка. Ходить по строчкам-
тропинкам – да, это очень интересно! По ним не умеют ходить ни отец, ни мать Степана. А
Степан первый научился ходить по ним. И научит ходить по строчкам-тропинкам отца и
мать. Тогда все в тундре будут уважать их не только как хороших промышленников, но и как
людей, умеющих узнать всё, что может узнать человек из книг.
3
В январе приехал в школу Степанов отец. Приехал пьяный, посидел перед этим за
игорным столом. Нашумел в школе, напугал всех ребят. Звал Степана в чум.
Степан не поехал. Степан сказал отцу:
– Читать учусь. Немножко умею. Научусь книги читать – тогда поеду. Сейчас не поеду.
– Отца не слушать? – вскричал было Иван Максимович. Но вмешался в разговор учитель
и убедил Проигрыша.
Степан остался в школе. Остался до весенней распутицы. Но, когда начал таять снег,
когда солнце не стало почти сходить с горизонта, почувствовал Степан, как и в первые дни
пребывания в школе, смертельную тоску по тундре. Вот почему не стал он уговаривать отца
оставить его до первомайского праздника.
Больше пяти месяцев не видел Степан своей матери, и ему хотелось приласкаться к ней,
ткнуться, как бывало в детстве, головой в колени.
Но встреча произошла при посторонних: тут были и русские, и ижемцы, и ненцы. Не
годится, да и не пристало ненцу показывать свои чувства при чужих людях. Тем более, что
Степан был вправе считать, себя взрослым хасово (промышленником): с восьми лет он уже
помогал отцу в промыслах, а к одиннадцати годам стрелял не хуже многих взрослых ненцев.
Не годилось хасово по-ребячьи тереться около матери.
Мать посмотрела на Степана и сказала ему:
– Здравствуй, Степан.
Степан сказал по-русски:
– Здорово...
И ничего, кроме этого слова. Не подошел к ней, не приласкался, даже руки не подал, как
подавал всем чужим, здоровавшимся с ним. Только в груди у него стало особенно тепло,
когда встретился взглядом с покорными глазами матери.
Пока сидел у Шоркунчика, пока ехали до чума, не сказал Степан ни одного слова своей
матери. Не говорила и она с ним. Да и трудно было в дороге говорить: мать ехала на








