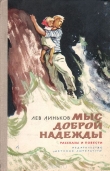Текст книги "Классики и современники"
Автор книги: Павел Басинский
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Петр Алешковский: Однажды в Старгороде
В первом знакомстве с именем Петра Алешковского есть какой-то забавный привкус.
– Алешковский? Это который? Юз?
– Да нет, это другой Алешковский!
Или так:
– Читали Алешковского? Не путать с Юзом!
Быть тенью своего знаменитого однофамильца (и родственника) не слишком почетная обязанность. Скорее всего, это обидно. «Да не Юз я, не Юз, я другой!» Конечно, есть классические примеры – «третий Толстой» и проч. Леонид Андреев в начале творческого подумывал о звучном псевдониме (мол, что такое «Л. Андреев» – несолидно!) – пока не согласился все-таки сохранить свое изумительное нежно-орловско-московское литературное имя, правда, с непременным сочетанием имени-фамилии: «Леонид Андреев» – так лучше звучит.
Петр Алешковский – другой случай. В этой фамилии, с момента появления в нашей печати «Николая Николаевича» (сочинение Юза), неизбежно присутствует легкий элемент псевдонимности. Между «Юзом» и «Алешковским» не осталось ни малейшего зазора, как между бильярдными шарами в точке их пересечения, как между словами и лексемами в прозе Юза. Какую досаду вызывает случайно возникшая помеха: зачем тут вклинился какой-то «Петр»!
Юз Алешковский – звучит смачно, вызывающе. Петр Алешковский – вызывает разочарование. Первое имя – веселая литературная «маска», горчица с уксусом, обжигающие нёбо. Второе – обозначение факта: папа с мамой назвали Петром, а могли бы – Иваном.
Это совсем не игра слов. Это ключ к пониманию прозы «другого» Алешковского. Писателя, который выходит к своему читателю без «легенды».
Но что такое «легенда»?
Можно написать целую книгу о том, как создавались в ХХ веке писательские имена, в каких чудовищно запутанных этических и эстетических условиях это происходило. О том, сколь часто подлинные и даже великие художественные таланты пребывали в тени, а их место замещали несомненные «эрзацы» или же просто – откровенные проходимцы. Этот век с беспощадной ясностью показал, что без «легенды», хотя бы и крохотной, без «маски», хотя бы и самой нелепой, даже очень крупный по внутренней творческой возможности писатель обречен влачить полупризрачное существование, будучи лишен более или менее отчетливой читательской аудитории. И наоборот, самый незначительный талант, сознательно или по воле случая обретший свою «легенду», способен вырастить свое маленькое художественное зерно до гигантского общественного баобаба. Между прочим, в этом порой заключается и несчастье маленького таланта, еще при жизни смутно начинающего понимать свою подменность, – про это, в частности, есть пронзительные размышления у Валентина Распутина в рассказе «Что передать вороне?» Сегодня возникают новые «легенды». Сегодня оказаться в эпицентре литературных событий, в общем-то, весьма просто. Для этого нужно выбраться на краешек огромной воронки, всасывающей всё без разбора, в образе которой мне видится нынешняя литературная жизнь. Дальше все происходит как-то само собою, без вашего участия. Оставшихся в стороне просто не замечают.
Я говорю это не для того, чтобы выгоднее подать Петра Алешковского, чей путь в литературе, не стану скрывать, мне глубоко симпатичен. Дело в том, что в его лице я вижу не просто хорошего писателя – но и нечто большее: возможность органическогописьма даже в сегодняшних условиях. Феномен Алешковского и ему подобных новых «традиционалистов», как ни странно, больше убеждает в победе свободы, нежели самые ошеломительные выходки из лагеря «другой литературы», давно ставшей, в сущности, весьма заурядным явлением.
В Алешковском привлекает какое-то генетическое чутье, позволяющее ему ходить в нынешнем литературном море с небрежностью старого лоцмана, который минует любые опасности даже не взглянув в их сторону. Мне кажется, что он прежде словесного мастерства или так называемого «жизненного опыта» обрел главное писательское знание, а именно: все подлинное в литературе развивается только «путем зерна». Алешковский живет в русском реализме, как в своем доме, если не сказать высокопарно – в своем отечестве. Поэтому почти невозможно предугадать его литературное поведения, а тем более – схватить за руку на постоянном использовании какого-либо «приема». Для любителей развязывать узелки интеллектуальной прозы Алешковский – чтение скучное и, пожалуй, даже досадное.
Цикл его первых рассказов называется «Старгород». Гоголевская примета здесь, однако, обманчива: эта тропинка приведет в никуда. Вернувшись назад, вы обнаружите, что «Старгород» вовсе не «аллюзия», что автор не предлагал никакой «игры». Это просто провинциальная Россия, какой ее видит Алешковский, не забывая, впрочем, что когда-то ее видел и такой писатель, как Николай Васильевич Гоголь.
Иногда кажется, что Алешковский смеется над своим потенциальным критиком. Назвать вторую после «Старгорода» вещь «Чайки», значит – или чего-то не понимать, или что-то сознательно не замечать. Между тем, повесть эта – о северных рыбаках, о странном, непостижимом мире, который живет как бы вопреки законам цивилизации. Чехов вспоминается здесь постольку, поскольку реализм Алешковского, как и подобает истинному реализму, «возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа» (М. Горький).
Если бы он назвал свою новую повесть как-нибудь «литературно» и снова нас обманул, я бы заподозрил его в сознательном лукавстве. Но называется она удивительно странно – «Жизнеописание Хорька», и представляет собой тип обыкновенной авантюрной вещи, о которой в журнале «Новый мир» в разделе «Summary» для непонятливых иностранцев сказано, что ее герой «a young man from a small provincial town, who has opposed himself to his social surroundings…» (молодой человек из провинциального города, противопоставивший себя своему общественному окружению).
Самое любопытное, что это верно. Иностранец в своих ожиданиях не обманется. Повесть Алешковского можно и так прочитать, как когда-то читали русские повести ХIХ века – через призму общественного критицизма. Алешковский не боится быть заподозренным в увлечении «натуральной школой». Скорее, он сознательно это подозрение провоцирует, но делает маленькую и почти незаметную поправку к слову, которое вдруг обретает первичный и уже не «французский» смысл (natura, т. е. природа). Natura районного города, где все изувечено полуцивилизацией, и natura российской деревни, в которой хотя бы отчасти успокаивается душа главного персонажа, и natura таежного озера и леса, где герой впервые чувствует себя в родной стихии и куда его ведет какой-то древний неистребимый инстинкт.
Алешковский не избирателен. Городские сцены описаны с таким же художественным увлечением, как и деревенские и таежные. Жизнь волнует его в своей пестрой неразрывности и неслиянности. Он знает, что в органическом течении этой жизни заключен какой-то недоступный смертному порядок и смысл, и поэтому его Хорек столь болезненно отвечает на любые попытки со стороны людей (даже священника) вовлечь его в «идейное» понимание мира и, как следствие, в какую-либо общественную активность.
Недаром его настоящее имя – Данилка, Даниил (т. е. «Бог мой судья»). Будь он избран Богом, он, наверное, сумел бы на Валтасаровом пиру нашей жизни прочитать странные, роковые надписи, возникшие перед глазами пирующих. Но Данилка – не избран. Вот это понимание своей «неизбранности» (в сущности – драгоценное, чего так не хватает сегодня нашим общественным и политическим «пассионариям») и приводит его к смирению, к выбору той натуры, которая непротивна его душе.
«По прописи звался он теперь Даниил Анастасьев, а меж деревенскими – Сонечкин – по имени присвоившей его бабы… Сонечкин Данила, или просто Сонечкин, живет легко, поколачивает свою брюхатую уже бабеху и грозится время от времени сбежать от нее в лесники – там больше платят».
Бабу его зовут Софья.
То есть – «Мудрость».
Но это уж потом, после прочтения, задумываешься и о библейском смысле имени героя и о том, как неожиданно решает писатель тему «маленького человека». Во время чтения эти мысли лишние. Алешковский заставляет работать элементарные органы восприятия, прочищает уши, нос, глаза. Когда вы читаете о лесных странствиях Данилки – вы странствуете, вдыхая воздух полной грудью. Когда попадаете в город – ёжитесь вместе с героем, выставляете локти торчком, чтобы вас не затолкали. Все мысли потом, потом…
Это уж потом догадываешься, что проблему судьбы героя автор так и не решил. Озлобленного на весь человеческий мир (за то, что не приняли, что родился уродцем, что не доставало еды и тепла) человечка он отправил в деревню, женил на простой бабе с «мудрым» именем Софья. То есть, как говорится, «примирил». Но бегство героя от мира было куда увлекательней жизненного финала. Однако, кто сказал, что судьба вообще решается?
Есть в повести поразительная сцена, когда Данилка, обиженный и отторгнутый всеми, сидит в своем подвальчике и обдумывает бегство из мира.»… он топил печь, не закрывал дверцу, глядел в огонь тупо и сосредоточено. Пламя плясало на плоском личике, на хоречьем его рыльце. Он сидел на чурбаке, сосал палец, сидел маленький, как обрубок, как ненужный еловый комелек…»
Это я, мы, все… Вчувствуйтесь в это! Пошевелите обрубком своей души. Душа тоже орган восприятия мира. И это она предельно изувечена, почти наглухо закрыта. И никакая «мудрость» мира нас не спасет.
1994
Константин Ваншенкин: Чем старе, тем сильней…
«Безумных лет угасшее веселье / Мне тяжело, как смутное похмелье. / Но, как вино – печаль минувших дней / В моей душе чем старе, тем сильней…» Знаменитые строки пушкинской «Элегии», заканчивающейся словами «И может быть – на мой закат печальный / Блеснет любовь улыбкою прощальной», – могли бы послужить общим эпиграфом к целому специфическому направлению русской, да и мировой лирики, которое весьма осторожно, но и вполне определенно можно обозначить как «любовные стихи, написанные в старости».
Бесспорный мировой классик этого направления Гете с его «Трилогией страсти», посвященной 19-летней Ульрике фон Левецов, в которую престарелый поэт влюбился в Карлсбаде, сделал ей предложение и даже едва-едва не стал ее мужем. В России певцами «любви запоздалой» были Федор Тютчев и Константин Романов, член императорской семьи, печатавшийся под псевдонимом К. Р. Лучшая, самая пронзительная любовная лирика Фета была написана в старости, когда женившийся по расчету поэт уже был примерным помещиком, владельцем трех богатых имений, но физически настолько слаб, что по собственному саду разъезжал в коляске с осликом…
Любопытно, что запоздалая интимно-лирическая страсть поэтов вызывала гнев не только обывательской морали, но и великих современников. Владимир Соловьев в эпиграмме писал о своем друге и корреспонденте Фете (хотя и по другому поводу): «Жил-был поэт, нам всем знаком, / Под старость лет стал дураком». Лев Толстой, высоко ценивший Тютчева-поэта, старчески ворчал в связи с его откровенным «денисьевским циклом». Вроде: мол, как же так, старик ведь уже, песок с головы сыпется, а туда же!
Есть, однако, некая таинственная поэтическая правда в том, что самые сильные и пламенные любовные стихи в русской лирике написаны стариками. Причем, по понятиям 19-го века, глубокими стариками. Именно в этих стихах последняя интимная откровенность (тот же Толстой, шутя, говорил: о женщинах всю правду скажу, только когда лягу в гроб. Скажу и захлопну крышку) странно граничит с удивительной стыдливостью. Любовь и эротика здесь становятся чистым фактом искусства, лишаясь, с одной стороны, мутной физиологии, а с другой – не менее мутной риторики, эту физиологию прикрывающей. Если о любви и страсти пишет старик и пишет не прозой, а стихами, то это или полный кошмар или эстетический шедевр, среднего быть не может.
82-летний поэт Константин Ваншенкин выпустил книгу стихов «Шёпот. Интимная лирика» (М.: Спутник+, 2008). Аннотация к ней – самая короткая из всех, которые мне доводилось читать: «Это книга о близких отношениях мужчины и женщины». Почти четыреста страниц стихотворений, многие из которых откровенно эротичны. «Она разделась суетливо, / Решась, оставила кусты, / Пошла тревожно, торопливо, / Стыдясь своей же наготы…» Это – о юной купальщице. За которой лирический герой, скажем прямо, подглядывает. С точки зрения обывательской морали это ужасно. С точки зрения поэзии – совершенно нормально. «Она лежала на спине, нагие раздвоивши груди…» – писал далеко не молодой Бунин-поэт о спящей женщине. И – не будем сравнивать масштабы талантов. Константин Ваншенкин – поэт со своим лица «не общим выраженьем», а кроме того один из последних действительно крупных поэтов военной темы. Его стихотворение «Женька» 1957 года лично я считаю не меньшей поэтической классикой, чем стихи великих. Только Ваншенкин мог так описать смерть девушки на войне: «Пошли на заданье ребята. / Ударила вражья граната. / Из ватника вылезла вата. // Висит фотография в школе – / В улыбке – ни грусти, ни боли, / Шестнадцать ей было – не боле. // Глаза ее были безбрежны, / Мечты ее были безгрешны, / Слова ее были небрежны…»
Пороховой привкус остался и в «Шёпоте». «Вернулся муж с большой войны. / Ушла родня, все гости тоже, / И слушал он шаги жены, / Уже в постели мягкой лёжа. // В буфет посуду убрала, / Поднять окурок наклонилась, / Сняла скатёрку со стола / И наконец угомонилась. // Шинели тронула рукав, / Щекой припала, вся зарделась, / Потом прошла за старый шкаф, / Свет погасила и разделась». Между прочим, это именно эротические стихи, причем с таким мощным зарядом спрессованного эротического предчувствия, о котором сказать прозой было бы пошлостью (только Андрею Платонову удалось это поднять на невероятную высоту в рассказе «Возвращение»).
Но в книге много и просто интимной лирики, не имеющей отношения к войне. Есть восхитительные короткие стихи: «Начала раздеваться с перчаток, / В энергичных движеньях смела, / Но сначала с лица отпечаток / Небольшого смущенья сняла». Всё стихотворение. И – целая психологическая новелла.
Конечно, Ваншенкин рискнул. Есть в книге и пробелы (не провалы). Но все-таки остается после нее какое-то стойкое ощущение свежести лирического дыхания. Победы над увяданием и тлением. Поэзии, проще говоря.
2008
Алексей Варламов: Старший сын
В мировом фольклоре есть бродячий сюжет. В наиболее известной и законченной литературной форме он воплотился в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах». Умирает отец, делит наследство между сыновьями. Старшему достается мельница, среднему – осел, младшему – последнее, что у отца есть, кот. Дальше, как в сказке, самым удачливым наследником оказывается младший брат. Его плутоватый кот путем разнообразных постмодернистских махинаций превращает своего хозяина из нищего в маркиза. Он делает это очень просто (хотя на поверхности очень сложно), подменяя причину следствием. Он говорит, что его хозяин маркиз и поэтому ему полагается приличное платье, место в карете и так далее.
Но мы не знаем, что было с остальными братьями. Например, с тем, что остался с ослом. Возможно, он всю жизнь тяжело трудился, добывая хлеб насущный с помощью упрямого и своенравного животного. А может быть, махнул на все рукой, отвел осла на ярмарку, продал, а деньги прокутил в кабаке.
Но труднее всех пришлось старшему брату. Мельница – не кот и не осел. Она не умеет мошенничать, и ее так просто не пропьешь на ярмарке. Это – целое хозяйство. Это не только собственность, но и ответственность. Это наследство в полном смысле слова.
Мне всегда представлялось, что люди культуры и литературы, в частности, примерно делятся на три категории. Одни, имея скромный талант и волю к труду, работают, как проклятые, на ниве культуры, доказывая свое право на существование. Или, если становится невмоготу, если воли маловато, спиваются, кончают с собой или просто бросают к чертям этот адов труд. Другие, обладают не столько талантом, этим даром Божьим (а отношения отца и сына это всегда земная проекция отношений человека с Богом), сколько ловкостью и суммой более или менее удачных «придумок». Они как-то убеждают публику, что они не голь перекатная, а маркизы. Иногда публика им верит. Надо только быть смелее, нахальнее. Надо как можно увереннее опрокидывать традиционные представления о ценностях, о культурной иерархии, и публика непременно дрогнет. И, наконец, третьи, обладая и талантом, и волей к труду, и, главное, чувством ответственности перед наследством, распоряжаются им любовно, но осторожно, приумножая, а не разбазаривая наследство, но и не выдавая мельницу за королевский замок.
Русский литературный человек ХХ, а теперь уже XXI века, особенно обречен осознавать тяжесть доставшегося ему наследства. Отсюда неслучаен и этот футуристический выдох освобождения: «Сбросим Пушкина и Толстого с парохода современности!» Сбросим! Облегчим себе бремя! Но футуристы, по крайней мере, понимали, что это бремя.
В конце ХХ века в русской литературе все перемешалось. Коты, ослы, мельницы, нищие, маркизы – всё было втянуто в соблазнительный водоворот снижения высокого и возвышения низкого и подмены всего всем. Кот Шарля Перро, по крайней мере, вынужден был плутовать достоверно. В конце концов, он предъявил королю реальный замок. В 90-е годы ХХ века и этого не требовалось. Не нужно было доказывать, что ты маркиз. Надо было объявить, что маркиз – это кот. Нужно было сказать, что Лев Толстой – это хохма, это бородатый графоман, а Венедикт Ерофеев – величайший гений всех времен и народов. Не просто талант, не яркий, но частный эпизод литературы, а именно величайший, а Толстой – смешной. Нужно было сказать: я написал три тысячи стихотворений, поэтому я великий поэт. Ведь понятно, что три тысячи стихотворений никто в здравом уме не прочтет. А вдруг как раз не прочитанные стихи и есть гениальные. До этой фантазии не додумался бы и кот Шарля Перро.
Это было время, когда слова и их реальный смысл разошлись непоправимо. Например, Солженицына объявляли литературным диктатором, причем объявляли люди, которые в это время самым жульническим образом прибирали к рукам всю литературную власть, беспардонно диктуя литературную моду.
Именно в это время мы с Варламовым входили в литературу. Мы познакомились в редакции «Литературной газеты», и он подарил мне свою книгу. Я прочитал ее название и понял, что книга мне уже нравится. Она называлась «Здравствуй, князь!» Учтите, что это было время ужасающей, беспорядочной и неряшливой цитатности, «центонности», когда слова в простоте нельзя было вымолвить, когда даже фразу «я вас люблю» нужно было непременно сопровождать ироническим комментарием: «как сказала бы Татьяна Ларина».
«Здравствуй, князь!» тоже была цитата. Но какая!
Это был звук, прежде всего чистый звук. Его хотелось продлить: «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» Кроме того, это название само по себе дышало каким-то спокойным чувством первородства, уверенности в своем положении в литературе. Сам-то Варламов казался неуверенным в себе. Он говорил, что он преподаватель МГУ, который пишет прозу. Но это все была ерунда, естественная, а может быть и несколько кокетливая стыдливость легитимного русского писателя, который имеет правоназвать свою книгу пушкинской цитатой. И, наконец, это было прямое выполнение задания Ходасевича: «аукаться» именем Пушкина в наступающем мраке.
Мне оставалось только прочесть книгу и убедиться, что я не ошибся, откликаясь на это откровенное «ау!»
Потом, читая Варламова, очень по-разному воспринимая разные его вещи, и, наконец, понимая его корневые слабости, которые у хорошего писателя всегда есть продолжения его достоинств (например, отсутствие мускула для сюжетостроения как следствие избыточной исповедальности, исповедальность всегда расслабляет, а сюжет это панцирь, это броня), я всегда помнил этот первый звук. «Здравствуй, князь!»
Князь не князь, но Варламов в литературе несомненно «старший сын». Он, может быть, еще не окончательно литературно «повзрослел», но и есть ли в литературе окончательная «взрослость»? Конечно, бывают вещи удивительные вроде «Героя нашего времени» или «Драмы на охоте», произведений, писавшихся двадцатичетырехлетними людьми, но при этом фантастически «взрослыми». Но то, что Варламов это «старший сын», обладатель не просто наследства, но, выражаясь сегодняшним языком, его «основного пакета», для меня всегда было очевидно. Другое дело, что он не один такой. В его приблизительно поколении я назову и Олега Павлова, и Андрея Дмитриева, и Светлану Василенко (старшая дочь), и Владислава Отрошенко, и малоизвестного липецкого прозаика Александра Титова, и… не буду всех перечислять, чтобы не превращать доклад в отчет о проделанной русским реализмом работе. Но из их совсем недавних предшественников не могу не помянуть уже покойного Геннадия Головина.
На мой взгляд, выбор пал на Варламова не потому, что он крупнее их. Он, я бы сказал, стратегически последовательнее, а стратегия это не последнее дело в писательской судьбе. Можно выдать первую дебютную вещь, которая всех поразит, а потом на всю жизнь остаться «автором такого-то произведения», потому что все последующие вещи будут слабее, без прежней художественной энергии. Потому что автор просто не научился держать дыхание.
У Варламова тоже был шанс навсегда остаться «автором повести «Рождение»». Этот тот случай, когда вещь была написана и хорошо, и вовремя. Невозможно было придумать более ясного и нравственно точного взгляда на революционную смуту начала 90-х годов, когда вместе с СССР могла рухнуть и Россия, чем сквозь больничную палату, где лежит приговоренный к смерти маленький сын. Но в том-то и дело, что Варламов этот взгляд не придумал. Он вообще ничего не придумывает в своих лучших вещах: «Рождение», «Галаша», «Дом в деревне» и других. И, между прочим, самое слабое, что есть в «Рождении» это как раз «публицистика». Но в истории русской литературы нередко бывало, что именно «публицистика» двигала на первый общественный план произведения, которые были «совсем не о том»: «Отцы и дети», «Бесы», «На дне», «Мастер и Маргарита», «Один день Ивана Денисовича». Так что это нормально.
Но Варламов не забуксовал на «Рождении». Хорошо зная все его творчество, я вижу, как он сознательно работает в разных жанрах, в разных родах даже. То, что рассказ и повесть – это его жанры, Варламов уже знает. Но вот он попробовал себя в драматургии. Не получилось, не взял крепость. Отошел. Может быть, еще вернется. С другой стороны. Он отчаянно штурмует романистику, именно штурмует, со всевозможных позиций: социально-психологический роман «Лох», историко-детективно-авантюрный «Ковчег», мистический «Купол», политический «11 сентября». Можно сказать, что он пытается идти по всем проторенным дорогам, но все проторенные дороги страшно заросли, и тот, кто этого не понимает – просто счастливый графоман. Он ушел в жанр писательских биографий и добился блистательного успеха; я уверен, что его «Алексей Толстой», который выйдет в этом году в серии «ЖЗЛ», станет литературным событием. В одном из «премиальных» интервью он признался, что его неудержимо влечет история. Это правильно, потому что как большой русский писатель он стал задыхаться без исторического пространства.
Повторяю, что я сейчас говорю не о качестве тех или иных вещей Варламова. Порой он выигрывает в качестве именно в вещах как будто случайных, вроде рассказа «Паломники», прелестной истории о том, как несколько студентов отправились пешком в Троице-Сергиеву лавру. Или в совсем уж неприметном рассказе «Как ловить рыбу удочкой», который хоть сегодня включай в хрестоматию короткого рассказа. Меня больше волнует общая стратегия писательского поведения во время, когда все указатели не просто сбиты, но аккуратно повернуты концами в землю. Меня не пугает слово «стратегия», такое несколько военизированное. Ведь и писатель, чьим именем озвучена эта премия, был бы просто уничтожен в самом начале своего пути, если бы не имел своей стратегии. Сейчас в литературе, конечно, не так страшно, но ничуть не проще сохранить свое самостояние. Может быть, даже и сложнее…
Это стратегия «старшего сына». Старшим сыновьям всегда труднее жить. Балуют младших. Старшим отдают мельницы. Чтобы жизнь медом не казалась. Чтобы помнили о своем первородстве.
2006