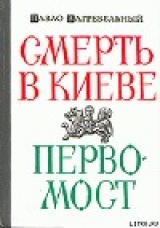
Текст книги "Смерть в Киеве"
Автор книги: Павел Загребельный
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 35 страниц)
Однако теперь все повторилось. Снова на рассвете появился перед валами переяславскими Глеб с дружиной, снова разбудила стража Мстислава, но у того теперь была подмога, присланная из Киева. Подмогой этой должна была быть дружина боярского сына Демьяна Кудиновича, которая остановилась в Переяславе после зимнего Глебова нападения. Прислал Демьяна Кудиновича сам князь киевский Изяслав, но подговорен был своими четырьмя Николаями, о которых следует сказать немного подробнее.
После Ивана Войтишича четыре Николая принадлежали к самым богатым и самым старшим боярам киевским. Слово "четыре" объяснения не требует, Николаями же звались они все, возможно, в честь святого Николая-чудотворца, ибо известно, что нажить богатство на этой земле можно лишь чудом, а не честным путем, и о каждом из Николаев можно сказать без страха впасть в ошибку, что он сам или же его предки были злодеями, лихоимцами, а то и просто негодяями.
Так вот, все четыре боярина были достаточно богаты, степенны, чванливы, вельможны, а еще: были они жестокими, жадными, начисто одуревшими от старости, но непоколебимыми в своем стремлении управлять князем, всеми землями, захватить чуть ли не весь мир.
Один из них был прозван Николаем Безухим. Когда он был младенцем, свинья отгрызла ему уши, с тех пор он был зол на весь мир, от злости не находил себе места. Когда слыхал о ком-нибудь, кого считал своим врагом, разъярялся от ненависти: "А разве он еще живой?" Сплевывал, а слюна была такая ядовитая, что аж шипела. Рубить, толочь, резать, добивать, уничтожать. Ничего другого он не ведал.
Другой назывался Плаксием. Обладал особым даром – плакать по любому поводу: и над жертвой и над самим собой, и в радости и в горе. Слезам тогда придавали значение, как особой милости божьей. Еще великий князь Мономах обладал слезным даром, ему с большим или меньшим успехом пытались следовать и другие князья; Изяслав тоже поплакивал время от времени своими золотушными глазами. Плакали бояре, игумены, воеводы, купцы, даже грабители проливали слезы над ограбленными, а что уж говорить об остальных. Утопали в слезах, лишь бы пожить в радости. Плач стал своеобразным проявлением благочестия. Кто был глуп, не знал книжной премудрости, не сумел говорить на чужих языках, не проповедовал, не творил чудес, тот просто плакал и уже самим плачем возвышался над всеми остальными. Известно ведь, что расплакаться неизмеримо легче, чем задуматься над чем-либо.
Боярин Плаксий обладал влиянием на Изяслава непревзойденным. Достаточно ему было шмыгнуть несколько раз носом, пустить в бороду две струйки слез, воскликнуть сквозь всхлипывания: "Сын мой! Черт ты не...", и уже князь готов был снова бросаться туда, куда хотелось этим одряхлевшим, страшным в своей ненависти ко всему сущему людям.
Третий Николай назывался Старым. Помнил всех князей, всех бояр и воевод, всех значительных людей киевских, о каждом мог что-нибудь вспомнить, с каждым, если верить ему, пил и ел, и каждый, умирая, завещал именно боярину Николаю поддерживать Изяслава. Получалось так, что этому старому обманщику с желтыми глазами было уже не менее двухсот лет. Но таким старым был только его кожух с двухсотлетней грязью, весь в заплатках. Николай Старый олицетворял среди них то, чем никто из них не обладал: разум. Между ними существовало молчаливое согласие – никогда не вспоминать о такой вещи, как человеческий разум. Похожи они были на библейских иудеев, которые договорились никогда не открывать таинственный ковчег, сброшенный с неба. Ковчег пустой? Ну и что же? Верили, что разум легко заменяется богатством и старостью, длинной седой бородой, которой особенно отличался Николай Старый. Правда, Петр Бориславович, молодой и умный, обученный всяким премудростям, мог бы сказать им, что если бы все в жизни вершили седобородые, то для любых дел достаточно было бы стада козлов. Но Петр никогда не осмелился бы такое сказать, знал это сам, знали весьма хорошо и четыре Николая, поэтому и допустили его к князю Изяславу, собственно, приставили его к князю от себя, чтобы знаниями своими послужил им так же, как Изяслав служил храбростью и разбоем.
Четвертый Николай назывался Кудинником, еще называли его Упейником, ибо много пил, а также Убейником, потому что неутомимо хвастался, сколько людей убил сам и сколько еще убьет его сын Демьян, унаследовавший от отца силу, храбрость и презрение к врагам. На малейшее упоминание о том или ином супротивнике княжеском пренебрежительно кривил губы, цедил надменно: "Куда ему!" – так и прозвали его Кудинником.
Именно сын Кудинника Демьян Кудинович с небольшой дружиной молодых головорезов, набранных по преимуществу из боярских сынков, и был послан в Переяслав для помощи князю Мстиславу, который не отличался особой решительностью, города же этого Киев не мог утратить, ибо кто восседал за валами Переяслава, неминуемо овладевал Киевским столом. От одной лишь мысли о том, что туда прорвутся сыновья Долгорукого, боярство киевское бесилось в ярости и страхе; они готовы были отослать и самого князя Изяслава и легко пошли бы и на это, но вынуждены были во что бы то ни стало поддерживать высокое достоинство своего великого города, где князь тоже считался великим, и, хотя бы даже служил боярам последним слугой, мир об этом не должен был знать.
О Петре Бориславовиче, допущенном к высочайшим верхам киевским как благодаря его происхождению, так и благодаря учености, следует сказать, что держался он с четырьмя Николаями всегда с надлежащей почтительностью, был осторожно-вежлив, со словом своим не вырывался, а лишь слушал, поддакивал, приводил примеры из книг в нужном случае для подтверждения мудрости боярской, а также княжеской, ибо считалось все же, что служит Петр не четырем Николаям, а князю Изяславу; услужливую предупредительность Петр сохранял даже тогда, когда оставался наедине со своими пергаменами, вписывая туда о приближенных Изяславу боярах, что они "едят, пьют по три дня, пребывают в добром веселье, хвалят бога и святых мучеников и разъезжаются веселые восвояси".
Более всего Николаи любили опасности. Для того, кто состарился и близок к смерти, опасность, вообще говоря, всегда довольно привлекательна. Но они любили опасности не для себя, а для других, если можно так выразиться. Им всегда казалось, что кто-то угрожает их благополучию, что враги кишмя кишат повсюду, поэтому готовы были даже родных сыновей распихать во все стороны, лишь бы отвратить, развеять угрозу, настоящую или же мнимую. Так, без малейшего сожаления отправил боярин Кудинник сына своего Демьяна в Переяслав, где этому боярскому сыну суждено было в смерти найти свое бессмертие.
Ибо на рассвете того дня, когда Глеб снова приблизился к переяславским валам, князь Мстислав прибежал во двор, где стоял Демьян со своей малой дружиной, заголосил не хуже своего отца, который любил прикрывать все свои дела соответствующим словом:
– О человече божий! Настало время божьей помощи и Пречистой богородицы и твоего мужества и крепости.
Демьян легко догадался, что слова эти означали: кто-то из Юрьевичей, а то и сам Юрий Долгорукий подошел к Переяславу. Расспросы были излишними. Боярский сын вскочил на коня, позвал слугу своего Тараса, бросился с дружиной в одни ворота, а своих разбойничьих отроков послал в другие ворота, чтобы ударили на супротивника внезапно и во многих местах.
Глеб, как и зимой, не имел намерения учинять рать, он придерживался обычая своего отца, который всегда предостерегал сыновей от пролития христианской крови, да и не раз проявлял на деле этот свой обычай, еще лет пятнадцать назад изгнав из этого же Переяслава теперешнего князя киевского Изяслава, который тогда засел в городе, нарушив ряд и поддаваясь лишь своему разбойничьему характеру. Тогда Юрий точно так же подходил с полком к городу, становился и стоял, пугая противника, изгоняя его прочь одним лишь видом своей спокойной силы.
Кудинович воспользовался именно этим обычаем, он внезапно напал на Глебовых дружинников, которые дремали себе на конях, не предчувствуя беды, многих убил со своими преступными подручными, и только после этого суздальцы нацелили на него тяжелые копья, окружив его, словно дикого вепря, стали кричать:
– Почто бьешься, свинья бесшерстная! Видишь, стоим мирно?
Тогда Демьян со своим Тарасом и отроками возвратился в Переяслав, сказал Мстиславу:
– На любовь и на мир пришел Глеб, а не на рать. Ты же меня послал на убийство.
– Для этого и призван еси из Киева, – услышал он ответ.
Глеб отступил, а через некоторое время снова стоял перед Переяславом, но теперь уже в силе намного большей, ибо присоединился к нему Изяслав Давыдович да еще половцы. Степняки не намеревались торчать перед валами города в напрасной надежде, что победа придет сама по себе. Стрелами с привязанными к ним горящими клочьями они подожгли посад, в городе поднялась суматоха, Демьян Кудинович один, без доспехов вылетел из ворот, злой и напуганный неожиданностью, но половцы и тут не дали застать себя врасплох, они издалека спокойно обстреляли Демьяна из луков, и тот возвратился в город едва живой.
Мстислав прибежал к Кудиновичу, дары предлагал, волости обещал. Демьян простонал:
– О суета людская! Кто мертвый возжелает этих даров и волостей? Почто все это? Усну вечным сном.
Лишь после этого решил Изяслав заключить мир с черниговскими князьями, чтобы окончательно оттеснить Глеба с его дружиной и прогнать в Суздаль, а самому иметь свободные руки для борьбы со своим загадочным и грозным врагом – Юрием.
В Чернигов послан был с грамотой белгородский епископ Феодор и печерский игумен Федос. В грамоте было написано:
"Уже раз целовали вы мне крест на том, что не будете требовать брата Игоря, но отступились от этого и учинили мне довольно зла. Но когда вы запросили у меня мира и каетесь во всем, что хотели учинить, то ради русских земель и христиан не поминаю того. Ныне же целуйте крест на том, что вы за Игоря вражды иметь не будете и не станете больше чинить того, что некогда намеревались".
В церкви Святого Спаса, среди кадильного дыма и молитв, в золотом сиянии свечей целовали крест князья Владимир Давыдович и брат его Изяслав, Святослав Ольгович и Святослав Всеволодович, клялись быть заодно, словно братья, охотно и обильно лили слезы, каялись в грехах.
А осенью Давыдовичи и Изяслав съехались в Остерский Городок, чтобы тут, в южном гнезде Долгорукого, сговориться о дальнейших действиях, ибо Изяславу не сиделось в Киеве, не имел он покоя от своих бояр, которых пугала даже тень великого имени Долгорукого и которые не могли успокоиться, доколе жив тот далекий, но такой вездесущий своим могуществом сын Мономаха.
Лодьи Изяслава приплыли из Десны в Остер, пристали к низкому берегу напротив Городка, возвышавшегося над речкой крутыми высокими валами; за валами видны были новые деревянные строения и красивая каменная церковь святого Михаила, поставленная Долгоруким. В церкви звонили. Звон звучал медленно-торжественно, так, словно приближались к Городку не враги, а свои. Изяслав ведал вельми хорошо, что Глеб с дружиной пошел в Суздаль, следовательно, в Городке осталась весьма незначительная застава, которую можно было бы выбить оттуда одним ударом, но он этого не хотел; ощущение силы наполняло его какой-то еще неизведанной доселе торжественностью, тот звон, казалось, раздавался над зелеными деснянскими лугами в честь киевского князя, хотелось слышать звон издалека, из-за реки, поэтому великий князь велел разбить свой бело-золотой шатер, затеял игры перед шатром, послушал, как рычат ненавистью друг другу в лицо его ничтожные карлики Леп и Шлеп, повеселился с предупредительными, заискивающими Давыдовичами, поплакал, повспоминал бога и святых мучеников, а этот звон звучал и дальше, будто и впрямь медным языком своим славил силу и уверенность Изяслава.
Ольговичи, которые тоже должны были прибыть в Городок, почему-то не пришли. Черниговские князья начали успокаивать Изяслава, уверяли его, что куда они, Давыдовичи, туда и Ольговичи, и уж ежели они все целовали крест Изяславу, то пойдут теперь повсюду и не отступятся от него, ибо душой нельзя играть; на это Изяслав, вздохнув и поплакав от растроганности, ответил, что его не тревожит отсутствие Ольговичей, потому что Святослав Ольгович готовит свадьбу своей дочери с сыном его брата, смоленского князя Ростислава.
А в церкви святого архангела Михаила звонили и звонили, так, будто сам дух святой залетел в Городок и, вопреки тем бедным суздальцам, которые укрылись за высокими, в буйной зелени валами, славит киевского князя, его всемогущество и удачливость, которыми он соединяет всех своих друзей и покоряет недругов.
Но под вечер прискакала передняя стража Изяслава и закричала в немалой тревоге, что вдоль противоположного берега Остра подходит к Городку какая-то дружина, быть может и сам Долгорукий.
– Спросили, кто такие? – выскочил из шатра Изяслав, о котором можно было говорить что угодно, однако все сходились на том, что родился он воином и в походе чувствует себя намного свободнее и лучше, чем возле своих четырех Никол или же замшелой княгини, принцессы из германского императорского рода, изнуренной непривычными для нее русскими холодами и постоянным пребыванием в бесконечных воспоминаниях о превосходстве германского духа и мощи императоров, ее прославленных предков, среди которых было немало и просто убийц, но ни одного, кто просидел бы жизнь на скамье за трапезой или же пролежал в пуховой постели возле теплой жены.
– Мы крикнули: "Кто такие?" В ответ услышали: "Суздальцы". Побранились еще малость, а затем кинулись оповестить тебя, княже.
– "Оповестить, оповестить"! – передразнил дружинника Изяслав. – Когда идет враг, с ним нужно биться, а не удирать к своему князю! Гром битвы милее моему сердцу, нежели ленивые слова о том, о чем и сами не ведаете! С чем пришли и что мне думать надлежит?
Дружинники насупленно молчали, торжественность этого зелено-золотого осеннего дня была сведена на нет, но как ни гневайся и какие слова ни произноси, а где-то вдоль противоположного берега приближается в это время вражеская дружина с красными круглыми щитами под знаком льва, готового к прыжку, а также под знаком лука с нацеленной в землю стрелой, что не помешает суздальцам при необходимости послать свои острые стрелы против немногочисленной киевской дружины и черниговцев, которые только и знали, что нарушали свое слово, мечась между одним и другим великим князем.
Счастье, хоть река разделяла супротивников. Пусть не широкая, но достаточно глубокая, чтобы задержать суздальцев на то время, пока Изяслав либо приготовится к битве, либо отступит без позора и бесславия, хотя отступление всегда так или иначе несет бесславие.
Спасли Изяслава два всадника, появившиеся невесть и откуда, – они, видно, где-то переплыли на конях Остер, потому что по конской шерсти еще стекала вода и у самих всадников сапоги и порты были насквозь промокшими. Если бы не вода на конях и на всадниках, можно было бы принять их за привидения, – так внезапно они появились, словно бы и ниоткуда, и такой страшный вид имели: худые, обросшие нечесаными бородами, сквозь которые едва проглядывало бледное, изнуренное тело, будто у мертвецов, или великомучеников, или утопленников, хорошенько вымоченных в воде. Конная стража тотчас же окружила всадников со всех сторон, мечники, стоявшие у княжеского шатра, выхватили из ножен свои мечи, но тех двоих ничто не удержало, они спокойно ехали дальше, потом, не заботясь о своих конях, слезли на землю и пошли к Изяславу, неловко ставя ноги, покачиваясь так, будто вот-вот должны были упасть и умереть у ног князя. Изяслав растерянно оглядывался по сторонам, хотел было разгневаться, но не успел, потому что один из странных всадников заговорил вдруг, обращаясь, кажется, к нему, хотя и без надлежащей почтительности:
– Вот и возвернулись к тебе. Здоров будь, княже.
– Здоровы будьте, – еще не придя в себя от растерянности, ответил Изяслав. Хотел было спросить, кто они такие, но всадник опередил князя, ибо сказано уже, что не владел надлежащей почтительностью, спросил не без насмешливости в голосе, хотя откуда бы и могла взяться насмешливость в таком хлипком теле?
– Ужель не узнаешь?
– Не узнаю? – небрежно скользнул по ним своими золотушными глазами князь. – Кого я не узнаю? Почему я должен узнавать? Кто такие и что вам надобно?
– Дулеб я, твой лекарь приближенный, – сказал этот странный человек. – А это – Иваница.
– Ты лекарь? Дулеб? С нами крестная сила и святая богородица! Живой?
– Коли не умер, стало быть, живой.
– Где же был так долго?
– Куда ездил, там и был.
– У Долгорукого?
– Там.
– И возвернулся?
– Стою перед тобой.
Изяслав перекрестился. Он был самим собою всегда и всюду. Прежде всего должен был показать свою набожность, сердечное потрясение.
– Остерегал я тебя, сын мой! И удерживал от неосторожности. Не послушал меня. Мог бы и навеки там остаться.
– Мог.
– Но радуюсь, что возвратился целым. Эй, там, дайте гостям меду! Отведу тебе шатер отдельный на вас двоих. Переоденетесь, согреетесь.
– Благодарение. В порубе привыкаешь ко всему.
– Бросил вас Долгорукий в поруб?
Изяславу не терпелось спросить, что же выездил Дулеб, кроме своего сидения в порубе, но княжеское достоинство не позволяло, да и знал уже про грамоты к митрополиту Клименту и епископу Онуфрию. Дулеб сразу удовлетворил княжескую любознательность, сказав:
– Бросили нас в поруб за несправедливое обвинение против князя Юрия, ибо ничто не подтвердилось, к полнейшему нашему стыду и позору.
– Убедился в этом? – сурово посмотрел на него Изяслав.
– Стоим перед тобой, разве не достаточно одного нашего вида? Имели время и возможность подумать про свою дерзость и глупость.
– Как же высвободились?
– Не имеешь к нам доверия, княже?
– Спрашиваю из сочувствия, потому что сердце мое обливается кровью и душа разрывается на части от боли.
– Сидели бы там и до смерти. Вызволил нас князь Ростислав, идучи сюда с дружиной.
– Сын Юрия?
– Да.
– Супротив воли отца своего пошел?
– Князь Юрий был к тому времени у Берладника, а Ростислав часто навещал меня в порубе, советовался со мною, расспрашивал о тебе. И когда приспело ему время идти сюда на помощь Ольговичам, выпустил он нас из поруба и взял с собою. Гонцы догоняли нас неоднократно с велением Юрия отправить узников назад в Суздаль, но князь Ростислав не послушал.
Дулебу и Иванице подали чаши с медом. Они пили медленно, то ли наслаждались напитком, то ли нарочно затягивали время, испытывали терпение Изяслава, хотя кто же не знал о княжеской нетерпеливости.
– Позову Петра Бориславовича, – промолвил князь. – Надобно записать все, лекарь. Когда речь идет о князьях, призываем в свидетели также и потомков. Ты снял вину с князя Юрия, облегчение это не только для меня, но и для всей истории. Радуюсь вельми, Дулеб, и удивляюсь, что стрый мой отплатил тебе неблагодарностью.
– Не надо Бориславовича, – оторвался от чаши Дулеб. – Ничего не надо писать, сам все запишу, княже. Да и не об этом нынче следует вести речь это уже дела минувшие. Тебя ждут новые. Прибыли мы к тебе уже не как твои слуги и не как вызволенные из поруба, а прежде всего – как послы от князя Ростислава. Согласен ли нас выслушать?
– Уже слушаю. Великий подарок сделал мне князь Ростислав, когда выпустил вас из поруба и возвратил ко мне.
– Не о том речь идет. Хочет Ростислав прийти к тебе, как сын.
– Объятия мои всегда раскрыты для сыновей и братьев. Звал не раз его брата Глеба к себе, но тот не пришел. Вел себя дерзко и недостойно, колотился без конца в этой земле, покуда не выгнали его прочь.
– Ростислав рассорился с отцом своим навсегда, потому что уже более десяти лет не имеет волости, уподоблен чуть ли не Ивану Берладнику в бесприютности и безземелье. У Долгорукого только и речи: каждый сын должен сам себе добывать волость, Сыновья же – не волки, дабы разыскивать харч. Да и что приобрели? Иван умер в походе. Глеб опозорен поражениями и клятвопреступничеством. Потому-то Ростислав и ушел от Долгорукого, и кланяется тебе, княже, и спрашивает, может ли прийти?
– Негоже так принимать высоких послов, – степенно промолвил Изяслав. – Предчувствие не обмануло меня, когда хотел видеть вас одетыми, обсушенными и обогретыми. Теперь сделаем именно так. А тем временем соберу своих воевод и бояр, позову князей черниговских, прибывших сюда для дружбы со мной, пускай услышат от вас сию радостную весть еще раз, ибо это радость для всей Русской земли и для всех христиан.
Он отпустил Дулеба и Иваницу и велел созвать всех, с кем должен был думать, а также пригласить князей Давыдовичей, готовить торжественную трапезу, отцу Иоанну – пышное богослужение в честь того, что должно было здесь вскоре произойти.
Эта теплая осенняя ночь на берегу Остра прошла вся в веселом полыхании факелов, не в звоне оружия, а в звоне чаш и ковшов с вином да медом, с веселой суетой гонцов с одной и другой стороны, в великом состязании двух княжеских лагерей, кто кого превзойдет в дарах, в лести, в лицемерии и слезливой приподнятости.
Изяслав послал воеводу своего и дружинников с честью и дарами для Ростислава, призывая его к себе, обещая города и волости. Ростислав ответил дарами и поклонением доземным, принимал послов у входа в свой шатер, который пышностью своей намного превосходил белый с золотыми шнурками шатер Изяслава, ибо вывез его Ростислав еще из Новгорода, купив у заморских гостей, а ведомо ведь, что гости могут раздобыть такие вещи, каких не имеют ни короли, ни императоры, простые же князья и вовсе не имеют о них представления. Об этом шатре послами Изяслава тоже было сказано князю, сказано также и о многочисленности дружины Ростислава, и о богатствах, которые он привез с собой, судя по всему, ибо товар его не поддается исчислению даже для хитрого глаза гонца. Но Изяслава вряд ли интересовали подробности, ничто для него не имело значения, кроме прихода самого старшего сына заклятого врага, князь возносил хвалу богу за этот неожиданный подарок, ибо теперь вся земля Русская могла видеть, на чьей стороне не только сила, но и правда; если уж к нему тянутся и такие мужи, как князь Ростислав, то потянутся и все остальные, у кого разум не зачерствел.
Боярин Петр Бориславович, в обшитой черным бобром широкой одежде, с золотой княжеской гривной на шее, бледный от постоянного пребывания в почтительном напряжении, старательно вписывал в пергамен каждое княжеское слово, даже Иваница не в силах был удержаться от удивления и прошептал на ухо Дулебу: "Вот уж! Царапает в пергамене, как курица в просе! Этот и Сильку за пояс заткнет!" Дулеб молчал, ибо сказал все, что должен был сказать, теперь они с Иваницей должны были до конца прикидываться обиженными Долгоруким искателями истины, они были жертвами и мучениками, правда, мучениками живыми, что не всегда и не всем нравится, но Изяслав благодарил бога и за это, ибо теперь о смерти Игоря забудут наконец все, если же кто и захочет вспомнить, то с него будет довольно того, что он услышит о том, как отблагодарил Долгорукий двух мужественных посланцев князя киевского, стремившихся распутать до конца дело с этим загадочным, зловещим убийством.
Дары княжеские с одной и с другой стороны были сначала благочестивые: иконки, кресты, умело изукрашенные молитвенники в золоте и серебре, усаженные драгоценными камнями. Когда вторично послал Изяслав, призывая Ростислава, то на этот раз повезли ему в дар дорогое оружие; в свою очередь для Изяслава были переданы соболиные меха с таким отблеском, который имеет лишь мех северных земель с их вечными морозами и снегами.
Тем временем Ростислав обратился к своей дружине, которая еще не ведала о его намерениях, считая, что послана она помогать союзным с Долгоруким князьям – Ольговичам и Давыдовичам.
– Пусть прогневается на меня отец мой, – так сказал Ростислав дружине, – но не пойду к врагам своим, ибо были они врагами деду моему Мономаху и стрыям моим Мстиславу и Ярополку. А пойдем, дружина моя, к Изяславу, ибо к нему лежит мое сердце. Он даст мне волость, и я возьму. Пойдете ли со мною?
– Пойдем, княже! – закричали самые верные, а за ними и все остальные, ибо, что там ни говори, волость есть волость, да еще если она в этих теплых и щедрых землях, далеко от морозов и снегов, от сурового северного неба, от малолюдья и бесхлебья.
Переговоры длились всю ночь. Князья передавали друг другу поклоны и лестные слова, но никто первым не хотел отправляться навстречу другому, ибо за Изяславом было старшинство, а за Ростиславом – независимость. Он жертвовал самым дорогим, поэтому имел все основания надеяться, что за жертвой должен бы прийти Изяслав или хотя бы протянуть руку. Покамест же длилось состязание в лести и высоких словах, а дело не продвигалось вперед, – оно, пожалуй, отодвигалось все дальше назад. Дулеб осторожно подбросил Петру Бориславовичу мысль о том, что князья могли бы встретиться посредине реки на Изяславовом насаде.
– Внеси это в пергамен свой, боярин, – посоветовал Дулеб.
– Но ведь об этом еще не сказано князем!
– Тогда и скажешь.
– Почему не сказал сам?
– Уступаю это для тебя. Будет сохранена честь Изяслава, ибо насад принадлежит ему. Ростиславу не придется ступать на этот берег, покуда не получит от Изяслава того, что жаждет иметь. Князья как дети, боярин, мы их не можем с тобой понять.
– Откуда ведаешь обо мне? – малость насторожился Петр.
– Много наслышан про твою ученость, а я сам люблю книги и людей книжных ставлю выше всех. Пиши и говори.
Петр вписал и сказал, и это понравилось Изяславу. Под утро князья встретились на Остре в насаде, устланном коврами, оба в золоте, шелках и мехах, оба высокие и стройные, но все же Изяслав много утрачивал рядом с более могучим Ростиславом, он казался мельче, незначительнее, а уже его покрасневшие глаза и вовсе не выдерживали сопоставления с ромейскими глазами Ростислава, и при взгляде на этих двоих хотелось указать на суздальца и воскликнуть: "Се князь!"
Однако стоял Изяслав, а кланялся Ростислав. Лишь после этого они сели на медную лавицу и под тихий плеск весел, которыми гребцы удерживали насад против течения, повели речь о том, что их объединило.
– Ты, княже, – говорил Ростислав, – для всех нас, младших, словно отец родной, и мы должны были бы давно уже соединиться, ибо младшие лучше понимают друг друга, между ними должна быть сдруженность и не должны они остановиться даже перед устранением старших своих, ежели того требует земля наша и люд. Будь нам всем отцом, хотя ты и брат для нас, равный с нами.
– Старше всех нас отец твой, – отвечал Изяслав, – да с нами не умеет жить. Хочу управиться с ним миром или ратью. Бог послал тебя, княже, и святая богородица. Не стану уговаривать тебя, чтобы пошел со мной на Суздаль, а дам тебе города богские, постережешь землю Русскую, покуда буду в Залесье, а идти туда должен, ибо князь Юрий чинит зло Новгороду, перехватывает новгородские дани для Киева, словно тать или ушкуйник волжский. Принимаешь ли, княже, сие?
Ростислав торжественно склонил голову и держал ее так столько, сколько нужно было для того, чтобы сердце Изяслава удовлетворилось покорностью; тогда князья обнялись, трижды поцеловались и стоя поплыли к берегу, где у Изяславова шатра ждали их все знатные приспешники Изяслава.
Отец Иоанн, ради такого случая одетый в стоящие торчком от золотого шитья одеяния, поднес князьям крест для целования и, обращаясь, видимо, к неприсутствующему, но вездесущему Долгорукому и к его союзникам малым и великим, произнес гневное слово пасторское, которое, из-за простоватости Изяславова священника, можно было бы повернуть и так, и сяк, применяя его как к самому Долгорукому, так и к тем, кто заглядывал в заросший щетиной рот иерейский:
– Стыдитесь же вы, враждующие на братию вашу и одноверцев своих! Ужаснитесь и восплачьтесь перед богом, иначе утратите славу небесную за самое лишь свое злопамятство! Вы слова брату не можете стерпеть, за малую обиду поднимаете вражду смертоносную и помощь берете у поганых на свою братию.
И тут Изяслав зачем-то снова начал повторять то, что уже говорил отдельно Ростиславу и Давыдовичам. Может, хотел, чтобы каждый слышал о каждом, надеясь, что слово княжеское от этого будет крепче? Ростиславу сказал то же самое, что перед этим говорил уже в лодье:
– Старше всех нас отец твой, да не умеет с нами жить. А мне дай боже вас, братьев своих, и весь род свой иметь в правде, как душу свою. Если отец тебе волости не дал, так я тебе даю.
На что Ростислав, малость удивившись в душе, но не утрачивая своей степенности, тоже повторил уже сказанное:
– Пришел я сюда, поручив себя богу в твоем лице, ибо ты – старше всех нас среди внуков Мономаховых. Хочу трудиться на Русскую землю и возле тебя ездить.
Тогда настала очередь Давыдовичей, которые до этого стояли словно свидетели супротив Ростислава, а теперь имели его свидетелем против себя.
– Вот брат Святослав и племянник его не приехали сюда, – укоризненно промолвил Давыдовичам Изяслав, – а вы все клялись мне, что, кто будет на меня зол, на того вам быть вместе со мной; стрый мой Юрий из Ростова обижает мой Новгород, дани у новгородцев поотнял, по дорогам проезда им не дает. Хочу пойти и управиться с ним либо миром, либо ратью. А вы крест целовали, что будете вместе со мной.
Ответил ему Владимир Давыдович то, что Изяслав уже от них слыхал, но теперь хотел услышать еще раз, уже в присутствии сына загадочно-угрожающего Долгорукого:
– То ничего, что брат Святослав и племянник твой не приехали, все едино мы здесь, а мы все клялись, что где твои будут обиды, там нам быть с тобой.
– Любо мне слышать сие, – прослезился Изяслав. – Побратавшись вот так в божьей вере ради земли Русской да христиан, как только станут реки, пойдем все на Юрия. Я через Смоленск и Новгород, брат мой Ростислав из Смоленска, вы все, братья, с земли вятичей, а сойдемся на Волге, возле устья Медведицы, откуда двинемся на Ростовские земли.
– Негоже мне, княже, выступать супротив отца родного своего, – с достоинством промолвил Ростислав. – Готов есмь служить тебе всюду, а тут уволь меня, отче-брате.
Изяслав при всех обнял и поцеловал Ростислава за такие благочестивые слова.
– Дам тебе города, которые держал некогда Святослав Всеволодович, перекрестился он, – Котельницу, Межибожье и Богский. Иди в Богский Город, побудь там, постереги Русскую землю, покуда я схожу на отца твоего и помирюсь с ним или как-то иначе с ним управлюсь. Еще хочу поклониться тебе за то, что великую услугу сделал мне, высвободив из неволи моих верных людей и привезя их ко мне, хотя и немощных видом, но живых, хвала богу. За это отблагодарится тебе, княже, еще и на небе. Теперь, лекарь, если пойдешь снова в Суздальскую землю, то уже не так сгоряча и без прикрытия, а на моей стороне и с божьей помощью.








