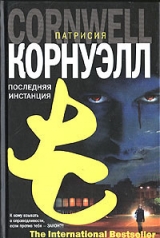
Текст книги "Последняя инстанция"
Автор книги: Патрисия Корнуэлл
Жанры:
Триллеры
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц)
– И кстати говоря, его еще могут признать невменяемым.
– А вот это, знаете ли, зависит от умения прокурора, Буфорд.
Райтер моргнул. Напряг скулы. Он напоминает голливудскую пародию на бухгалтера – сдержанного, застегнутого на все пуговицы человечка в крохотных очках, который вдруг унюхал неприятный запах.
– Вы с Бергер уже переговорили? – спрашиваю я его. – Наверняка. Ведь не в одиночку же вы до такого додумались. Спелись, значит.
– На нас оказывают давление, Кей. Вы сами должны это понимать. С одной стороны, он француз. Вы хоть представляете себе, как отреагируют его соотечественники, если мы здесь, в Виргинии, попытаемся казнить подданного их страны?
– Боже правый, – вырвалось у меня. – Речь идет не о смертной казни, а о наказании, и точка. Вы прекрасно знаете, Буфорд, что я сама противница электрического стула и с возрастом в этом убеждении только крепну. Однако за то, что он натворил здесь, преступник обязан ответить, черт побери.
Райтер безмолвствует, устремив взгляд в окно.
– Значит, вы с нью-йоркской прокуроршей договорились, что, если по ДНК будет совпадение, Манхэттен его забирает.
– Вы сами подумайте. Лучшего места для рассмотрения дела не найдешь. – Райтер снова взглянул мне в глаза. – А вам отлично известно, что в Ричмонде этот суд не состоится, учитывая огласку и прочее. Скорее нас всех отправят в какой-нибудь провинциальный суд за миллион миль отсюда и будут держать там несколько недель, а то и месяцев. Как вам это понравится?
– Ну и хорошо. – Я встаю и ворошу кочергой поленья; лицо обдает жаром, в камине стайкой перепуганных скворушек взлетают искры. – Боже упаси, чтобы нам причинили неудобства.
Сильно орудую здоровой рукой, будто желая убить огонь. Усаживаюсь на место, разгоряченная, готовая расплакаться. Я отлично знаю, что такое посттравматический синдром, и готова согласиться, что он не обошел меня стороной. Меня одолевает беспричинное беспокойство, я легко пугаюсь. На днях настроилась на местную радиостанцию, где крутили классику, услышала Иоганна Пачелбела, мне стало грустно, и я разрыдалась. Знакомые симптомы.
Тяжело сглатываю, успокаиваюсь. Райтер молча наблюдает за мной, на его лице – усталое выражение благородной печали, как у генерала Роберта Ли, припоминающего кровавую битву.
– А со мной что будет? – спрашиваю я. – Или мне жить так, словно я и не занималась этими ужасными убийствами? Не вскрывала жертв и не боролась за свою жизнь, когда убийца ворвался в мой дом? Положим, его будут судить в Нью-Йорке. Какая роль отводится мне, Буфорд?
– Этот вопрос будет решать миссис Бергер, – отвечает он.
– Даром погибли, задарма. – Я всегда употребляю это слово в отношении жертв, которым не суждено узреть правосудия. По раскладу Райтера, я, к примеру, тоже буду «даровым угощением», потому что в Нью-Йорке маньяку не предъявят обвинение за то, что он намеревался сделать со мной в Ричмонде. А при самом бессовестном повороте дел за совершенные в Ричмонде зверства его даже по попке не отшлепают.
– Все, вы кинули город волкам на расправу, – говорю я прокурору.
До нас одновременно доходит двоякий смысл этой фразы. По глазам вижу, он понял. До сих пор в Ричмонде охотился только один волк, Шандонне: когда он только начал убивать, еще во Франции, то неизменно оставлял записки с автографом «Le Loup-garou» – «оборотень». Теперь вершить правосудие будут незнакомцы. То есть, если говорить без обиняков, правосудия здешние жертвы вообще не увидят. Ждать можно чего угодно, и это «что угодно» наверняка произойдет.
– А если Франция будет добиваться его выдачи? – допрашиваю я Райтера. – Что, если Нью-Йорк согласится?
– Можно до посинения перечислять «если бы да кабы», – говорит он.
Смотрю на него с откровенной неприязнью.
– Не принимайте все так близко к сердцу, Кей. – Райтер снова одаривает меня исполненным печальной набожности взглядом. – Не пытайтесь воевать в одиночку. Мы просто хотим списать этого подлеца со счета. Не так уж важно, кто это осуществит.
Поднимаюсь со стула.
– Для меня – очень важно, – говорю ему. – Буфорд, вы трус. – Разворачиваюсь и демонстративно выхожу из комнаты.
Через пару минут из-за закрытой двери в моем крыле здания слышу разговор: Анна провожает гостя. Очевидно, этот тип довольно долго не желал уходить, занимая ее разговорами; интересно, что он ей про меня наговорил.
Присела на кровати, совсем потерявшись. Не припомню, когда мне в последний раз было так одиноко и страшно. С облегчением слышу приближающиеся по коридору шаги. Анна тихонько стучится в дверь.
– Входи, – говорю неровным голосом.
Хозяйка стоит в дверях и смотрит на меня, а я чувствую себя как девчонка, беспомощная и глупенькая.
– Я Райтера оскорбила, – говорю ей. – Пусть даже и сказав правду, не важно. Трусом его обозвала.
– Буфорд считает, что на тебя сейчас нельзя полагаться, – отвечает та. – Сильно обеспокоен. Ты права, он действительно «ein Mann ohne Rьkgrat» – «человек без хребта», как говорят там, откуда я родом. – Ее губ коснулась тень улыбки.
– Анна, на меня можно положиться.
– Зачем тут сидеть, пошли к огню.
Подруга настроена на разговор.
– Хорошо, – уступаю я. – Твоя взяла.
Глава 5
Я никогда не лечилась у Анны. Раз уж на то пошло, я вообще ни разу не ходила к психотерапевту, что вовсе не означает, будто мне никогда не требовалось вмешательство специалиста. Сейчас, пожалуй, и не найдется человека, которому повредила бы консультация хорошего врача. Просто натура у меня замкнутая, я с трудом поверяю людям сокровенное, да и то исключительно по веской причине. Я тоже медик, все мы давали клятву Гиппократа ни при каких обстоятельствах не нарушать врачебной тайны. Однако такого понятия, как «абсолютная скрытность», все-таки не существует. Врачи общаются друг с другом, с родными и близкими. И уста, на которые наложена печать молчания, открываются.
Анна выключает свет. Позднее утро, темное, как сумерки, небо заволокло облаками, от выкрашенных в розовый цвет стен отражается огонь камина, создавая в гостиной невероятно уютную атмосферу. Меня охватывает непривычная робость. Все готово для моего разоблачения. Выбираю кресло-качалку, хозяйка придвигает поближе оттоманку, усаживается на самом ее краешке и устремляет на меня взгляд пернатого хищника, склонившегося над своим гнездом.
– Если будешь безмолвствовать, это никогда не закончится. Жесткая прямота.
К горлу подступает горький ком, сглатываю.
– Ты травмирована, – продолжает она. – Мы не железные. Даже ты не в состоянии вынести такое как ни в чем не бывало. Сколько я тебе звонила, когда убили Бентона, а ты ни разу не нашла времени со мной пообщаться. Знаешь почему? Ты избегала этого разговора.
Все, больше прятать чувства мне не под силу. По щекам катятся слезы, капая на колени как капельки крови.
– Я каждому пациенту говорю: если вы вовремя не разберетесь со своими проблемами, потом будете жестоко раскаиваться. – Анна сидит, подавшись вперед, точно всем телом обрушивая на меня слова, так жестоко ранящие сердце. – Сейчас пришла твоя очередь расплачиваться. – Она указывает на меня пальцем, упорно не отводя взгляда. – Рассказывай, Кей Скарпетта.
Смотрю сквозь дымку на свои колени. Слаксы испещрены темными капельками слез, и в голове против воли проносится: капли круглые, потому что падали под углом в девяносто градусов.
– Это вечно будет меня преследовать, – в отчаянии выдыхаю я.
– Что тебя будет преследовать? – У Анны мгновенно просыпается интерес.
– То, чем я занимаюсь. Все вокруг напоминает о работе. Да ну, что рассказывать.
– Мне как раз хочется послушать, – говорит она.
– Глупости все это.
Она ждет, как терпеливый рыбак, зная, что я уже заглотила наживку. И тут – подсечка. Привожу Анне примеры из жизни, на мой взгляд, нелепые. Скажем, я не пью томатный сок и «Кровавую Мери», потому что, когда начинает таять лед, получается очень похоже на сворачивающуюся кровь, которая отделяется от сыворотки. В медицинском училище я перестала есть печень, да и сама мысль употребить в пищу какой-нибудь внутренний орган кажется мне дикостью. Помню, однажды утром мы с Бентоном гуляли по берегу на острове Хилтон-Хед и отхлынувшая волна обнажила морщинистую гладь серого песка, которая до невозможности походила на внутреннюю поверхность желудка. Мысли выписывают замысловатые кульбиты, крутятся и куролесят, как им заблагорассудится, и на память впервые за многие годы приходит поездка во Францию. Это был один из тех редких случаев, когда мы с Бентоном решили плюнуть на все и проехаться по лучшим бургундским винодельням, где нас приняла в свои объятия блаженная обитель Друэна и Дуката. Мы пробовали вино прямо из бочонков: шамбертен, монтраше, мюзини и бон-романе.
– Некоторые вещи меня невыразимо трогали. – Я и не думала, что где-то в глубине памяти запрятаны такие воспоминания. – Помню, как свет весеннего солнца менялся на склонах и шишковатых хребтах зимних виноградников, которые точно в ряд стояли, протягивая вверх плети, готовые отдать нам лучшее, что у них есть: свою суть. А мы, бездушные, часто даже не пытаемся распробовать их, раскусить их характер, нам вечно некогда увидеть гармонию в мягких полутонах, услышать симфонию, которую изысканный напиток исполняет на нашем языке. – Голос уходит куда-то вдаль. Анна безмолвно ждет, когда я вернусь. – Вот и меня так же спрашивают только об убийствах, – продолжаю я. – Людей занимают только ужасы, которые я вижу изо дня в день, а у меня есть и другие интересы. Я не какая-нибудь извращенка со съехавшей крышей.
– Тебе одиноко, – мягко замечает Анна. – Тебя не понимают. Возможно, ты обезличена, так же как и твои мертвые «клиенты».
Я продолжаю проводить аналогии, описывая нашу с Бентоном поездку по Франции. Мы отдыхали несколько недель и доехали до Бордо. Чем дальше к югу, тем краснее становились крыши. Нежное касание первых весенних лучей пробудило к жизни нереальную зелень первой листвы, к морю устремились мелкие вены источников и крупные артерии рек, совсем как в живом существе: все кровеносные сосуды начинаются и заканчиваются у сердца.
– Удивительно, как симметрична природа; с высоты птичьего полета речушки и притоки похожи на кровеносную систему, а скалы напоминают старые раздробленные кости, – продолжаю я. – Мозг рождается гладким, со временем обрастая складками и извилинами. Вот так же и горы. Только им на развитие требуются тысячелетия. Мы подчиняемся одним и тем же законам физики. А с другой стороны, не совсем. Например, мозг внешне совсем не похож на свою сущность. Если в нем как следует покопаться, он так же увлекателен, как любой гриб.
Анна кивает. Спрашивает, поверяла ли я свои мысли Бентону. Отвечают: нет. Ей интересно, почему я не испытывала потребности поделиться на первый взгляд невинными наблюдениями с возлюбленным, и я заявляю, что мне надо подумать. Я не готова ответить на этот вопрос.
– Нет, – подталкивает она. – Не думай. Почувствуй.
Размышляю.
– Нет же, Кей, чувствуй. Ощути. – Она прикладывает руку к сердцу.
– Мне надо подумать. Всем, что у меня есть, я обязана рассудку, – отвечаю, как бы себе в защиту, почти огрызаясь. Выхожу из непривычного пространства, в котором только что пребывала. Теперь я снова в гостиной, перевариваю все, что со мной произошло.
– Ты добилась многого благодаря знанию, – говорит моя собеседница. – Знание мы постигаем, а чтобы его постичь, надо мыслить. Мысли часто скрадывают правду. Почему ты не хотела открывать Бентону свою поэтическую сторону?
– Потому что я ее не признаю, эту поэзию. Она бесполезна. Если я буду в суде сравнивать мозг с грибом, то ничего не добьюсь.
– Ах. – Анна снова кивает. – Ты постоянно прибегаешь в суде к аналогиям. Поэтому ты мощный свидетель. У тебя в голове рождаются образы, понятные среднему человеку. Почему ты не рассказывала Бентону про те ассоциации, которыми только что поделилась со мной?
Прекращаю раскачиваться в кресле, перекладываю сломанную руку поудобнее, опустив гипс на колени. Отворачиваюсь от Анны и гляжу на реку. Вдруг во мне проснулась уклончивость, я даже почувствовала себя сродни Буфорду Райтеру. Вокруг старого платана расположились несколько десятков диких гусей. Они расселись в траве, как длинношеие тыквы, надулись, распушились на холоде и что-то поклевывают вокруг себя.
– Не надо рассматривать меня через лупу, – говорю ей. – Дело не в том, что я не хотела рассказывать Бентону. Я вообще никому такого не рассказывала. Мне не надо, чтобы кто-то знал. А если озвучивать непроизвольные видения и ассоциации, тогда... ну, тогда...
Анна снова кивает, теперь уже с большим пониманием.
– Отказываясь от своих образов, ты не позволяешь подключиться воображению, – заканчивает она мою мысль.
– Я должна быть объективной, полагаться на факты. Ты сама прекрасно знаешь.
Изучив меня взглядом, она замечает:
– Дело только в этом? А может быть, ты не хочешь подвергать себя страшным мучениям, которые непременно грядут, лишь только ты дашь волю воображению? – Она подается ближе, опершись локтями о колени и жестикулируя. – Что, если, к примеру, – Анна делает многозначительную паузу, – опираясь на научные и медицинские факты и подключив воображение, ты воспроизведешь во всех подробностях последние минуты жизни Дианы Брэй? Если бы ты была способна просматривать образы как фильм – видеть, как на нее напали, как она истекает кровью, как ее бьют и кусают? Видеть, как она умирает?
– Непередаваемый ужас, – едва дыша отвечаю я.
– Зато какое мощное воздействие на присяжных...
Нервные мурашки пронеслись под кожей, как стайка мелких рыбешек.
– Если все же, как ты выразилась, взглянуть на тебя через увеличительное стекло, – продолжает Анна, – куда мы упремся? Возможно, тебе придется просмотреть и «киноленту» со смертью Бентона.
Закрываю глаза. Сопротивляюсь. Нет, только не это. Боже, лишь бы не видеть. Вспышкой мелькнуло перед глазами: в темноте лицо Бентона, на него направлено дуло пистолета, кто-то взводит курок, щелкает сталь – его заковывают в наручники. Насмешки. Они его наверняка поддразнивали: «Ну что, мистер ФБР, ты же у нас такой умненький. Что теперь будешь делать, судебный психолог? Прочтешь мои мысли, а?» Он бы не стал отвечать. Не стал бы задавать вопросов, пока похитители тащили его в маленький продуктовый магазинчик на западной окраине университета штата Пенсильвания. Бентон готовился умереть. Его наверняка пытали и мучили, именно на этом он и сосредоточил усилия: как вычеркнуть уготованные ему боль и унижение, которым он непременно подвергся бы, будь у убийц достаточно времени. Мрак, вспыхивает огонек спички. В свете крохотного пламени, дрожащего от малейшего шороха, колеблется его лицо, а подонки, два свихнувшихся психопата, передвигаются в пустоте загаженного пакистанского ларька с продуктами. Покончив с Бентоном, они подпалят эту жалкую забегаловку.
Глаза сами собой широко распахнулись. Анна что-то мне говорит. По вискам, как насекомые, ползут капельки холодного пота.
– Прости, ты что-то сказала?
– Очень болезненно, очень. – Ее лицо смягчается от сострадания. – Я вообразить себе такое не могла.
Бентон снова входит в мой разум. На нем любимые брюки-хаки и кроссовки «Saucony». Он только эту фирму носил. Я даже его, бывало, поддразнивала фирмачом – уж если ему что нравилось, тут он оказывался страшно разборчив. И еще на нем была старая толстовка, которую ему когда-то подарила Люси – ярко-оранжевые буквы на темно-синем фоне; с годами она выгорела и стала мягкой. Бентон отрезал рукава, потому что они были коротковаты. Я всегда им любовалась, когда он надевал эту старую заношенную футболку. Вот он: седые волосы, точеный профиль, а в напряженных темных глазах прячутся тайны. Пальцы слегка сжимают подлокотники кресла. Пальцы пианиста, длинные и тонкие, очень выразительные в разговоре и нежные, когда касаются меня (в последнее время все реже и реже). Проговариваю это вслух, чтобы Анна слышала, описываю его как живого – человека, которого уже год нет на свете.
– Как ты думаешь, какие секреты он от тебя утаивал? – спрашивает Анна. – Какие тайны ты читала в его глазах?
– О Боже! Да в основном по работе. – Голос дрожит, сердце пустилось вразлет от страха. – Он много чего держал при себе. Подробности некоторых дел: считал, будто они слишком ужасны, чтобы кому-нибудь рассказывать.
– Даже тебе? Уж ты-то на своем веку достаточно повидала.
– Я не вижу боли умирающих, – тихо говорю я. – Мне не приходилось сталкиваться с их ужасом. Меня не вынуждают слышать их крики.
– Но ты воссоздаешь все это в воображении.
– Это далеко не одно и то же. Многие убийцы, с которыми Бентону приходилось иметь дело, фотографировали свои жертвы, записывали на пленку, а иногда снимали на видеокамеру то, что с ними делали. И ему приходилось это смотреть. Слушать. Он знал все до конца. Бывало, домой возвращался серым. За обедом молчал, едва касался пищи. В такие вечера он пил больше обычного.
– И все же тебе не рассказывал...
– Ни разу, – с чувством перебиваю я. – Никогда. Для него это была «священная земля», ступать на которую сродни святотатству. Я проходила курс в Сент-Луисе по расследованию убийств – в самом начале своей карьеры, до переезда сюда, еще на должности замначальника полиции Майами. Специализировалась по утопленникам и решила, раз уж я все равно тут, заодно пройду недельное обучение целиком. Однажды днем у нас было занятие по преступлениям на сексуальной почве. Судебный психиатр стал показывать слайды живых жертв. Одна женщина сидела, привязанная к стулу, а мучитель обвязал веревкой ей грудь и втыкал в сосок иголки. До сих пор помню ее глаза – черные дыры, исполненные адской боли; она широко открыла рот и кричала. А еще я видела видеозаписи, – монотонно продолжаю я. – Ее связали, подвергли пыткам и уже готовились выстрелить в голову. Она плакала, звала мать. Молила, хныкала. Видимо, ее держали в подвале, там было плохо видно. Раздался выстрел. Тишина.
Анна молчит. В камине потрескивают поленья.
– Я была одна на шестьдесят мужчин-полицейских.
– Сложная ситуация, ведь обычно жертвы – представительницы твоего пола, – говорит Анна.
Злость берет, как вспомню выражение лиц некоторых мужланов, смотревших слайды и видеозаписи.
– Кое-кто и возбуждался при виде поруганных половых органов, глядя, как женщине наносят увечья, – говорю я. – У них на лицах это было написано. Даже некоторые профайлеры, с которыми Бентон работал, страдали этим. Один любил рассказывать, как Банди насиловал сзади подвешенную к потолку женщину – глаза выкатились, язык выпал. Он кончал в тот момент, когда она умирала. Коллегам Бентона порой слишком нравилось разговаривать о подобных сценах. Ты можешь себе представить, каково работать в такой среде? – Я устремляю на нее пронзающий взгляд. – Каково смотреть на мертвое тело, видеть на пленке, как расправляются с живым человеком, видеть его ужас и мучения, зная при этом, что сидящие рядом втайне смакуют такие страсти? Зная, что для них это сексуально?
– А Бентону такие вещи нравились? – спрашивает Анна.
– Нет. Он каждую неделю видел такое, иногда и несколько дней подряд. Но чтобы находить притягательным – нет. Ему приходилось слышать их крики. – Я уже начинаю тараторить. – Слышать их мольбы и плач. Ведь несчастные не знали. Да если бы и знали, не смогли бы сдержаться.
– О чем ты? Чего эти несчастные не знали?
– Что сексуальных садистов крик и слезы только раззадоривают. Мольбы, страх.
– Как тебе кажется, Бентон плакал, когда его похитили и отвезли в то темное здание? – Пошли финальные минуты «матча», развязка близка.
– Я видела отчет о вскрытии, – прячусь за медицинскую терминологию. – У нас нет фактов, чтобы с определенностью описать последние минуты его жизни. Он сильно обгорел при пожаре. Сгорело столько ткани, что нельзя было даже сказать, к примеру, наличествовало ли у него кровяное давление на тот момент, когда его резали.
– На голове была огнестрельная рана, так? – спрашивает Анна.
– Да.
– Как ты думаешь, что произошло раньше: его застрелили или порезали?
Я отупело гляжу на собеседницу. До сих пор я ни разу не воссоздавала последовательность приведших к его гибели событий. Не могла себя заставить.
– Представь, Кей. Рисуй в воображении, – говорит Анна. – Ты же знаешь, ведь так? Ты слишком много смертей повидала и способна вычислить, что произошло.
В голове темно и пусто, как в том продуктовом магазинчике в Филадельфии.
– Он ведь что-то предпринял, правда? – Психиатр подталкивает меня к размышлениям. Анна сидит на самом краешке оттоманки, склонилась ко мне, будто в душу хочет заглянуть. – Он победил, ведь так?
– Победил? – Я прочищаю горло и восклицаю: – Ха! Ему лицо отрезали, потом спалили труп, и это называется «победил»?
Она терпеливо выжидает, пока я поставлю точки над i. Молчу, тогда она встает и подходит к очагу, попутно легко коснувшись моего плеча. Подбрасывает в огонь поленце, поднимает на меня взгляд и говорит:
– Кей, можно тебя спросить?.. Зачем было стрелять, разделавшись с ним?
Протираю глаза и вздыхаю.
– В их модус операнди неизменно присутствовало одно: отрезать жертвам лица. Это была фишка Ньютона Джойса. – Анна имеет в виду злодея, с которым якшалась не менее извращенная Кэрри Гризен. В сравнении с этой психопатической парочкой Бонни и Клайд – герои субботних мультиков времен моей юности. – Они срезали у жертв кожу с лица и хранили ее в морозильнике наподобие сувениров. У Джойса ведь была настолько изуродованная физиономия, испещренная угревыми шрамами, – продолжает Анна, – что он воровал у других то, чего ему недоставало. Улавливаешь?
– Пожалуй. Насколько вообще можно теоретизировать о мотивах чужих поступков.
– Джойс намеренно осторожничал с ножом, боялся повредить лица. Поэтому он не стрелял в жертвы. Во всяком случае, никогда не стрелял в голову. Не дай бог скальп повредишь. Взять и застрелить – слишком просто. Легкий конец. В некотором смысле даже милосердный. Ведь куда лучше, если тебе выпалят в голову из пистолета, чем истекать кровью с перерезанной глоткой. Почему же тогда Ньютон Джойс с Кэрри Гризен застрелили Бентона?
Анна стоит, склонившись надо мной.
Поднимаю на нее глаза.
– Он что-то им сказал, – наконец, словно нехотя, отвечаю я. – Как видно, спровоцировал.
– Да. – Собеседница усаживается на место. – Да, и еще раз да. – Она жестикулирует, подбадривая меня продолжать повествование, будто направляет транспортный поток на перекрестке. – Что он сказал, что?
Не знаю, что выдал Бентон перед смертью своим убийцам. Ясно одно: словом или действием он спровоцировал кого-то из них потерять над собой контроль. И тот, повинуясь импульсу, без долгих раздумий приставил пистолет к голове пленника и спустил курок. Паф! Конец веселью. Бентон ничего не почувствовал и с того момента оставался в неведении, что творилось дальше. Не важно, что они с ним выделывали после того, не имеет никакого значения. Он был мертв или уже умирал. Сознание его покинуло. Ножа мой возлюбленный так и не почувствовал. Может быть, он его даже не видел.
– Ты ведь хорошо знала Бентона, – говорит Анна. – Знала его убийц, по крайней мере Кэрри Гризен, вы же в прошлом пересекались. По-твоему, что мог сказать Бентон и кому предназначались его слова? Кто выпустил пулю?
– Не получится...
– Постарайся.
Смотрю на нее.
– Кто из них двоих потерял самообладание? – Она толкает меня в запретную зону, туда, куда я не смела входить.
– Она, – вытягиваю откуда-то из глубин подсознания. – Кэрри. Это было что-то личное. Она давно вокруг Бентона крутилась, с самого начала, когда еще работала в Квонтико, на базе ФБР, занимаясь инженерными разработками.
– И там давным-давно, лет десять назад, познакомилась с Люси.
– Да, Бентон знал Кэрри, изучил ее змеиную натуру, насколько возможно изучить пресмыкающегося, – добавляю я.
– Что он ей сказал? – Анна не сводит с меня глаз.
– Наверно, что-нибудь про Люси. И Кэрри сочла это оскорбительным. Он стал над ней издеваться, поддразнивать на тему былой любви, так я полагаю. – Мысли напрямую текут из подсознания, тут же облекаясь в слова. Мне даже думать не приходится.
– В Квонтико Кэрри и Люси стали любовницами. – Анна добавляет очередную порцию дегтя. – Они вместе работали над проблемой искусственного интеллекта.
– Люси была тогда совсем девчонкой, стажером, и Кэрри ее совратила. Я сама ее туда устроила, – горестно добавляю я. – Собственными руками. Влиятельная тетушка с правильными связями.
– Получилось не совсем так, как ты предполагала, верно? – угадывает Анна.
– Кэрри ею воспользовалась...
– Сделала Люси лесбиянкой?
– Ну уж нет, вывод слишком смелый, – говорю я. – Лесбиянками рождаются, а не становятся.
– Итак, Кэрри убила Бентона? Это не слишком смелое предположение?
– Анна, я не знаю.
– Мимолетное прошлое, личная история. Да. Бентон что-то сказал про Люси, Кэрри вышла из себя и сгоряча его пристрелила. Так что он умер не так, как планировали его умертвить преступники. – В голосе Анны звучит триумф. – Не вышло.
Я безмолвно покачиваюсь в кресле, глядя, как серое утро разражается бурей. Ветер жестокими порывами взметает голые ветви и плети плюша в заднем дворике, и тут же вспоминается, как сердитая яблоня швырялась плодами в Дороти из книжки «Волшебник из страны Оз». Анна без единого слова встает, будто давая знак, что сеанс окончен. Пошла заняться делами по дому. Я остаюсь одна. На сегодня достаточно наговорились. Я решаю ретироваться в кухню, где около полудня меня находит Люси, вернувшаяся из спортзала. Когда племяшка появляется в дверях, я как раз открываю банку с помидорами, а на плите булькает кислый соус в начальной стадии приготовления.
– Помочь? – Люси окидывает взглядом репчатый лук, перец и грибы, уже подготовленные на разделочной доске. – С одной рукой-то не больно ловко управляться.
– Бери табурет, – говорю ей. – Ты удивишься, насколько я самостоятельна. Вполне могу о себе позаботиться. – С напускной храбростью я без посторонней помощи открываю наконец банку, а Люси с улыбкой придвигает с дальнего конца рабочего стола табурет и усаживается. Одежду для пробежек она снять не потрудилась, в глазах светится хитрый огонек – так рано поутру на водной глади играют солнечные зайчики. Придерживая луковицу двумя пальцами обездвиженной руки, начинаю строгать.
– Помнишь, как мы играли? – Раскладываю луковые колечки на доске и начинаю их крошить. – Тебе тогда лет десять было. Или такую давность из головы выкинула? Ну уж я-то нипочем не забуду, – говорю ей таким тоном, словно желая напомнить, какой несносной девчонкой она была. – Ты себе не представляешь, сколько раз я готова была устроить тебе выговор и отправить с глаз долой при удобном случае, – смело давлю на больную мозоль. После разговора с Анной будто море по колено: меня теперь ничем не пронять.
– Ну не так уж я была и безнадежна. – Игривый огонек у Люси в глазах сверкает не случайно: обожает слушать, каким ходячим кошмаром она была в детстве, когда приехала ко мне жить.
Бросаю в соус пригоршни рубленого лука, помешиваю.
– А помнишь, как мы в сыворотку правды играли? – спрашиваю я. – Бывало, приду домой с работы, а у тебя лицо такое плутоватое – точно что-то натворила. Помнишь большое красное кресло в гостиной? У камина, в моем старом доме на Виндзор-фармс. Ты в него усаживалась, я наливала тебе стакан сока и говорила, что это сыворотка правды. Ты выпивала и тут же сознавалась.
– Вроде как в тот раз, когда я, пока тебя не было, отформатировала компьютер. – Она заходится смехом.
– Ребенку десять лет, а он уже форматирует жесткий диск. Меня чуть инфаркт не хватил! – припоминаю я.
– И зря, я ведь сначала все файлы сохранила в специальном месте. Просто хотелось посмотреть, как ты разозлишься. – Ее здорово все это забавляет.
– Да уж, я тебя тогда чуть домой не отправила. – Обтираю пальцы левой руки вафельным полотенцем, опасаясь, как бы гипс не пропах луком. Душу пронзила сладкая тоска по минувшему. Не помню, почему именно в ту первую поездку в Ричмонд Люси осталась погостить у меня, но с детьми я никогда не умела возиться, да еще и жутко уставала на работе. У Дороти тоже что-то не ладилось; вроде сестра заново вышла замуж. Может быть, я сама дала слабинку. Люси меня обожала, а я – человек, любовью не избалованный. Когда я приезжала навестить девчонку в Майами, она ходила за мной как привязанная, неотступно следуя по пятам, словно за мячом на футбольном поле.
– Все равно ты бы меня не отослала. – Люси вызывает на спор, хотя в ее глазах и мелькает искорка сомнения, страх остаться ненужной, подпитанный обстоятельствами ее жизни.
– Просто мне казалось, что я недостаточно уделяю тебе внимания и плохо о тебе забочусь, – отвечаю я, опершись на раковину. – Так-то я души в тебе не чаяла, маленькая безобразница. – Она снова смеется. – Нет, конечно, никуда бы ты от меня не делась. Что бы мы друг без друга делали? – качаю головой. – Слава Богу, что у нас была такая игра. Как бы я еще узнала, что ты затеваешь и в какую передрягу угодила, пока я на работе пропадаю? Ну так что, соку или, может быть, винца? Выложишь наконец, что с тобой стряслось? Яже не маленькая, Люси. Ты ведь не ради забавы в отеле поселилась. Тут явно что-то нечисто.
– Знаешь, не я первая, не я последняя. Не терпят они нашу братию, – начинает племяшка.
– Да уж, не последняя – это точно, – отвечаю.
– Помнишь Тиун Макговерн?
– До конца жизни не забуду. – Тиун Макговерн была наставником Люси в филадельфийском отделении АТФ. Женщина сама по себе неординарная, она после гибели Бентона серьезно мне помогала. – Ради Бога, с ней-то ничего не стряслось? – обеспокоилась я.
– Она уже где-то с полгода как ушла оттуда, – отвечает Люси. – Видно, АТФ хотело перевести ее в Лос-Анджелес, поставить ответственной над тамошними подразделениями. Хуже участи не придумаешь. В Лос-Анджелес нашего брата калачом не заманишь.
А согласись Тиун – стала бы называться специальным ответственным агентом; мало кому из женщин федеральных правоохранительных органов выпадает руководить целыми подразделениями. Дальше Люси рассказывает, что Макговерн написала прошение об отставке и начала практиковать в частном порядке, устроив собственное сыскное бюро.
– «Последняя инстанция», – говорит Люси, все больше и больше оживляясь. – Крутое названьице, правда? Основную деятельность развернули в Нью-Йорке. Тиун свела всех в одну большую бригаду: следователи по поджогам и бомбам, копы, адвокаты, всякий полезный народец на случай неприятностей. Не прошло и полгода, а у нее уже своя клиентура. Вроде как не фирма, а тайное общество образовалось. И молва пошла: припекло – звони в «Последнюю инстанцию», туда все отправляются, когда больше идти некуда.







