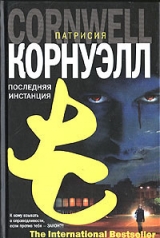
Текст книги "Последняя инстанция"
Автор книги: Патрисия Корнуэлл
Жанры:
Триллеры
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
Глава 3
На следующее утро просыпаюсь от каких-то голосов, с тревожным чувством, что всю ночь трезвонил телефон. Не знаю, может, мне это и приснилось. Один страшный миг я не могу понять, где нахожусь, и вдруг – доходит. От этого словно накатывает тошнотворная волна. Приподнимаюсь на подушках и на миг остаюсь неподвижной. Сквозь задернутые шторы холодно проглядывает солнце, день опять обещает быть серым.
Кое-как влезаю в толстый махровый халат, висевший на двери ванной, натягиваю носки и отваживаюсь наконец выйти посмотреть, кто там еще в доме. Надеюсь, нежданный визитер – Люси.
И верно. Они с Анной сидят на кухне. За широкими окнами, выходящими на задний двор и тягучую оловянную реку, сверкают снежинки. На фоне блеклого дня видны голые силуэты деревьев, покачивающиеся на ветру, а из трубы соседнего дома клубится белый дровяной дым. На Люси выцветший тренировочный костюм, оставшийся еще с тех времен, когда она изучала компьютеры и роботостроение в Эм-ай-ти [6]6
Эм-ай-ти (МТИ) – Массачусетский технологический институт.
[Закрыть]. Она взлохматила с гелем коротко остриженные золотисто-каштановые волосы и на удивление подавлена: остекленевшие глаза налиты кровью, что наводит на мысль о бурной ночи.
– Только что приехала? – обнимаю племяшку.
– Вообще-то еще вчера вечером, – отвечает та, крепко в меня вцепившись. – Не могла устоять перед искушением. Решила заскочить и надраться вдрызг. Жаль, на тебя рассчитывать не пришлось. Я сама виновата, не надо было тянуть.
– Эх, да как же так. – Настроение опускается. – Что же ты меня не разбудила?
– Ну уж нет. Рука не болит?
– Терпимо, – слукавила я. – Так ты из «Джефферсона» уехала, что ли?
– Не-а, пока номер за мной. – У Люси по лицу невозможно прочитать, что она думает. Племянница опускается на пол, стягивает с себя трико, под которыми яркие беговые велосипедки.
– Знаешь, твоя племяшка – настоящий змий-искуситель, – говорит Анна. – Она прихватила прелестную бутылочку «Вдовы Клико», и мы засиделись. А в город я ее уже не отпустила, за рулем как-никак.
Кольнуло обидой, а то и ревностью.
– Шампанское, значит, распивали? Есть повод что-то отметить? – спрашиваю я.
Вместо ответа Анна лениво пожимает плечами. У нее все мысли о другом. Чувствую, у подруги на сердце какой-то камень и выкладывать, в чем дело, она не торопится. Как видно, телефон ночью действительно звонил.
Люси расстегивает куртку, под которой виднеется следующий слой бирюзово-черного нейлона. Костюм, облегающий ее складное спортивное тело, сидит плотно и гладко, как краска.
– Ага. Было что отпраздновать, – отвечает Люси с привкусом досады в голосе. – Отправили меня в административный отпуск.
Неужели я не ослышалась? Административный отпуск – примерно то же самое, что временное отстранение от должности. Ты уже на краю пропасти, того и гляди уволят.
– Отправили весла сушить. – Специальное выраженьице, характерное для спецагентов. – На следующей неделе получу письмо со всеми своими прегрешениями. – Люси храбрится, но я-то знаю ее достаточно, меня бравадой не одурачишь. Последние месяцы и годы она исходит злобой; прикрытая плотными слоями, в душе у нее кипит ярость. – Перечислят массу причин, почему я подпадаю под сокращение, и мне останется только апеллировать. Если, конечно, я не пошлю все к чертям и сама не уйду. Не исключен и такой вариант, сдались они мне.
– А с чего вдруг? Не из-за него же. – Я имею в виду Шандонне.
С редкими исключениями общая процедура отстранения такова: если специальный агент попадает в перестрелку или критическую ситуацию, его берут на поруки или переводят на более щадящие условия, нежели трудная и опасная работа, которой занималась Люси в Майами. Находят менее стрессовое занятие – скажем, ставят расследовать предумышленные поджоги. Если человек не способен самостоятельно справиться с эмоциональной травмой, его могут даже отправить на восстановительный отдых. Что же касается административного отпуска – это дело совсем иного порядка. Это наказание, наказание чистой воды.
Люси поднимает на меня глаза: она сидит на полу вытянув ноги и опершись на закинутые за спину руки.
– Один черт: сделал, не сделал – все одно крайней окажешься, – резко отвечает племянница. – Если бы я его пристрелила, с меня бы три шкуры содрали. Не пристрелила – на тебе: отвечай.
– Видишь, просто ты сначала угодила в мясорубку в Майами и, почти тут же приехав в Ричмонд, опять кого-то чуть не пристрелила. – Анна сообщает нелицеприятную правду. Тут уже не важно, что этот «кто-то» – серийный маньяк-убийца, который вломился в мой дом. У Люси подмоченная репутация, она неоднократно прибегала к ненужному насилию, и неприятный случай в Майами тому лишнее подтверждение. В кухне Анны грозовым фронтом повисло неспокойное прошлое моей племяшки.
– Просто я первая честно призналась, – отвечает Люси. – Каждому хотелось вышибить этому поганцу мозги. Спросите Марино. – Мы встречаемся взглядами. – Да каждый коп, каждый федерал, который там был, мечтал спустить курок. А меня выставляют не пойми кем, сорвиголовой, будто я психопатка, хожу по улицам и думаю, кого бы мне пришить ради хохмы. Во всяком случае, они на это намекают.
– Тебе и вправду отдых не повредит, – напрямик заявляет Анна. – Может, ты просто устала, и все.
– Да ни при чем здесь это. Ладно вам, если бы кто-нибудь из них сделал то, что я сделала в Майами, его бы уже лаврами обвешали. А если один из них чуть не убил бы Шандонне, вашингтонские шишки стоя бы аплодировали его выдержке, а не прищучивали за то, что он едва что-то не сделал. Как вообще можно наказать человека за то, что он что-то «едва не сделал»? По правде говоря, надо еще доказать это «едва».
– Да, пусть-ка попробуют. – Во мне заговорил следователь. И в то же время Шандонне тоже «едва» со мной не расправился. На деле у него ничего не вышло, а что до его намерений – дело спорное, на это и будет напирать защита.
– Пусть решают что хотят, – продолжает Люси, сама не своя от обиды и негодования. – Пусть увольняют. А то ведь, так уж и быть, позволят остаться, только сплавят с глаз долой в комнатушку без окон в Южной Дакоте или на Аляске – бумажки разбирать. Или замуруют в каком-нибудь пакостном отделе вроде аудио-видеонаблюдения.
– Кей, а ведь ты еще кофе не пила. – Анна попыталась развеять нарастающее напряжение.
– А, так вот в чем дело. То-то с утра все из рук валится. – Направляюсь к кофеварке, которая стоит возле раковины. – Еще кто будет?
Желающих со мной покофейничать не нашлось. Наливаю себе чашечку. Люси тем временем разминается на полу, делая глубокие приседания и наклоны. Мне всегда нравилось наблюдать, как ее движения плавно перетекают друг в друга, упругие мышцы привлекают к себе внимание без излишней помпезности или настоятельности. Рыхлая и неповоротливая девочка годами трудилась и создала из своего тела машину, которая с готовностью исполнит все, что ей прикажешь, совсем как вертолеты, которыми она управляет. Может быть, бразильская кровь подбавила темного огня ее красоте, но Люси просто электрифицирует окружающих. Куда бы она ни попадала, на ней останавливаются все взгляды. А в ответ она самое большее лишь пожимает плечами.
– Не представляю, как ты собираешься бегать в такую погоду, – говорит Анна.
– Самоистязание – штука хорошая. – Люси защелкивает напузник, в котором лежит пистолет.
– Надо хорошенько обсудить твои планы. – Кофеин растормошил мое сонное сердце, вернулась ясность мышления.
– После пробежки заскочу в спортзал, – сообщает Люси. – Так что скоро не ждите.
– Сплошное самоистязание, – размышляет Анна.
Когда передо мной стоит племянница, я могу думать лишь о том, насколько экстраординарный она человек и сколько на ее долю выпало несправедливых лишений. Своего биологического отца она не знала; потом в мою жизнь вошел Бентон, заменив ей родителя, которого у нее никогда не было. И его она тоже потеряла. Мать ее – эгоцентричная женщина, которая слишком старается переплюнуть свою талантливую дочурку, а потому о любви здесь вообще речи нет. Да я и сомневаюсь, что моя сестрица Дороти вообще способна на такое чувство. Пожалуй, Люси – самый умный и непостижимый человек из всех, с кем я встречалась на своем веку. И потому любят ее очень немногие. Неотразимая женщина, она стартует из кухни подобно олимпийской чемпионке, вооруженная и опасная. А я помню, как эта девчушка в четыре с половиной года пошла в первый класс и получила «неуд» по поведению.
– Как вообще можно получить двойку за поведение? – спрашивала я Дороти, когда негодующая сестрица звонила мне, дабы пожаловаться на тяжелейшее ярмо, лежащее у нее на плечах.
– Она разговаривает на уроках, перебивает других учеников и постоянно тянет руку, вызываясь отвечать! – выпаливала Дороти. – Знаешь, что учительница написала в ведомости? Вот, пожалуйста! Я тебе прочту! «Люси не хочет работать и играть с детьми как полагается. Она хвастунья и корчит из себя всезнайку; постоянно разбирает всевозможные предметы: точилки для карандашей, дверные ручки».
Люси – лесбиянка. Наверное, в этом заключается самая большая несправедливость, потому что такое не перерастешь. Гомосексуальность – это несправедливо, так как она порождает несправедливость. А потому я сильно горевала, когда мне открылась эта сторона жизни племянницы. Я на все была готова, лишь бы оградить ее от страданий. Теперь надо признать очевидное, на что до сей поры удавалось закрывать глаза: АТФ не окажется добрым и всепрощающим дядечкой, и Люси это тоже прекрасно понимает. Вашингтонское руководство будет подслеповато щуриться, разглядывая ее заслуги, и устремит на нее пристальный взгляд сквозь увеличительное стекло предрассудков и зависти.
– Устроят они охоту на ведьм, – говорю, когда Люси уже ушла.
Анна разбивает в миску яйца.
– Ее попросту хотят выгнать, Анна.
Она швыряет скорлупу в раковину, открывает холодильник и вынимает из него пакет молока, проверив срок годности.
– Некоторые считают ее героиней, – сообщает подруга.
– У стражей порядка женщины не в почете – отличившихся мигом наказывают. Просто широко об этом не говорят: кому охота грязное белье на публике ворошить.
Анна яростно взбивает вилкой яйца.
– Та же самая история, – продолжаю я. – Помню, в мое время, когда мы учились в мединституте, приходилось извиняться, что занимаем мужские места. Бывало, нас саботировали, затирали. На первом курсе в нашем классе было всего три женщины. А вас сколько?
– В Вене все было иначе.
– В Вене? – Другие мои мысли тут же испарились.
– Я там училась, – сообщает Анна.
– Вот как. – Укол совести: узнаю новую деталь из жизни своей самой близкой подруги.
– Когда я сюда приехала, так и было, как ты рассказываешь: женщин вниманием не баловали. – Анна плотно сжала губы, выливая взбитую яичную смесь в чугунную сковороду. – Помню, как меня встретили в Виргинии.
– Да уж, поверь, я тебя прекрасно понимаю.
– Кей, это было за тридцать лет до тебя. Ты даже понятия об этом не имеешь.
Яйца брызгают и шипят на сковороде. Облокотившись на стойку, попиваю черный кофе. Так хотелось, чтобы Люси меня застала вчера, обязательно надо было с ней переговорить. А тут я узнаю такие новости как бы между прочим.
– Она тебе что-нибудь рассказала? – спрашиваю Анну. – Ну, об этих своих неприятностях.
Подруга переворачивает омлет, снова и снова.
– Она пришла с шампанским, потому что хотела именно тебе все рассказать. Неуместный жест, учитывая, какие у нее новости. – Из тостера выскакивают английские гренки из нескольких злаков. – Почему-то считается, что психиатры со всеми разговаривают по душам, а на самом деле ситуация выглядит совсем иначе. Мне вообще редко рассказывают о своих чувствах, даже если я беру почасовую оплату. – Анна несет к столу тарелки. – В основном люди говорят о мыслях. В этом-то вся проблема. Мы слишком много думаем.
– Будут воду мутить. – Меня не оставляют думы об АТФ. – Нападут исподтишка, так же как из ФБР ее выгоняли. Сказать по правде, федералы вытурили Люси по той же причине. Как же, восходящая звезда, компьютерный гений, управляет вертолетом, первая женщина в спецгруппе освобождения заложников! – с жаром пробегаю послужной список Люси, так, словно Анна с ним не знакома. Подруга смотрит на меня со все нарастающим скептицизмом: незачем вдаваться в такие подробности, ведь Люси она знает с самого детства. – И тут разыграли другую карту: лесбиянка она у нас, – не унимаюсь я. – Хорошо, взяли в АТФ – и все пошло по новой. Опять двадцать пять, история повторяется. Что ты на меня так смотришь?
– Ты заводишься из-за проблем Люси, а над тобой самой горища зависла. Больше Монблана.
Внимание переключается на вид из окна. У кормушки для птиц усердно суетится голубая сойка – перья взъерошены, роняет в снег семечки, и те свинцовыми пулями устилают белоснежную гладь. Бледные пальцы солнечного света робко касаются затянутого облаками утра. Я нервно кручу кофейную чашечку, выписывая на скатерти маленькие круги. Локоть отзывается редкой глухой пульсацией, мы едим. Каковы бы ни были мои проблемы, я отказываюсь их обсуждать, словно если я расскажу о них вслух, они сами собой оживут. Можно подумать, сейчас их нет... Сидим молча. О тарелки бряцает столовое серебро, за окном густо валит снег, запорошив мерзлые кусты и деревья и туманом зависнув над рекой.
Я ухожу к себе в комнату и долго отпариваюсь в горячей ванне, свесив забинтованный локоть за борт «стального судна». С трудом одеваюсь, понимая, что одной рукой завязывать шнурки мне уже не научиться. Вдруг кто-то звонит в дверь. Несколько секунд спустя ко мне стучится Анна и спрашивает, в состоянии ли я принимать гостей.
Тяжелым грозовым фронтом наползают тревожные мысли: я не жду посетителей.
– Кто там? – выкрикиваю из ванны.
– Буфорд Райтер, – отвечает она.
Глава 4
Прокурора нашего округа за глаза как только не называют: Хуба-буба (пустомеля), Буфер-шухер (изрядно труслив), Загребуфер (нечист на руку). Он неизменно вежлив, неизменно учтив. Райтер – истинный виргинский джентльмен, вышколенный в Каролине, лошадиной стране своего детства. Его никто не любит, хотя никто и не пылает к нему ненавистью. Его не боятся, но и не уважают. Райтер – человек без огня. Не припомню, чтобы он когда-нибудь проявлял яркие эмоции, с каким бы страшным, душераздирающим преступлением ни приходилось иметь дело. Что еще хуже – он прячет голову в песок, как только дело доходит до моей специальности, стараясь переключить всеобщее внимание на пункты закона, вместо того чтобы сосредоточиться на плодах его нарушения, на пугающем человеческом безобразии.
Райтер брезгливо избегает морга и в результате не настолько сведущ в судебно-медицинской экспертизе, как следовало бы человеку на его должности. По правде говоря, он – единственный многоопытный прокурор из всех, кого я знаю, который не прочь обойтись без судмедэксперта в зале заседаний. Пусть за специалиста говорят бумаги. А это пародия на правосудие, преступное пренебрежение обязанностями. Если на процессе нет патологоанатома, вскрывавшего тело и, в некотором смысле, говорящего от имени жертвы, тогда присяжные не смогут понять, через что прошел человек, когда его предавали смерти. Клинические слова протоколов не возбудят в умах всего ужаса и страданий жертвы, и по этой причине защита так любит прибегать к зачитыванию отчета о вскрытии.
– Буфорд? Как дела? – протягиваю руку, и Райтер, бросив взгляд на мой гипс и перевязь, замечает развязанные шнурки и выпущенные полы рубашки. Как правило, он видит меня обычно при костюме и в подобающем моему профессиональному статусу окружении, так что на лице его появляется некое выражение. По идее оно должно показывать благовоспитанное сострадание и сочувствие существа высшего, вкупе со смиренной заботой Божьего избранника, коему предписано направлять нас, недостойных, на пути праведном. Такой типаж чрезвычайно распространен среди первых фамилий Виргинии, привилегированных, ушлых людей, до совершенства доведших умение скрывать свое высокомерное отношение к окружающим под маской тяжкого бремени. Якобы быть элитой – само по себе нелегкий труд.
– Надо спросить, как у вас? – отвечает он, устраиваясь в уютной овальной гостиной со сводчатым потолком и видом на реку.
– Не знаю, Буфорд, как ответить. – Я предпочитаю кресло-качалку. – Когда меня об этом спрашивают, у меня мозг перезагружается. – Похоже, Анна развела огонь и поспешила убраться восвояси; меня не покидает нелегкое чувство, что ее отсутствие – нечто большее, чем просто нежелание проявлять назойливость.
– Не представляю, как вы работаете после всего, что произошло. – Райтер говорит с приторной виргинской протяжностью. – Мне очень неловко вот так вклиниваться, Кей... Увы, дело в том, что произошло нечто непредвиденное... А здесь уютно, правда? – Он осматривается. – Она сама этот дом строила или поселилась в готовом?
Не знаю, да мне и безразлично.
– А вы, как я погляжу, довольно близкие подруги, – добавляет гость.
Не пойму, то ли он сказал это для красного словца, то ли выуживает информацию.
– Анна преданный и надежный товарищ.
– Она о вас прекрасного мнения. Собственно говоря, к чему я и клоню, – продолжает он. – По-моему, вы сейчас в отличных руках.
Мне донельзя противно, что Райтер считает, будто я в чьих-то руках, как пациент на койке, о чем я ему не преминула сказать.
– Ах, ну да. – Он тем временем рассматривает холсты, развешанные на бледно-розовых стенах, художественное стекло, скульптуры и мебель. – Тогда, надо думать, вы никогда не вступали в профессиональные отношения?
– В прямом смысле нет, – раздражаюсь я. – Сеансов я не брала.
– Она никогда не выписывала рецептов? – вкрадчиво продолжает он.
– Что-то не припомню.
– Надо же, Рождество на носу. Невероятно. – Райтер вздыхает, отвлекшись было на реку, а затем возвращает все свое внимание ко мне.
Как в таких случаях выражается Люси, он похож на шута в своих зеленых шерстяных штанах на пуговицах а-ля баварский бюргер, заправленных в резиновые, подбитые овчиной боты на толстой подошве. Кофта из шотландки застегнута на пуговицы по самый подбородок. Из его облика складывается впечатление, что джентльмен еще не решил, что ему сегодня делать: то ли заняться альпинизмом в Альпах, то ли в гольф сыграть на шотландском лужочке.
– Итак, – говорит он, – пожалуй, настала пора поведать, что меня сюда привело. Пару часов назад позвонил Марино. В деле Шандонне возникло непредвиденное развитие обстоятельств.
Меня словно ножом пырнули. Какое предательство, ведь мне Марино и словом не обмолвился! Даже не потрудился узнать, как я сегодня себя чувствую.
– Попытаюсь изложить все наилучшим образом. – Райтер кладет ногу на ногу и кротко опускает руки на колено. В свете лампы сверкнули два кольца: обручальное и кольцо выпускника Виргинского университета. – Кей, я уверен, вы знаете, что известия о происшествии в вашем доме и последующем аресте Шандонне распространяются в СМИ с бешеной скоростью. Заметьте, с бешеной. Наверняка вы следите за выпусками новостей и сумеете оценить всю значимость того, что я намерен сейчас изложить.
Страх – занимательное чувство. Я не устаю его изучать и часто привожу в пример ситуацию, когда вы резко перед кем-то вырулили и тут же притормозили – так работает страх. Панический ужас мгновенно сменяется гневом, человек, которого вы подрезали, жмет на клаксон, делает непристойные жесты или, в наши дни, палит из пистолета. Я полностью, без запинки преодолела этот путь: острый приступ страха сменился яростью.
– За выпусками новостей я намеренно не слежу и уж точно не собираюсь оценивать всю их значимость, – отвечаю я. – Я не ценю беспардонных покушений на свою частную жизнь.
– Убийства Ким Льонг и Дианы Брэй привлекли широкое внимание общественности, но покушение на вас – нечто беспримерное, – продолжает Райтер. – Надо полагать, вы не читали утреннюю «Вашингтон пост»?
Молча гляжу на него, закипая от негодования.
– На первой полосе – Шандонне на каталке завозят в машину «Скорой помощи», из-под простыни торчат волосатые плечи, как у длинношерстной собаки. Разумеется, лицо перебинтовано, и все равно можно вообразить, насколько это гротескное зрелище. Бульварная пресса тоже внакладе не осталась. Вы бы видели заголовки! «Оборотень в Ричмонде», «Красавица и Чудовище» и остальное в том же духе. – В его тоне сквозит такое презрение, будто чувства вообще вещь непристойная, и у меня волей-неволей перед глазами возникает картина, как он занимается любовью с женой. Представляю: прокурор сношается в носках. Секс он скорее всего считает грязным действом, первобытным судьей от биологии, который берет верх над его высшим "я". У нас ходят слухи, будто в туалете он принципиально не пользуется писсуаром или унитазом в присутствии посторонних. Мытье рук для него превратилось в настоятельную необходимость. Все это крутится у меня в мозгу, по мере того как он сидит, такой правильный, и пересказывает отрывки из публичного разоблачения, которое мне учинил Шандонне. Уши вянут.
– Вы не знаете, фотографии моего дома где-нибудь фигурируют? – через «не хочу» спрашиваю я. – Вчера вечером, когда я отъезжала от дома, рядом крутились фотографы.
– Ну, вообще-то мне доподлинно известно, что где-то в вашем районе летали вертолеты. Кто-то рассказывал, – отвечает он, и у меня моментально закрадываются подозрения, что прокурор опять наведывался к моему дому и видел все собственными глазами. – Снимали с воздуха. – Райтер смотрит на парящие за окном снежинки. – При такой-то погоде не полетаешь. Охранники на въезде довольно много машин разрулили. Пресса, любопытствующие. Неожиданно получилось, но сейчас вам всего лучше пожить у доктора Зеннер. Забавно все-таки мир устроен. – Он снова отводит взгляд на реку. Над водой нарезает круги стая диких гусей, будто ожидая разрешения диспетчера на посадку. – В обычной ситуации я бы не советовал вам возвращаться домой до суда.
– До суда? – перебиваю его.
– Если бы суд состоялся здесь... – Он подводит меня к следующему откровению, и я рефлекторно понимаю, что речь идет о смене места действия.
– Вы хотите сказать, что суд, вероятнее всего, состоится не в Ричмонде? И как понимать «в обычной ситуации»?
– Я к тому и веду. Марино звонили из прокуратуры Манхэттена.
– Сегодня утром? Так это и есть обещанный поворот событий? – Я окончательно сбита с толку. – А Нью-Йорк-то тут при чем?
– Решение было принято пару часов назад. Дело передано начальнице отдела по расследованию преступлений на сексуальной почве, некой Хайме Бергер. Причудливое имечко. Вы, возможно, о ней слышали. Не удивлюсь, если вы даже знакомы.
– Нет, лично мы не встречались, – отвечаю я. – Хотя я действительно о ней наслышана.
– Два года назад, пятого декабря, в пятницу, – продолжает Райтер, – в Нью-Йорке, на квартире в районе пересечения Второй авеню и Семьдесят седьмой, в Верхнем Ист-Сайде, было обнаружено тело двадцативосьмилетней афроамериканки. Очень скоро открылось, что эта женщина работала телевизионным метеорологом... э-э, вела прогноз погоды на Си-эн-би-си. Наверное, вы слышали об этом деле?
Сами собой просыпаются ассоциации.
– Рабочий день у них начинается рано, и когда она не объявилась на телестудии и трубку не подняла, кто-то догадался ее проведать. Жертву звали, – Райтер вынимает из заднего кармана брюк крохотную записную книжку в кожаном переплете и начинает листать страницы, – ...звали Сьюзан Плесс. Так вот, покойную обнаружили в собственной спальне, на коврике у кровати. Одежда выше талии содрана, лицо так сильно изувечено, будто несчастная попала в авиакатастрофу. – Он поднимает на меня взгляд. – Буквально: «авиакатастрофа». Подозреваю, Бергер так выразилась в разговоре с Марино. А вы как это называете? Помните дело, когда пьяные подростки устроили гонки на пикапе и какой-то парень в самый неподходящий момент решил высунуться из окна? И встретился с деревом?
– Ввинтился, – хмуро отвечаю я, потихоньку понимая, к чему он клонит. – Удар был такой силы, что лицо вдавило внутрь; такое еще встречается, когда падает самолет или когда люди прыгают или падают с высоты, приземляясь лицом вниз. Два года назад? – Мысли бешено завертелись. – Как же такое возможно?
– В кровавые подробности вдаваться не буду. – Райтер пролистывает еще несколько страниц. – На теле обнаружены следы от укусов, в том числе на кистях рук и стопах, масса длинных, странного вида волос, совершенно бесцветных, налипших на кровоподтеки. Поначалу их приняли за шерсть животного. Скажем, длинношерстной ангорской кошки или еще кого-нибудь в таком же духе. – Он поднимает взгляд. – Вы меня понимаете?
До сих пор мы считали ричмондские проделки Шандонне первыми в США. Мы воображали его неким подобием Квазимодо, которого всю жизнь прятали от мира в подвале семейного парижского особняка. Разумных причин предполагать иное у нас попросту не было. Еще бытовала версия, что он приплыл в Ричмонд из Антверпена в то же самое время, когда мертвое тело его брата прибило к нашим берегам. Неужели и здесь мы ошиблись? Подкидываю Райтеру эту мыслишку.
– В любом случае нам известно мнение Интерпола, – комментирует он.
– Иначе говоря, он пробрался на борт «Сириуса» под вымышленным именем, – припоминаю я. – Некто Паскаль по прибытии на берег немедленно направился в аэропорт. Предположительно, ему потребовалось срочно вернуться в Европу по семейным обстоятельствам. – Повторяю информацию, переданную мне Джеем Талли, когда я на прошлой неделе была в Лионе, в штаб-квартире Интерпола. – Только на борту самолета его не видели и потому вполне резонно приняли Паскаля за Шандонне, который никуда не полетел, а остался в Америке и начал убивать. Правда, если наш клиент запросто путешествует в Штаты и обратно, невозможно сказать, как долго он находится в нашей стране и когда в нее прибыл. Хватит домыслов.
– Да уж, многое еще придется пересмотреть, прежде чем мы доберемся до сути. Со всем уважением к Интерполу. – Райтер меняет положение ног, явно чем-то довольный.
– Его обнаружили? Этого Паскаля?
Фактами Райтер не располагает, но на его взгляд, кем бы тот настоящий Паскаль ни оказался (при условии, что он существует), это наверняка очередная паршивая овца из преступной группы Шандонне.
– Человек под вымышленным именем, может быть, даже приятель или товарищ покойника из грузового контейнера, – рассуждает Райтер. – Наверное, еще один брат, Томас, который, как известно, тоже занимается семейными делишками и нечист на руку.
– Я так поняла, до Бергер дошли новости о поимке преступника и здешних убийствах, вот она и позвонила, – говорю я.
– Узнала модус операнди [7]7
Модус операнди – от лат. Modus operandi – в данном случае – способ совершения преступления.
[Закрыть], точно. Говорит, дело Сьюзан Плесс из головы не выходит. Так руки и чешутся ДНК сравнить. У них, судя по всему, есть семенная жидкость, они сделали ее анализ и уже два года его держат.
– Значит, с семенной жидкостью по делу Сьюзан уже поработали, – размышляю я, несколько удивившись. Обычно лаборатории слишком загружены работой при больших финансовых затратах и не торопятся делать анализ ДНК, пока не будет подозреваемого для сравнения. В особенности если в их распоряжении нет развернутой базы данных, которую можно проштудировать в надежде на случайную удачу. А в 1997 году в Нью-Йорке вообще такой базы данных не существовало.
– Надо понимать, у них с самого начала был подозреваемый? – спрашиваю я.
– Думаю, некто имелся, однако в итоге дело не выгорело, – отвечает Райтер. – Наверняка мне известно лишь то, что они сделали анализ и сейчас их прокуратура ждет результатов по ДНК – образцы уже в пути. Само собой разумеется, прежде чем Шандонне предъявят обвинение здесь, в Ричмонде, неплохо было бы, чтобы пробы совпали. Дабы сразу прищучить его по всем статьям. Благо нам выпало лишних несколько дней из-за его недомогания... Я имею в виду химические ожоги глаз. – Он говорит это так, словно я тут вообще ни при чем. – Вроде как «золотой час», как вы выражаетесь – короткий период, когда можно спасти пострадавшего после страшного несчастного случая или еще чего. Теперь и нам выпал «золотой час». Сравним ДНК и посмотрим, на самом ли деле наш красавчик – тот самый человек, который два года назад расправился с дамочкой в Нью-Йорке.
У Райтера противная привычка повторять только что сказанное мною. Можно подумать, если он будет выставлять себя на посмешище, ему простят незнание действительно важных вопросов.
– А что насчет следов от укусов? Какая-нибудь информация поступила? У Шандонне очень нестандартный прикус.
– Знаете ли, Кей, я, честно говоря, в такие подробности не вникал.
Ну конечно, куда там. Пытаюсь выжать из него правду, истинную причину для нынешнего визита.
– Ну а если ДНК укажет на задержанного? Вам это надо знать до предъявления обвинения. Почему? – Вопрос риторический: ответ мне известен. – Потому что не хотите, чтобы ему предъявляли обвинение здесь. Предпочитаете сдать его на милость Нью-Йорка. Чтобы Шандонне сначала осудили там.
Прокурор отводит взгляд.
– Объясните, ради всего святого, зачем вам это, Буфорд? – продолжаю я, все больше убеждаясь, что раскусила его планы. – Хотите умыть руки? Отправить его на Райкер-Айленд и чистеньким остаться? А здесь никто правосудия не увидит? Давайте будем откровенны друг с другом. Если на Манхэттене вынесут приговор по убийству первой степени, вы уже не станете судить его здесь, ведь так?
Райтер одаривает меня полным искренности взглядом.
– Мы всегда вас так уважали, – к моему величайшему удивлению, говорит он.
– Уважали? – Тревога холодной волной прокатилась по телу. – То есть теперь не уважаете?
– Вы поймите, я знаю, каково вам сейчас – все эти несчастные, и вы тоже, заслуживают, чтобы он в полной мере ответил перед...
– Выходит, подонку сойдет с рук то, что он пытался со мной сделать, – пылко обрываю его. Как больно. Больно от неприятия. Больно от того, что нас бросили. – Выходит, ему простят то, что он сделал с этими несчастными, как вы выразились. Я права?
– Смертной казни в Нью-Йорке никто не отменял, – отвечает он.
– О, ради Бога! – восклицаю я в порыве негодования. Впиваюсь в собеседника глазами, точно пытаясь прожечь взглядом, как бывало в детстве, когда я с помощью увеличительного стекла прожигала дырки в бумаге и сухой листве. – Они хоть раз кого-нибудь осудили?
Ответ ему прекрасно известен: «никогда». На Манхэттене не умерщвляют людей.
– Я не гарантирую, что и в Виргинии вынесут смертный приговор, – взвешенно отвечает Райтер. – Подсудимый не является гражданином Америки и страдает редким заболеванием, уродством или как это назвать. Нам даже неизвестно, говорит ли он по-нашему.
– Когда этот тип сунулся в мой дом, то изъяснялся он запросто.








