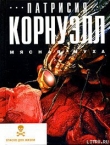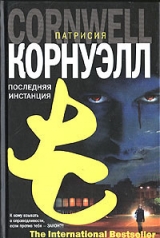
Текст книги "Последняя инстанция"
Автор книги: Патрисия Корнуэлл
Жанры:
Триллеры
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
Глава 29
Марино так долго добирался потому, что сначала решил заглянуть в камеру хранения в центральном управлении. Я попросила его захватить ключ из нержавейки, который обнаружила в свое время в кармане спортивных трусов Митча Барбозы. Капитан рассказывает, что какое-то время пришлось повозиться, накрепко засев в этой комнатушке за проволочной сеткой, где компактные стеллажи «Спейссейвер» буквально забиты помеченными штрих-кодом мешками. В некоторых из них хранятся и мои вещи, которые полиция изъяла в прошлую субботу. Я уже бывала в камере хранения. Могу себе представить. В пакетах названивают телефоны, пикают пейджеры – ни о чем не подозревающие граждане пытаются наладить связь с людьми, которые либо сидят за решеткой, либо мертвы. Еще здесь есть холодильники с замками. В них хранятся пакетики со скоропортящимися уликами, как, скажем, та замороженная курица, которую я колошматила обрубочным молотком.
– Ну и зачем же вы били сырую курицу сим странным инструментом? – Бергер ждет дальнейших разъяснений относительно этой части моего довольно необычного повествования.
– Проверить, совпадут ли по форме зарубки с ранами на теле Брэй.
– Кстати, та курочка лежит в холодильнике для улик, – вклинивается Марино. – Надо сказать, ты ее забила до смерти.
– Опишите поподробнее, что конкретно вы делали с курицей, – подталкивает меня Брэй, будто я уже в суде.
Стою в прихожей и, глядя на своих собеседников, рассказываю, что положила сырые куриные грудки на разделочную доску и наносила удары под самыми разными углами и с разным наклоном молотка, чтобы определить характер наносимых повреждений. Обе рабочие части молотка, с тупым лезвием и заостренным концом, оставляли отпечатки, по конфигурации и размерам сходные с ранами на теле Брэй. В частности, с повреждениями хряща и черепа, которые отлично сохраняют форму или след от резца попавшего в них инструмента. Потом, продолжаю, я расстелила белую наволочку. Измазала спиральную ручку обрубочного молотка в соусе барбекю.
Разумеется, моя собеседница хочет знать, какого именно соуса для барбекю. Припоминаю, что это был «Копченый поросенок», который я развела водой до консистенции крови, а затем прижала покрытую им рукоятку к ткани, чтобы выяснить, как выглядит отпечаток. Получились такие же полосы, как на окровавленном матрасе Брэй. Марино поведал, что наволочку с отпечатками от соуса направили в лабораторию на анализ ДНК. Говорю, что это бессмысленная трата времени. Мы не тестируем помидоры. Не пытаюсь прослыть острячкой, но сейчас мне так пакостно, что волей-неволей сарказм проскакивает. Единственный ответ, который даст лаборатория, заверяю я, «не принадлежит человеку». Марино меряет шагами комнату.
– Я в бешенстве, – говорит он, – потому что молотка, который ты приобрела, нигде нет.
Не смог он его отыскать, где только ни смотрел. В базе данных по уликам инструмент не значится. Определенно в камеру хранения его не сдавали и судебные техники его не подбирали, так что в лабораториях его нет. Пропал. Исчез бесследно. И чека из магазина у меня нет. Теперь я в этом уверена.
– Я же тебе из машины звонила, когда только его приобрела, – напоминаю я.
– Ага, – говорит он.
Марино прекрасно помнит, что я звонила, как только вышла из магазина, где-то около шести тридцати или семи. Я тогда еще ему сказала, что подозреваю, будто с Брэй расправились при помощи обрубочного молотка. Сообщила, что удалось найти как раз нечто подобное. Но, подчеркивает он, это вовсе не значит, что я не купила молоток после убийства Брэй, чтобы сфабриковать алиби.
– Вроде как чтобы создавалось впечатление, будто у тебя молотка доселе не было и ты понятия не имела, чем ее убили.
– В конце-то концов, ты на чьей стороне? – спрашиваю я. – Поверил в треп Райтера? Господи, я больше этого не вынесу.
– Док, тут стороны ни при чем, – мрачно отвечает Марино под пристальным взглядом Бергер.
Мы опять вернулись к нашей загвоздке: один молоток. Тот самый, с кровью Брэй, оказался в моем доме. Точнее, в большой комнате на персидском ковре, ровно в семнадцати с половиной дюймах справа от кофейного столика. Я все повторяю, что инструмент принадлежит Шандонне, он вовсе не мой, а сама представляю, как он лежит на полке за проволочной сеткой в пакетике из дешевой оберточной бумаги с учетным номером и штрих-кодом, обозначающим доктора Скарпетту. Меня.
Прислонилась к стене в прихожей, а в голове легко-легко. Будто я покинула бренную оболочку и смотрю на себя сверху вниз, как если бы случилось что-то страшное и необратимое. Меня больше нет. Меня уничтожили, развенчали. Я – мертвец, как те люди, чьи пожитки хранятся в темных бумажных пакетах в специальной комнате для улик. Да нет, жива, конечно, но под следствием, а это, пожалуй, во сто крат хуже. Страшно даже себе представить, что будет дальше, какова следующая стадия моего унижения.
– Марино, – говорю, – вставь ключ в замок.
Он не решается, стоит хмурый. Затем сует руку во внутренний карман старой кожаной куртки с потертой меховой оторочкой и вынимает прозрачный полиэтиленовый пакетик. В дом врывается холодный ветер, когда он открывает входную дверь и вставляет стальной ключ – запросто так вставляет – в скважину, щелкает замком, и щеколда открывается и закрывается.
– На нем номер написан, – тихо поясняю присутствующим. – Двести тридцать три. У меня сигнализация этим кодом отключается.
– Что? – В кои-то веки нью-йоркская шишка едва не лишилась дара речи.
Мы, все трое, проходим в зал. Теперь уже я усаживаюсь на холодную каминную плиту, как несчастная Золушка. Гости не горят желанием сидеть на изуродованном диване и устраиваются в непосредственной близости от меня, смотрят, ждут разумных объяснений. В голову приходит только одно, самое очевидное.
– С субботы в мой дом наведывались – или полиция, или еще кто, – начинаю я. – Ящик в кухонном столе. В нем у меня все ключи. От дома, от машины, от кабинета, от картотеки – от всего. Так что, если кто-то хотел разжиться запасным ключиком, проблем у него не возникло. А вы ведь знаете код, да? – смотрю на Марино. – То есть ты ведь, уходя, поставил дом на сигнализацию. И когда мы сюда пришли, система была включена.
– Так, нам необходим список всех, кто был в доме, – мрачно решает Бергер.
– Могу назвать только тех, о ком знаю, – отвечает капитан. – Я не всех сюда сопровождал...
Со вздохом облокачиваюсь о каминную кладку. Начинаю называть копов, которых видела здесь собственными глазами. В том числе и Джея Талли, и Марино.
– Райтер здесь тоже был, – добавляю.
– Как и я, – сообщает Бергер. – Но меня впустили. Я вашего кода не знаю.
– Кто вас впустил? – спрашиваю.
Она молча переводит взгляд на полицейского. Что неприятно – Пит ни словом не обмолвился о том, что водил постороннего человека по моему дому. Обижаться теперь, конечно, глупо. Да и кто у меня есть ближе этого толстяка? Кому еще мне доверять, как не ему?
Марино заметно оживился. Он встает и направляется в сторону кухни. Слышу, как он выдвигает ящик, в котором я держу ключи, потом открывает холодильник.
– Н-да. Я ведь с вами рядом находилась, когда вы обнаружили этот ключ в кармане Митча Барбозы, – размышляет вслух Бергер. – Поэтому подложить его вы не могли. – Это она уже вычислила. – Поскольку на месте, где обнаружили погибшего, вас не было и без свидетелей вы тела не касались. В смысле вы расстегивали мешок при нас. – Она разочарованно выдувает воздух. – А Марино?
– Не стал бы, – устало отмахиваюсь. – Он никогда на такое не пойдет. Да, возможность у него была, да это не того сорта человек. К тому же, судя по отчету с места преступления, он даже не видел тела Барбозы. Его уже погрузили в труповозку, когда капитан приехал в Мосби-Корт.
– Значит, либо это сделал один из полицейских прямо на месте...
– Либо, что вероятнее, – заканчиваю за нее мысль, – ключ подложили в карман Барбозы, после того как убили. На месте преступления. А не там, куда его подбросили.
Входит Марино с початой бутылкой «Шпатена», которое, судя по всему, оставила Люси. Не припомню, чтобы я покупала пиво. Такое чувство, что дом вообще мне теперь не принадлежит. Сразу вспомнился рассказ Анны. Только сейчас начинаю понимать, как она себя чувствовала, живя в оккупированном фашистами особняке. Вдруг стало ясно, что человека можно довести до состояния, когда он будет не способен злиться, плакать, возмущаться и даже горевать. Просто ты погружаешься в топкую муть конформизма. Будь что будет. Прошедшего не вернуть. И ничего тут не поделаешь.
– Я больше не могу здесь жить, – говорю своим спутникам.
– Вот это ты верно решила, – злобно рявкает Марино; агрессивность в последнее время стала его второй натурой.
– Слушай, Марино, – говорю ему, – хорош на меня лаять. Тут всем сейчас несладко. Злость берет, устали донельзя. Я вообще не понимаю, что происходит; но только в наши ряды замешался чужак, ясно как белый день. Он причастен к убийству двух последних жертв, которых пытали. И тот, кто подложил мертвому Барбозе ключ от моего дома, намерен повесить эти убийства на меня. Или скорее всего подать весточку.
– Мне тоже кажется, что это предупреждение, – говорит полицейский.
Я чуть было не спросила его, где в последнее время обретается его сын.
– Ваш дорогой сын Рокки. – Бергер сказала за меня.
Пит заливает в глотку пива, отирает рот тыльной стороной ладони. Безмолвствует. Прокурор бросает взгляд на часы и обращается к нам:
– Ну что ж, с Рождеством, пожалуй.
Глава 30
К Анне я приехала почти в три утра. В доме темно и тихо. Она заботливо оставила свет в прихожей, а на кухне хрустальный бокал с плоским донышком и бутылку «Гленморанжи» – на случай, если мне понадобится успокоительное. В столь ранний час воздерживаюсь. Я отчасти мечтаю, чтобы Анна сейчас не спала. Пришлось побороть искушение громко позвякать посудой в надежде, что она выйдет посидеть со мной. Я до странности пристрастилась к нашим сеансам, хотя теперь и должна бы по идее мечтать, чтобы они никогда не состоялись. Направляюсь в гостевое крыло; хочется унестись куда-нибудь далеко-далеко отсюда. Правда, пережить такое состояние без Анны не получится. А может быть, мне просто одиноко и кошки на душе скребут из-за Рождества, когда я бодрствую и измождена? Нахожусь в чужом доме после того, как целый день расследовала насильственные смерти, включая и ту, в которой обвиняют меня...
На постели подруга оставила для меня записку. Беру в руки изящный, кремового цвета конверт; судя по весу и толщине, написала она от души. Одежда моя кучей валяется на полу в ванной комнате. Представляю, какой гадостью пропитана она до последней ниточки из-за того, где я была и чем занималась последние двадцать часов. К тому же, только выйдя из душа, я уловила сильный запах гари. Заматываю вещи тугим узлом в полотенце, чтобы забыть о них, пока не отправятся в чистку. Надеваю добротную ночную рубашку из плотной ткани, какие любит Анна, ложусь в постель и беру письмо. Не терпится его распечатать. Открываю конверт и разворачиваю шесть плотных листов особой почтовой бумаги с водяными знаками. Начинаю читать, буквально принуждая себя не торопиться. Анна – человек обстоятельный, она хотела, чтобы до меня дошло каждое ее слово, потому что на ветер их не бросает.
Дражайшая Кей!
Как дочь войны, я усвоила, что истина не обязательно правильно, хорошо и самое лучшее. Если в дверь вашего дома стучались солдаты СС и спрашивали, нет ли в доме евреев, вы не говорили правду, даже если их и прятали. Когда офицеры из дивизии «Мертвая голова» оккупировали наш австрийский дом, я не могла сказать правду: как сильно я их ненавижу. Когда эсэсовский офицер ночь за ночью ложился со мной в постель и спрашивал, нравится ли мне то, что он делает, я тоже не говорила правды.
Он отпускал сальные шуточки и шипел мне в ухо, изображая, с каким звуком впускают газ в камеру с евреями, а я смеялась, потому что мне было страшно. Иногда из концентрационного лагеря он возвращался сильно подпивший и как-то раз хвастался, что лично убил двенадцатилетнего деревенского сорванца во время облавы в близлежащем городке Лангенштайн. Позже я узнала, что он солгал, а паренька застрелил Лайтштелле, полицай из Линца, но тогда я ему поверила и прониклась неописуемым страхом. Ведь я тоже была почти ребенком. Никто не был в безопасности. В 1945-м этот офицер умер в Гузене, и его труп несколько дней был выставлен на всеобщее обозрение. Я смотрела на него и плевалась. Такова была правда о моих чувствах, та, в которой я не смела признаться раньше!
Так что истина– вещь относительная. Тут все решает, какие времена на дворе. И соображения безопасности. Правда– роскошь для привилегированных, тех, кто хорошо ест и не вынужден прятаться, потому что он еврей. Правда может разрушить чью-то жизнь, а потому говорить ее не всегда мудро и порой вредно для здоровья. Странно слышать такое из уст психиатра, да? Но у меня есть на то причина, Кей, надо преподать тебе этот урок. Когда ты прочтешь мое письмо, обязательно уничтожь его и никогда не признавайся, что оно вообще существовало. Я хорошо знаю, что ты за человек, и подобная мелочь дастся тебе с трудом– ведь ты не любишь врать и таиться. Если спросят, ничего не говори о том, что я тебе здесь поведала.
Я бы не смогла жить в этой стране, если бы стало известно, что моя семья давала пищу и кров эсэсовцам, пусть далее и не по велению сердца. Мы поступали так ради выживания. И еще я думаю, тебе сильно повредит, если люди вдруг узнают, что твоя лучшая подруга– нацистка, как меня наверняка окрестят. Ох как ужасно так называться, особенно если ненавидишь их, как я. Я еврейка. Отец мой был наделен даром предвидения, и он очень хорошо понимал, что замышляет Гитлер. В конце тридцатых папа воспользовался банковскими и политическими связями, чтобы выправить нам совершенно другие имена и фамилии. Мы стали Зеннерами и переехали из Польши в Австрию. Я была еще слишком мала и многого не понимала.
Можно сказать, что я жила во лжи сколько себя помню. Пожалуй, теперь тебе будет легче понять, почему я не хочу, чтобы меня допрашивали на судебном процессе, и буду всеми силами этого избегать. Впрочем, Кей, я пишу это длинное письмо не для того, чтобы рассказывать о себе. Наконец поговорим о Бентоне.
Я совершенно уверена, ты не знаешь, что какое-то время он был моим пациентом. Примерно три года назад он пришел ко мне на прием. Его мучили депрессия и многие сложности по работе, о которых он не мог ни с кем разговаривать, в том числе и с тобой. Бентон сказал, что за то время, пока он работал на ФБР, ему довелось повидать худшее из худшего – самые извращенные действия, которые можно себе представить, и хотя они его ужасали и он всячески переживал, сталкиваясь с тем, что сам он называл злом, по-настоящему этот человек страха не испытывал. Бентон сказал, что злодеям по большей части он не интересен. Лично ему преступники зла не желали, и более того, им даже было приятно внимание, которое он оказывал криминальным элементам, разговаривая с ними в тюрьме. В тех многочисленных делах, которые полиция с его помощью раскрыла, он не испытывал непосредственной угрозы. Серийные убийцы и насильники им не интересовались.
Но за несколько месяцев до того, как он пришел за помощью ко мне, с ним стали случаться непонятные вещи. К сожалению, я многого не помню, Кей, однако начались какие-то странные дела. Телефонные звонки. Кто-то вешал трубку, и номер определить было невозможно, потому что соединение происходило через спутник (думаю, он имел в виду сотовый телефон). Приходили извращенческие письма, в которых ты упоминалась в самых ужасных словах. Угрозы в твой адрес. И опять же невозможно было проследить их источник. Складывалось недвусмысленное впечатление, что автор писем лично знал вас обоих.
Главной подозреваемой, естественно, стала Кэрри Грешен. Бентон все повторял: «Мы еще об этой штучке услышим». Правда, на тот момент он просто не понимал, как она могла бы звонить и отправлять почту, поскольку все еще сидела в Керби, в Нью-Йорке.
Скажу, что за шесть месяцев наших бесед с Бентоном его не покидали опасения по поводу неизбежной смерти. Отсюда депрессия, тревога, паранойя, рука сама тянулась к бутылке. Он говорил, что скрывает от тебя запои, и от всех этих проблем ваши отношения покатились под гору. Судя по тому, что я узнавала из наших с тобой бесед, Кей, дома его поведение действительно изменилось. Думаю, теперь тебе отчасти понятно почему.
Я хотела посадить его на какой-нибудь мягкий антидепрессант, но он отказался. Его не отпускало беспокойство о вашей с Люси дальнейшей судьбе, если с ним что-нибудь случится. Он рыдал у меня в кабинете. Это я предложила ему написать письмо, которое несколько недель назад тебе передал сенатор Лорд. Я посоветовала Бентону: «Представь, что ты умер и тебе представился шанс последний раз поговорить с Кей». Он так и сделал. Сказал тебе те слова, которые ты прочла в его письме.
На наших встречах я периодически наводила Бентона на мысль, что он, вероятно, знает о своих мучителях больше, чем ему кажется, и просто не решается взглянуть правде в глаза. Он колебался. Я так хорошо это помню; мне казалось, он располагает информацией, которой не может или не хочет делиться. Теперь все больше думаю, что я могла бы и догадаться. Я пришла к выводу, что все случившееся с Бентоном несколько лет назад и происходящее ныне с тобой, имеет некое отношение к мафиозному сынку Марино. Рокки вращается в кругу криминальных авторитетов и отца своего на дух не переносит. Соответственно ему ничего не стоит возненавидеть всех, кто отцу небезразличен. Неужели бывают такие совпадения? Бентон получает письма с угрозами и погибает, затем в Ричмонде оказывается этот ужасный убийца, Шандонне, и порочный сын Марино – его адвокат? А ниточка-дорожка вьется к одной страшной цели: уничтожить, растоптать всех, кого любил Марино.
На сеансах Бентон частенько упоминал некую папку под названием «По инстанции». В ней хранились те странные письма с угрозами и прочие записи, сообщения, которые он получал, и происходившие с ним непонятные случаи. Несколько месяцев я заблуждалась, полагая, что он намерен пустить ее содержимое в оборот, так сказать. Однажды я заинтересовалась названием папки, тогда и всплыло ее полное имя: «Последняя инстанция». Я спросила, что он под этим подразумевает, и его глаза застлала пелена слез. Вот в точности, слово в слово, что он сказал: "Последняя инстанция– это то место, где я в конце концов окажусь, Анна. Там все для меня кончится".
Ты даже представить себе не можешь, что со мной было, когда Люси вскользь обмолвилась – мол, так называется следственно-консалтинговая фирма, на которую она теперь будет работать в Нью-Йорке. Так что вчера вечером я была так расстроена не просто из-за фокусов Райтера. Да, мне доставили повестку. Я позвонила Люси, потому что решила, будто она должна знать, куда тебя угораздило влипнуть. И та сказала, что ее «новый босс» (Тиун Макговерн) как раз сейчас в городе, и упомянула о «Последней инстанции». Я была в шоке. До сих пор в себя не пришла, все ломаю голову, что бы это могло значить. Может, Люси знает о папке Бентона?
И опять же: могут ли быть такие случайности, Кей? Неужели она спонтанно выдумала то же самое название, каким твой бывший назвал секретную папку? Неужели все эти нити – лишь совпадения? И вот теперь некая организация под названием «Последняя инстанция» существует, расположена в Нью-Йорке, и Люси переезжает туда же. Суд над Шандонне переносится в Нью-Йорк, потому что он совершил в этом городе убийство два года назад, в то время, когда Кэрри Гризен еще сидела за решеткой в том же Нью-Йорке. Бывший кровожадный спутник Кэрри, Темпл Голт, погиб (от твоей руки) в Нью-Йорке, и Марино начал службу тоже в Нью-Йорке. И Рокки живет в Нью-Йорке.
Позволь в заключение выразить, как сильно я раскаиваюсь в том, что, возможно, косвенно причинила тебе вред. Хотя в одном ты можешь быть уверена: я никогда не скажу о тебе ни одной двусмысленной вещи, ничего, что можно было бы переврать. Я достаточно пожила на свете. Завтра, на Рождество, поеду в свой дом в Хилтон-Хед, да там и останусь, пока тучи над Ричмондом не рассеются. Поступаю я так по нескольким причинам. Я не собираюсь облегчать Буфорду или кому-то еще другому задачу– пусть попотеет, чтобы до меня добраться. Однако, что более важно, тебе надо где-то жить. Кей, не советую возвращаться к себе.
Твоя преданная подруга
Анна
Читаю и перечитываю, снова и снова. Тошно становится, когда думаешь, как Анна подрастала в ядовитом воздухе Маут-хаузена, понимая, что происходит вокруг. Мне страшно жаль, что всю жизнь ей приходилось слушать дурацкие анекдоты о евреях, узнавать о зверствах, совершенных против евреев, хотя она сама принадлежит к этой нации. И можно приводить массу оправданий ее отцу, да все же поступил он плохо и как трус. Наверняка он подозревал, что Анну насилует тот самый эсэсовец, который пил и ел с ним за одним столом, и ничего по этому поводу не предпринял. Пальцем не пошевелил.
Теперь уже пять утра. Веки отяжелели, тело гудит, нервы на взводе. Смысла нет ложиться. Встаю и направляюсь на кухню сварить кофе. Какое-то время сижу у темного окна с видом на реку, которой не видно, и перебираю в уме откровения Анны. Теперь мне более-менее ясно поведение Бентона в год, предшествовавший его гибели. Припоминаю, как временами он жаловался на головную боль от перенапряжения, а мне казалось, будто бы у него похмелье, и теперь я понимаю истинную причину его недомоганий. Он все больше отчуждался, с каждым днем усиливалась его депрессия и разочарование в жизни. В чем-то я могу его понять – скажем, почему он не стал рассказывать о тех письмах и звонках, не обмолвился о папке «По инстанции», как он ее называл. Но вот согласиться с этим не могу. Зря он не раскрылся передо мной.
Когда Бентона не стало, я разбиралась в его вещах, да ничего похожего на секретную папку перед мысленным взором не всплывает. Впрочем, из того времени мне вообще мало что помнится. Я и жила будто под землей, каждое движение давалось с трудом, и не видно было, куда я иду и откуда возвращаюсь. Когда все случилось, Анна помогала разобраться в его личных вещах. Освободила шкафы, прибралась в ящиках, а я металась по комнатам как обезумевшее насекомое, пытаясь помочь и тут же разражаясь слезами и шумными тирадами. Интересно, не находила ли она эту папку. Я знаю, ее непременно надо отыскать, если она все еще существует.
Первые солнечные лучи расцветили небо темно-синим. Я готовлю Анне кофе и несу в ее спальню. Заходить не тороплюсь, прислушиваюсь: не проснулась ли хозяйка. Все тихо. Неслышно открываю дверь в ее комнату и заношу кофе. Ставлю его на овальный ночной столик. Подруга любит спать при включенных ночниках. Комната освещена, как взлетно-посадочная полоса: горит почти все, во что можно ввернуть лампочку. Поначалу мне казалось это странным. Зато теперь начинаю понимать. Вероятно, темнота ассоциируется у нее со страхом, с воспоминаниями о том, как она лежала в своей спальне и ждала, что вот-вот в комнату ввалится пьяный вонючий нацист, чтобы надругаться над ее юным телом. Ничего удивительного, что всю свою жизнь она помогает людям решать их проблемы: ей легко понять тех, кому несладко. Она столь же много почерпнула из своего трагичного прошлого, как, по ее словам, и я – из своего.
– Анна? – шепотом зову ее. – Анна? Это я. Я тебе кофе принесла.
Она рывком встает, прищурившись, смотрит на меня; седые волосы упали на лицо и местами взъерошены.
Хотела поздравить ее с Рождеством, но вместо этого сказала просто «с праздником».
– Все эти годы я отмечаю Рождество со всей страной, а сама втайне иудейка.
Она протягивает руку и берет кофе.
– На меня спозаранку сварливость нападает, – признается Анна.
Пожимаю ее ладонь, и подруга вдруг кажется такой старенькой и хрупкой.
– Я прочла твое письмо. У меня нет слов, Анна. Только уничтожить я его не могу. Нам обязательно надо все обсудить.
Мгновение она безмолвствует. В наступившей тишине мне даже показалось, что ей полегчало. Однако тут подруга снова решила проявить упрямство; молча отмахивается, будто простым жестом можно отогнать воспоминания прошлого и то, что она поведала мне о моей собственной жизни. Ночники отбрасывают глубокие длинные тени на гарнитур от Бидермайера, антикварные лампы и холсты в ее большой роскошной спальне. Окна завешаны шторами из тяжелого шелка.
– Не надо было, наверное, все это тебе писать, – решительно заявляет она.
– Напротив, жаль, что раньше не написала, Анна.
Подруга пригубила кофе, натянув на плечи одеяла.
– В том, что случилось с тобой в детстве, твоей вины нет, – говорю я ей. – Все решал отец, а от тебя ничего не зависело. В чем-то он смог тебя защитить, а в остальном – нет. Может, и выбора-то у него не было.
Она качает головой.
– Ты не знаешь. Ты просто не можешь знать, как все было.
Я не готова возражать.
– Это такие чудовища – хуже не придумаешь. Да, у моих родных не было выбора. Папа много пил. Почти всегда был пьян от шнапса; они вместе напивались. По сей день этот запах не выношу. – Она сжимает кофейную чашку обеими руками. – Когда офицеры из командования приехали проверить филиалы в Гузене и Эбене, они навестили наш «шлосс», наш маленький уютный замок. Родители устроили пышный банкет, пригласили из Вены музыкантов, подали лучшее шампанское, изысканные блюда, и все набрались допьяна. Помню, я спряталась в спальне – мне было страшно, что кто-нибудь придет. Всю ночь просидела под кроватью, и несколько раз в комнату заходили, я слышала шаги, а однажды кто-то отдернул одеяло и выругался. Я думала о музыке и мечтала об одном молодом человеке, в чьих руках так сладко пела скрипка. Он часто на меня посматривал, и я вспыхивала. Именно о нем я думала в ту ночь, под кроватью. Человек, который создает такую красоту, не может быть злым. Так я глаз и не сомкнула.
– Скрипач из Вены? – спрашиваю. – Тот самый, с которым вы впоследствии?..
– Нет-нет. – В полумраке Анна качает головой. – Это случилось за много-много лет до Руди. Хотя, наверное, тогда я в него и влюбилась, как бы авансом, еще с ним не встретившись. Смотрела на музыкантов в черных визитках и как зачарованная слушала творимое ими волшебство. И так хотелось, чтобы они унесли меня из этого ужаса. Я представляла, будто парю по нотам и улетаю в какое-то чистое место. Ненадолго я возвратилась в Австрию еще до каменоломен и крематория, когда жить было просто, когда люди знали, что такое порядочность, веселье, ухоженные сады, гордились своими домами. Едва наступала весна и пригревало солнце, мы вывешивали из окон одеяла на гусином пуху – проветрить на сладчайшем на свете воздухе. Мы играли на холмистых травяных лугах, которые уходят будто на самое небо, папа охотился в лесу на кабанов, а мать шила и стряпала. – Она умолкает, и на лице ее читается печаль о безвозвратно ушедшем времени. – Надо же, всего-то струнный квартет, а кошмарнейшая из ночей преобразилась. Уже потом мои мечты привели меня в объятия человека со скрипкой, американца. И вот я здесь. Убежала, но не спаслась.
* * *
Робкие лучи восхода раззолотили шторы медовым отливом. Признаюсь Анне: я рада, что она рядом. Благодарю ее за все разговоры с Бентоном, о которых подруга решилась мне поведать. Кое в чем прошлое более-менее прояснилось, хотя поняла я далеко не все. Не могу проследить четкой последовательности между сменами настроения Бентона, предшествовавшими его трагической гибели. Примерно в то же время, когда он встречался с Анной, Кэрри Гризен как раз подыскивала нового партнера на смену Темплу Голту. Кэрри в свое время довелось много работать с компьютерами. Человеком она была талантливым и неотразимым, отличалась редкой способностью манипулировать людьми. Поэтому ухищрениями и уговорами так-таки добилась, чтобы ей позволили пользоваться компьютером в психиатрической больнице Керби. Вот так она раскинула сети, получила возможность общаться с миром. Связалась с неким новым единомышленником – очередным убийцей-психопатом по имени Ньютон Джойс, и все это посредством мировой паутины. Новый приятель устроил ее побег из Керби.
– Возможно, она и еще кое с кем познакомилась через Интернет, – подкидывает наводящую мысль Анна.
– С сыном Марино? С Рокки?
– Вот и я сразу о нем подумала.
– Слушай, Анна, ты, случайно, не знаешь, что сталось с той папкой? «По инстанции», так он ее называл?
– Никогда не видела. – Она усаживается ровнее, решив, что уже пора вылезать из постели, и одеяла опадают на ее талию. У Анны жалкие голые руки, тонкие и морщинистые, будто из них выпустили воздух; впалая грудь под черным шелком. – Помнишь, мы разбирались в его вещах? Так вот, тогда мне папка не попадалась. Зато к его кабинету я касательства не имела.
Это я и сама помню.
– Нет. – Анна подтягивает одеяло и опускает ноги на пол. – Я и не сунулась бы туда. Такие вещи не по моей части. Тут дела профессиональные. – Она встает из постели и накидывает халат. – Просто я думала, ты их сама пересмотришь. – Устремляет на меня внимательный взгляд. – Ты ведь добралась до них, да? И в Квонтико у него наверняка был свой кабинет или рабочий стол. Хотя к тому времени он уже ушел в отставку, и значит, все вычистил, я полагаю?
– Да, там все уже разобрано.
Мы направляемся на кухню.
– Может быть, и остались файлы по делам, которыми он в свое время занимался. В отличие от многих своих сотрудников, увольнявшихся из ФБР, Бентон не считал результаты работы своей собственностью, – уныло добавляю я. – Так что наверняка знаю, что из Квонтико он ничего не забирал. А вот что мне доподлинно неизвестно, так не оставил ли он папку «По инстанции» только в Бюро. И если так, можно о ней с тем же успехом забыть.
– Но ведь это была его собственная папка, – подчеркивает Анна, – с личной корреспонденцией. Когда Бентон мне рассказывал, он ни сном ни духом не ведал, что все с ним происходящее каким-то боком касается Бюро. Похоже, он воспринимал угрозы и полуночные звонки как нечто личное. Не скажу, делился ли он с другими агентами. Страдал навязчивыми страхами, всего боялся – и в основном потому, что угрозы были направлены и на тебя. По-моему, я вообще единственный человек, кого он посвятил в свои проблемы. Уверена. Я много раз ему говорила, что лучше бы рассказать все в ФБР. – Анна покачала головой. – Но он как уперся...
Выбрасываю в мусор спитую крупку из кофеварки и чувствую укол старой обиды. Бентон сколько всего от меня скрывал.