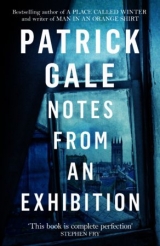
Текст книги "Заметки с выставки (ЛП)"
Автор книги: Патрик Гейл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Кинотеатр гордился тем, что оставался одним из самых старых кинотеатров в стране, построенных специально для своей цели и именно для этой цели использовавшийся. К сожалению, и ему пришлось обхаживать идущую на убыль аудиторию, разделив первоначальный зрительный зал на три и тем самым утратив большую часть архитектурного очарования.
Тому, кого ставили во вторую смену, нужно было пропылесосить фойе и весьма поверхностно – все три студии. У Хедли это была самая нелюбимая часть работы. Когда включалось освещение зрительного зала, чтобы подобрать всю грязь и бумажки из-под мороженого, все помещения выглядели особенно скверно – становилась заметным дешевизна гламурных портьер и ветхость бархатных сидений. В самом маленьком зальчике стоял ужасный запах, который невозможно было убрать ни пылесосом, ни освежителем воздуха. Будто закрепляя драпировку ткани, маскирующей звукоизоляцию, заодно пришпилили и дохлую зверушку… или же кто-то скончался во время сеанса, и так и оставался ненайденным, пока его физиологические жидкости впитывались в одно из сидений. Преимущество работы – возможность смотреть каждый новый фильм даром – быстро иссякло, и он сомневался, что это место сохранит хоть какую-то магию для него, если он вернется туда, купив билет.
К собственному удивлению, Хедли обнаружил, что ему нравится та часть работы, где приходится иметь дело с публикой. Он всегда считал себя застенчивым и неловким, типичным сыном школьного учителя, со слишком правильной речью и слишком послушным, чтобы не выделяться. Повод говорить с людьми, пусть это даже было всего лишь: «Приятного просмотра» или «малый, средний или большой зал?» – придавал ему уверенности в себе. Люди приходили сюда в поисках счастья или убежать от чего-то, и это было заразительно. Он вдруг обнаружил, что не пытается сделать свое произношение более грубым, как обычно поступал, наоборот, он позиционировал себя как своего рода добродушного хозяина или жизнерадостного молодого священника. Он играл свою роль – у него был повод говорить – и видел, что люди отвечают, если он ведет себя слегка игриво, возможно, потому что билетная стойка между ними режет его пополам по талии, и лишает его сексуальности так же эффективно, как это сделала бы тупая униформа.
Когда шел детский фильм, он получал удовольствие, ловя взгляд измученных матерей и подтрунивая над ними, пока они не улыбнутся. С мужчинами было сложнее, кроме тех случаев, когда они приходили в кинотеатр одни. Тогда они бывали на удивление разговорчивы. Если они оказывались красивыми, ему нравилось быть особо услужливым, обращая их внимание на то, что лучше сесть в задних рядах – когда фильм был очень громким. А если фильм оказывался очень длинным и шел без перерыва, он напоминал о том, что наверху есть лицензированный бар. Во встречах с красавцами присутствовала грусть, ибо для кинотеатров, в отличие от пабов и пекарен, было вполне естественно, что мало кого из посетителей можно считать постоянным, и – если не брать в расчет пенсионеров – вряд ли кто-то собирался вернуться в течение недели или около того.
Поскольку шли пасхальные каникулы, показывали целых два детских дневных сеанса – в час тридцать диснеевский мультфильм прошлого года «Черный котел» и в два «Молодого Шерлока Холмса». Дети всегда покупали уйму конфет, напитков и мороженого – он был уверен, что именно это и есть главный источник доходов кинотеатра – так что все витрины и холодильники приходилось пополнять после каждого захода посетителей. Затем до пятичасовых сеансов ему нечего было делать, только сидеть за своим прилавком, время от времени продавая билет пожелавшим купить его заранее и наблюдая за проходящими мимо окна покупателями на Косвейхед[16]. Имелось в виду, что из этого раздвижного окна он будет продавать мороженое. Но дирекция не предлагало ничего, что нельзя было найти дешевле в кооперативном магазине, да еще и погода не была достаточно теплой для мороженого, которое пока что привлекало лишь посетителей кинотеатра. К тому же, Хедли мало что делал для привлечения клиентуры, поскольку и так за день сталкивался с достаточным количеством невоспитанных поганцев, протягивающих липкие монетки. Окошко было маленьким, людей слишком отвлекали киноафиши, висевшие дальше вдоль здания, и посему этому окошку много внимания не доставалось. Никто и думал заглядывать в него, а он мог глазеть безнаказанно.
Из толпы появился молодой человек с уиппетом на поводке. На нем была замшевая спортивная куртка, как раз такая, о какой мечтал Хедли, и у него были короткие волосы, именно поэтому у Хедли ушло пару секунд на то, чтобы узнать Троя Янгса. Когда он видел Троя в последний раз, у того все еще была пышная шевелюра в духе «новых романтиков»[17], потому что он подражал Саймону Ле Бону[18] при стесненном бюджете. Его новый имидж был большим шагом вперед. Он постучал по стеклу и Хедли раздвинул створки.
– Привет?
– Трой! Как дела? Классная куртка.
Хедли действовал в рабочем режим и забыл притушить свой энтузиазм, чем Трой был несколько ошарашен.
– Чего? Ой. Спасибо. Ага, ну да, Венн сказала, что ты будешь тут.
У Морвенны была давняя интрижка со Спенсером, младшим братом Троя, еще более сомнительным типом. Никогда не переходившая в отношения, никогда не иссякавшая полностью, эта история уходила корнями в ее поздне-подростковый бунт. Он рассматривал ее как шикарную подружку, способную украсить собой его новое авто, она рассматривала его как источник незатейливых развлечений. Она утверждала, ему нравится, что у нее нет никаких романтических ожиданий. Но Хедли подозревал, что правда в следующем – Спенсер думал, дескать, она просто слаба на передок.
– Ну как там Кирсти? Как взрослая семейная жизнь?
– Не получилось, – сказал Трой. – Не вышло, вот так вот.
– Ой, прости.
– Да ну. Чего там. Бабы, Хед. Что тут поделаешь. У нас завтра вечером небольшая вечеринка.
– Да?
– Может, захочешь прийти? Спенсер пригласил Венн, а она сказала, что ты пока здесь…
– Ну да. Конечно.
Хедли вспомнил, что нужно быть крутым и не спрашивать, когда приходить и нужно ли принести бутылку.
– Заметано.
Трой не улыбнулся. Он никогда не улыбался. Это была его фишка – не улыбаться.
– Тогда увидимся.
– Ну да. Пока.
Хедли закрыл окно. Для двухчасового сеанса все было сделано – мультфильм, реклама, трейлеры и сам фильм уже начался. Так что билетерша Кэнди вернулась в фойе, где она любила взобраться на высокий стул, чтобы оттуда разглядывать проходящих и покуривать, если рядом не было хозяина, который мог бы ее увидеть.
– Кто это был? – спросила она.
Она почти никогда не снисходила до разговора с ним, решив, что он слишком заносчив, или слишком молод, или слишком гей, чтобы заслуживать ее внимания.
– Трой Янгс, – сказал он.
– Что? Брат Спенсера?
– Ну да.
– Ты давно его знаешь?
– С детства. Еще со школы. У них бывают неплохие вечеринки.
Он почувствовал, что сильно вырос в ее глазах Кэнди и принялся начищать хромированный билетный автомат, наслаждаясь тем, что не дает ей больше информации и в кои-то веки сам игнорирует ее. У нее был невзрачный маленький ротик, похожий на крысоловку, и свои сигареты она гасила с жеманным видом, тем самым давая понять, что, по ее мнению, курение Lambert & Butlers делает ее более интересной. Петрок, который был неиссякаемым источником сплетен из низов общества – у него были друзья из Тренира[19], говорил, что у Кэнди трое детей от троих разных мужчин, и что она во всех смыслах весьма известная потаскуха.
Хедли захотелось позвонить Морвенне и посплетничать, но он знал, что для этого ему придется быть более честным, чем он готов. Кроме того, по их телефону можно было принимать только входящие звонки, поступавшие прямо на автоответчик, который долго и нудно с энтузиазмом излагал программу фильмов на неделю. Потом он вспомнил, что Морвенна подослала Троя, чтобы тот лично пригласил его, тогда как могла запросто передать приглашение сама. Возможно, это подтверждало то, что она знала больше, чем показывала.
Она начала проводить время со Спенсером Янгсом – она гнушалась называть это встречаться – пока бездельничала пару месяцев, прежде чем начать заниматься в Лондонской школе экономики, ей тогда было восемнадцать, а Хедли – шестнадцать. Обычно Спенсер забирал ее в своей машине и отвозил на захудалую ферму своего отца, но иногда заходил в дом – от макушки до пят незваный плохой парень, и проводил пару часов в комнате Морвенны, где у них музыка орала с такой силой, что Рейчел начинала стучать в пол мансарды или вылетала из дома и неслась в студию, или же мчалась к Джеку, где метала громы и молнии, вопя, что если Морвенна забеременеет и в конечном итоге окажется в Тренире вместо того, чтобы учиться в Лондонской школе экономики, то это ее дело.
У Морвенны в комнате не было камина, поэтому они, чтобы покурить косячки, обычно оккупировали комнату Петрока и Хедли, пуская дым в трубу. Посему Спенсер решил, что Хедли правильный пацан и поручил Морвенне привести его с собой на следующую вечеринку в Босвиггане, что включало чудовищно рискованную ложь о посещении совершенно невинных друзей, которые на самом деле отдыхали в Бретани.
Вот так Хедли познакомился с Троем, фактически бросившим школу задолго до того, как Хедли стал достаточно взрослым, чтобы обратить на него внимание. Старший брат Спенсера, на внушительные пять лет старше чем Хедли, был худощавым, тогда как Спенсер был коренастым. У него были рыжеватые светлые волосы, высокие скулы и прямая линия рта. Он улыбался так редко, что по слухам, это было из-за кривых зубов, таких же, как у его кумира Дэвида Боуи. Несмотря на прическу в стиле Duran Duran, которую он в то время отращивал, похож он был на сексуально озабоченного хорька. С удивительной отвагой, возможно, порожденной его помешательством на Боуи, он поставил всех в известность, что он бисексуал. Чему никогда не было никаких доказательств, не было ни одного живого свидетеля, но также не было и постоянной подружки. А поэтому такое откровение или же слух успешно придавали ему дразнящий аромат утонченности, который каким-то образом нейтрализовал убогую бедность на грани с нищетой, в которой жили Янгсы.
Нельзя сказать, что Трой выделял его – он никогда бы не сделал чего-то настолько очевидного – но Хедли редко когда заходил в Босвигган без того, чтобы Трой не нашел минуту-другую остаться с ним наедине. Иногда и дольше, если все вокруг пили и не обращали внимания. В своей невозмутимой манере, как бы заинтересованной-но-в-то-же-время-не очень, он отводил Хедли в сторонку и вызывал на откровенность, выспрашивая о нем самом, о том, чем он отличается от братьев, не уточняя, каким образом. Они говорили о гнете семейных ожиданий, об отсутствии личной жизни и о том, где они бы предпочли жить вместо Пензанса.
И именно Трой небрежно со словами: «Не утруждай себя возвратом. Я перечитывать не буду», передал ему потрепанный экземпляр «Танцора с бала»[20], которую, по его словам, ему дал какой-то чувак в поезде.
Роман был гомосексуальным. Полностью и откровенно, таким голубым, что только в ящике под замком прятать.
Хедли было бы сложно кратко сформулировать сюжет, даже когда книга была свежа в его памяти, потому что казалось – почти вся она только о вечеринках и ночных клубах. Но она вызывала в воображении другой мир, мир укуренный, полуподпольный гедонистический мир Нью-Йорка, где непостоянная толпа мужчин впадала в похоть, танцевала и носила прекрасные одежды, а время от времени влюблялась со страшной силой. Она могла быть предназначена, чтобы привить стремление к жизни большого города провинциальным скрытым гомосексуалистам, слишком робким даже для устройства на работу уборщиком на кухне, где-нибудь в итальянском отеле. Возможно, именно так оно и было.
Из-за ужасного отпуска на полуострове Гауэр у него не было возможности поговорить с Троем о книге в течение нескольких недель, и когда, наконец, он смог это сделать, Трой повел себя ужасно неопределенно и рассеянно, пропуская мимо ушей, если не считать легкого пожатия плеч и слов: «Оно конечно, но все-таки как-то слегка голубовато, да ведь?» Так что Хедли недоумевал – а не был ли Трой на удивление тупым и может, он прочитал книгу, не понимая, о чем она, и передал книгу ему, еще меньше понимая всю значимость этого жеста.
Но как-то раз, когда Морвенна прервала диванный серфинг, исчезла куда-то со Спенсером и поблизости ее не было видно, он принял предложение какой-то девицы затянуться ее косячком и после нескольких минут под кайфом обнаружил, что девушка покинула его и ушла танцевать, а вместо нее рядом оказался Трой… и все пошло вразнос…
Оглядываясь назад, вероятно, именно так бисексуальность Троя стала секретом полишинеля. Разговаривали они недолго, потому что скоро появилась полиция, выражая недовольство по поводу шума, и Морвенна настояла на том, чтобы они ушли, но Хедли наговорил достаточно, чтобы проснуться с беспокойными мыслями о том, что Трой теперь расскажет всему свету. Или, по крайней мере, Спенсеру, который расскажет Морвенне.
Однако так ничего и не было сказано, и когда он снова там появился, оказалось, что Трой был переполнен вопросами. Ну, так на что это похоже быть на самом деле геем? Как это ощущается? Что он собирается со всем этим делать, ведь он же, это самое, не просто бисексуал, как Трой? Все эти вопросы били в самую сердцевину подростковой безнадежности и неуверенности Хедли.
Но потом, как-то раз, когда он был достаточно пьян, чтобы позже все начисто отрицать, Трой сказал: «Можешь меня поцеловать. Если хочешь. Просто посмотреть, как оно, ну это самое». И они вышли поврозь, через несколько минут друг за другом, и направились в самый большой пустой сарай, спотыкаясь в темноте о Бог знает что, и целовались и целовались. Не разговаривали, не трогали друг друга – Хедли не осмеливался без поощрения – просто поцелуи. А потом кто-то вышел во двор из дома и Трой занервничал и ускользнул.
Это происходило еще три раза, опять же в сарае, и никакой больше преамбулы от Троя, кроме бормотания, «Ну ты… это самое?» и еле заметный кивок лица сексуального хорька на дверь во двор.
Обычно Хедли отправлялся домой, чаще всего пешком, со щеками, горящими от щетины Троя, более обеспокоенный тем, что от него разит Блю Стратосом, любимым одеколоном Троя, нежели тем, что кто-то может унюхать исходящий от него запах дури или пива. И радостно возбужденный, причем его состояние никак не было связано с человеком, с которым он целовался, а целиком и полностью с будущими возможностями, которые, казалось, стали немного ближе.
А затем Морвенна начала заниматься в ЛШЭ, и Энтони, в чудовищно неловком коротеньком обмене репликами на лестнице, сказал: «Я хочу, чтобы ты больше не ходил в Босвигган без Венны, она хоть присматривала за тобой». А через несколько дней, когда они шли в школу, Петрок проговорился что Кирсти Спирс, старшая сестра одного из его дружков, обручилась с Троем Янгсом. И что ее семья была категорически против, потому что на нее возлагались определенные надежды, но что, так или иначе, это все произойдет. А потом Морвенна решила, что она влюблена в кого-то в Лондоне и некоторое время вообще почти не показывалась дома.
Зрители часового сеанса вышли, неся за собой порыв сладостного послевкусия волнения и спертого воздуха с ароматом искусственных фруктов. Хедли вежливо улыбался на случай, если кто-то посмотрит в его сторону, а Кэнди сидела, плотно обвив ногами ножки стула, будто мимо нее шныряли крысы, а не дети. Затем она звонко пришлепнула одну резиновую перчатку на руку, сползла со стула, обошла зал, откуда только что все вышли, и побросала самый заметный мусор в мусорный мешок. Хедли проводил последнего ребенка и подпер открытые двери, чтобы впустить с улицы свежий воздух, а затем снова отступил за свою стойку. Кэнди вернулась в фойе, закинула наполовину полный мешок с мусором в закуток за холодильником, стоявшим неподалеку от двери, где и курила сигарету, наблюдая за поздними покупателями с чередующимися выражениями презрения и полного безразличия, которые четко демонстрировали, как именно она, должно быть, выглядела в возрасте Петрока, трое детей и трое отцов тому назад. Она сплющила окурок, аккуратно притоптав его носком, а затем вернулась к своему месту на стуле.
Она притворилась, что читает брошюру киноклуба, а затем спросила как бы невзначай.
– Трой Янгс, говоришь?
– А?
– Правда, что он двустволка?
– Поговаривали, что так, – сказал ей Хедли. – Но это все вранье.
– Правда?
Она оживилась и машинально коснулась волос.
– Ты точно знаешь? А то моя подруга им очень интересуется.
– Да голубой он, – сказал ей Хедли. – Вот так-то. Целиком и полностью гей. Кирсти Спирс порвала с ним, потому что у него не получалось, ну ты понимаешь, удовлетворить ее.
– Ой, – пискнула она, обескураженная самым комичным образом.
– Но все-таки, – небрежно бросил он, когда первые зрители появились на пятичасовом сеансе «Милашки в розовом»[21], – что одна девица потеряла, может стать счастливым случаем для какого-нибудь парня.
ЧАША С ЛЯГУШКОЙ ЭПОХИ МИН
(1961)
Масло на доске
Эта миниатюрная картина, датируемая первыми годами замужества Келли, когда нехватка средств заставляла ее многократно использовать свои материалы, написана на обороте более крупной работы (художник неизвестен), которую она распилила на части. На других фрагментах той же работы были написаны «Чаша со сливами» (1961) и «Бутылка из-под молока с полевыми цветами» (1961). На картине мы видим внутреннюю поверхность блюда раннего периода правления Ваньли, относящегося приблизительно к 1580 году, где изображена жаба – не лягушка – сидящая среди растений и, предположительно, в рое головастиков. Такие фарфоровые блюда изготавливались в конце эпохи Мин для экспорта на японский рынок. Совершенно непохожее на ее дальнейшие работы, это произведение демонстрирует не по годам зрелый академический талант. Внимательное изучение игры света на поверхности чаши выявляет искаженные образы пары, стоящей между чашей и близлежащим подъемным окном. Возможно, Чаша с лягушкой эпохи Мин представляет собой осторожный шаг к живописи с ярко выраженной коммерческой и декоративной концепцией. Вне всякого сомнения, Келли сохранила неосознанное восхищение изысканными натюрмортами Уильяма Николсона в тот период, когда они полностью вышли из моды в сравнении с абстрактными творениями его сына, Бена, и произведение Келли можно трактовать как дань уважения Уильяму Николсону. Нет никаких сведений о том, что Келли когда-либо обладала или имела доступ к такой ценной керамике, поэтому предполагается, что она работала либо по открытке, либо по памяти. Поразительно похожая чаша являлась частью коллекций Оксфордского Эшмоловского музея, пока не была случайно разбита в 1970 году.
(Предоставлено ректором и членами Совета колледжа Крайстчерч, Оксфорд)
Они обменялись письмами. Вначале Гарфилд написал Саймону Шепарду, приложив фотокопию письма Рейчел и пояснив, что Рейчел недавно умерла, и что он хотел всего лишь встретиться, и больше ничего.
«Я вполне понимаю, насколько неловким все это представляется вам, – писал он. – И что вы можете пожелать не иметь со мной ничего общего. Однако, мне представляется, что вы испытываете такое же любопытство, как и я. Я полагаю, что у вас, вероятно, есть своя семья и, возможно, вы предпочтете не знакомить меня с ними или каким-либо иным образом поставить их в известность о моем существовании». Подумав, он приложил свою довольно свежую фотографию, сделанную Лиззи во время прогулки на лодке друга. Конечно же, она мало что о нем говорила, кроме того, что ему сорок с небольшим, что он способен на улыбку, имеет хорошие зубы и все волосы целы, но он надеялся, что это фото сможет сделать полученное письмо менее тревожным. По крайней мере, письмо не будет выглядеть творением человека с причудами. Открытка пришла почти сразу. На ней был какой-то фарфоровый экспонат из Эшмола.
В настоящее время мой отец недоступен для переписки. А также вероятно, что сознание его слишком помрачено, чтобы понять, кто Вы такой. Вы можете прийти и взглянуть на него, когда Вам удобно. Мы никогда не выходим из дома, но послеобеденное время лучше всего, от четырех до шести часов. Искренне Ваша, Ниоба Шепард.
Казалось, что на Сент-Джонс-стрит этот дом оставался единственным, который не был восстановлен и о котором за последние годы не позаботились. Гарфилд нашел Саймона Шепарда в интернете и обнаружил, что тот был искусствоведом, который не опубликовал ни одной статьи в течение двадцати лет и ни одной книги лет за тридцать. Он нашел экземпляр монографии, соотносящей Уччелло с иранским художником того же периода, и попытался прочитать ее в поезде, но книга самым обескураживающим образом предполагала наличие эрудиции у читателя, в ней не было иллюстраций и, казалось, что там больше сносок чем текста. То, что ему удалось узнать, привело к ожиданию строгости и элегантности. Когда-то этот дом обладал и тем и другим, но теперь выглядел жалким, даже подозрительным. Дизайн дверного молотка тусклой латуни был странноватым, возможно, масонским – как бы треугольник, подвешенный к глазу. Краска цвета ржавчины так сильно отслаивалась от двери, что кое-где обнажались пятна почерневшей древесины. Он постучал слишком энергично и большая чешуйка краски, трепеща, слетела на землю.
Дверь открыла остроносая женщина средних лет, бросил на него один-единственный взгляд и воскликнула: «О боже! Извините. Даже после фотографии это все равно потрясение. Лучше заходите».
– Благодарю.
Он вошел в мрачную прихожую. Пахло газом и сыростью, и он заметил, что на женщине было две кофты. По ее лицу промелькнула быстрая улыбка, никак не раскрывавшая ее истинных чувств.
– Я Ниоба Шепард, – сказала она. – Мой отец наверху.
Его сводная сестра. И она сказала: мой отец не наш или ваш. Дабы ничего не упустить, ум Гарфилда работал так усердно, что говорить ему было трудно.
– На вашем месте я бы пальто не снимала, – заметила она. – Бойлер снова не работает, а единственный камин только у него. Я только что заварила чай. Выпьете чашечку?
– С удовольствием.
Он последовал за ней на кухню. Кухня была похожа на рекламу 1952 года и, по всей видимости, с тех пор ее не ремонтировали. Стены были неприятного лимонного цвета. Разорванные шторы были украшены лихорадочным «кухонным» орнаментом из баночек для специй и лавровых листов. Там стояла газовая плита, которую нужно зажигать длинной зажигалкой на засаленном шланге. Рядом с плитой выстроились шкафчики с перекосившимися фасадами, стеклянные полосатые дверцы скользили в забитых крошками желобках, вычистить которые было уже невозможно. В блюдце на полу лежала недоеденная сардинка, рядом в другом блюдце – немного желтеющего молока. В углу со стула, покрытого одеялом, огромный серовато-белый кот сверкал желтыми глазами, лишенными малейшего намека на учтивость.
Стол был едва виден под толстой машинописной рукописью и множеством открытых обувных коробок, заполненных маленькими карточками. Чтобы сесть, он снял со стула одну завалявшуюся карточку. Ее меленьким почерком было написано: Слейтер, Монтегю и дальше список с номерами страниц. Она взяла у него карточку с приглушенным «Так и знала, что не потеряла ее» и засунула в одну из коробок. Затем налила ему кружку чая.
– Не слишком крепко? – спросила она.
Чай был чуть теплый.
– Нормально, – заверил он. – Как раз чтобы взбодриться.
Она села напротив и нашарила под страницами рукописи, которую она уже перевернула, пакетик с имбирными орешками.
– Занимаюсь составлением указателей, – пояснила она. – Это означает, что я могу работать из дома и сэкономить плату кому-то за то, чтобы быть здесь.
– А, понятно. Интересно.
– Не очень. В общем и целом со скучными книгами легче работать. Если мне присылают книгу, которая угрожает быть интересной, мне приходится читать ее задом наперед, чтобы не оказаться слишком втянутой, тогда я не смогу сделать работу должным образом.
Она снова посмотрела на него и коротко рассмеялась.
– Вы действительно удивительно похожи на него.
– В самом деле? А Вы?
– Совсем не похожа. Я пошла в мать.
– А она…?
Она покачала головой и обмакнула печеньице.
– Она умерла много лет назад. Вам ведь сколько – сорок?
– Сорок один, – сказал он.
– Значит, она умерла, когда Вы были еще младенцем.
– Когда Вы уже были ребенком?
– Я прилично старше Вас. – Она нервно кашлянула. – К счастью, он всегда был очень независимым. До самого недавнего времени.
– Вот как.
Они оба отхлебнули противный чай.
– Вы, наверное, хотите сейчас с ним увидеться, – внезапно сказала она, как раз тогда, когда он выпалил: «Должно быть, мое письмо стало для Вас шоком».
Каждый из них извинился и жестами изобразил нет, только после Вас. Затем она сказала: «Не особенно. Вы не первый».
– В самом деле?
– Он, кажется, был необычайно плодовит, – продолжила она, – и так же необыкновенно небрежен.
Слышался ли в ее речи его голос? Этот невозмутимое, суховато удивленное чувство превосходства?
– У нас есть три сводных брата, – добавила она. – Это то, что я знаю. Двое других моложе Вас. Оба американцы. Он читал там несколько курсов лекций после смерти матери. Я жила в пансионе, а там ему прекрасно платили по сравнению с тем, что он зарабатывал здесь. Они не так похожи на него, как Вы. Но вырисовывается интересная модель поведения. Все ваши матери молчали до самой смерти, и вы все говорите, что вам ничего не нужно. Что, конечно, удачно для нас, принимая во внимание, что у нас мало что есть. Дом мы арендуем.
Скупым жестом она обвела дом и все, что было вокруг них.
– На случай, если Вам это любопытно.
– Вовсе нет.
– У нас договор на долгий срок и его практически невозможно разорвать. Помогают его пособие по уходу и пенсия по инвалидности, да и местный совет с университетом вносят свою лепту.
– А что с ним?
Она вздохнула, укладывая каталожные карточки в аккуратные стопки, и, когда она наклонила голову, он заметил у нее на голове проплешину, где-то дюйма в четыре. Она пыталась замаскировать ее, отрастив длинные волосы и закалывая их в артистическом беспорядке как раз над лысинкой, но когда она волновалась и проводила по волосам рукой – именно этот привычный жест она и сделала в настоящий момент – ее изощренная уловка неизбежно сползала в сторону.
– У него был инсульт, – сказала она. – Сначала вроде бы это было и все, он потерял речь практически полностью. Потом у него был еще один удар, и ему парализовало правую ногу. Теперь я думаю, что он просто разрушается дальше, ну и такая штука как мульти-инфарктная деменция. Раньше я понимала, что он говорит, а сейчас чаще всего идет сплошная бессмыслица. Он перестал читать или писать, а это плохой знак.
– Он встречался с другими?
– О да. Довольно долго говорил с ними обоими, и было заметно, что впечатления они на него не произвели. Вам будет с ним гораздо проще. Давайте поднимемся наверх?
Находила ли она какое-то злорадное удовольствие во всем этом? Какое-то мрачное развлечение в тщетном порыве ее сводных братьев к содержательному контакту с отцом, отсутствующим и не заслуживающим доверия? Кот со злобным урчанием спрыгнул со стула и проследовал наверх перед ними. Пока они поднимались мимо тусклых офортов, которые Гарфилд едва мог разглядеть в полумраке, звуки телевизора становились ближе. После могильного холода внизу в комнате Саймона Шепарда было душно. Качающийся тепловентилятор конкурировал с обогревателем от Вестерна. Старик в инвалидном кресле спал, голова его упала в одну сторону. У него были густые, седые волосы и более резко очерченная версия лица Гарфилда. Настала очередь Гарфилда выругаться себе под нос.
Ниоба перевела взгляд с одного на другого.
– Жуткое зрелище, правда? – сказала она. – Прямо как в последней сцене этого дурацкого фильма Кубрика. Еще чуть-чуть, и он перейдет в зародышевую стадию. Папа? Па!
Она энергично тряхнула отца.
– Еще и глухой к тому же, – объяснила она Гарфилду. – Сядь. Ну, пожалуйста.
Она приглушила громкость в телевизоре. Ее отец, их отец огляделся, моргая неспешно, точно сова.
– Па, это Гарфилд Миддлтон. Его ныне покойная мать была еще одной из твоих подружек.
На пару мгновений Саймон Шепард, казалось, сосредоточился на Гарфилде, и потом пробормотал что-то невнятное.
– Извините, – сказала она. – Я забыла имя Вашей матери.
– Рейчел Келли, – сказал Гарфилд.
– Художница?
– Да. Я думал, что сказал Вам.
– Господи. Да он должен был жениться на ней и хотя бы так заработать какие-то деньги. Вот дурак. Рейчел Келли, Па! художник-абстракционист! Знаешь? Корнуолл! Патрик Херон!
Он издал еще один булькающий звук и теперь посмотрел на Гарфилда вполне определенно.
– Ах, – вздохнула она. – Ну вот, теперь дошло. Он страстно ненавидит абстрактное искусство. Я оставлю вас двоих познакомиться поближе.
– Да, но…
Гарфилд собирался попросить ее остаться и переводить, но она была слишком деловитой.
– Вам нельзя оставаться долго, – предупредила она. – Объем концентрации у него с комариный нос, возможно, он уснет очень скоро. Я буду в кухне.
Она оставила их наедине с котом, который прыгнул к старику на колени, где, казалось, вдвое увеличился в размере и стал практически доставать ему до подбородка. Гарфилду стало интересно, где такая худенькая женщина, выглядящая оторванной от жизни, берет силы укладывать отца в кровать и помогать ему подниматься из кровати и ванной. Но теперь он увидел, что старик был еще более хрупким, чем она, так, одна оболочка. Над кроватью имелось приспособление типа лебедки, и, предположительно, аналогичная штуковина была и в ванной.
Старик все еще смотрел на него, рефлекторно поглаживая кота.
– Здравствуйте, – сказал Гарфилд. – Моя мать умерла пару месяцев тому назад. Она оставила мне письмо, в котором объяснила, что Вы мой отец, в противном случае я бы так никогда и не узнал…
Он услышал, как его объяснение затихло по-дурацки. Смутившись, он оглядел комнату.
Покраска и ковер обветшали, как и все остальное, но были там и по-настоящему красивые вещи; маленький портрет молодой женщины фламандской школы висел над камином, а позади дивана в золоченой раме был пейзаж, выглядевший французской живописью и изображавший аллею тополей. Они плохо сочетались между собой, но, возможно, представляли единственную ценность, которую отцу и дочери еще не пришлось продать. Он надеялся, что, по крайней мере, одна из этих картин уцелеет и останется Ниобе. За время их краткого, странного интервью он начал чувствовать к ней симпатию. Он бросил взгляд на телевизор.








