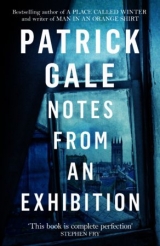
Текст книги "Заметки с выставки (ЛП)"
Автор книги: Патрик Гейл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Последовали медленно текущие молчаливые минуты. Гарфилд продолжал пристально разглядывать свои руки, отмечая, как пощелкивает печь и тикают часы, и как дышат и вздыхают все вокруг него. Наконец, женщина, которая начинала собрание, взглянула на часы, затем пожала руку соседу, и прощальные рукопожатия разбежались по комнате, как круги по воде, став сигналом к окончанию собрания.
В молчании все следили за тем, как служители похоронного бюро выносят гроб; за ними последовал Энтони, а за ним рядышком проследовали Хедли и Гарфилд, каждый из них, не сговариваясь, оставил своего спутника, чтобы пойти друг с другом. Гарфилд чувствовал, что он должен извиниться за Лиззи, но обнаружил, что непролитые слезы так прочно застряли у него в горле, что он не может говорить. «Как я тебя понимаю, – мягко сказал Хедли, и глаза у него были розовыми и маленькими, как у белой крысы. – Как я тебя понимаю».
– Ты берешь папу и Хедли, – сказал Оливер, когда они подошли к машинам. – Лиззи может поехать со мной.
– Ты знаешь дорогу? – Хедли высморкался.
– Я знаю, – ответила Лиззи.
Гарфилд видеть ее не мог, и поэтому, чтобы открыть отцу пассажирскую дверь, шагнул вперед. Казалось, Энтони как бы усох, и Гарфилд с удивлением заметил, что инстинктивно протягивает руку, повторяя характерный жест полицейского, чтобы помешать отцу, опускавшемуся на сиденье, стукнуться головой об открывающуюся дверь. Он обошел машину, сел на водительское место и подождал, пока Хедли не проскользнует на заднее сиденье. «Можно мне одну такую?» – Энтони поднял жестяную банку с леденцами, валявшуюся в автомобиле. «Конечно, – прохрипел Гарфилд. – Ценная мысль». Все взяли по одной. Конфетки были вроде как старомодные, покрытые кисленькой сахарной пудрой с пикантным ароматом, но вдруг показались самыми освежающими на всем белом свете.
– Не думаю, что многие придут потом, – сказал Хедли, когда они отъезжали, – но я на всякий случай выставил торт, чайную посуду и виски с хересом. И вскипятил пару чайников, потом их можно будет быстренько вскипятить еще раз.
Вся эта болтовня была чисто нервной, но Гарфилду на ум не пришло ничего утешительного для ответа, и слова Хедли так и повисли в воздухе между ними.
Пока они ехали за катафалком вниз по Кларенс-стрит, он увидел, как Хедли протянул руку и легонько сжал плечо отца.
В соответствии со своим экологически чистым гробом, Рейчел выбрала не кремацию, ставшую нормой в тех местах, а внеконфессиональное захоронение. В нескольких милях по дороге к Лендс-Энд некий фермер воспользовался грантами на диверсификацию и открыл крематорий, ритуальные услуги и смешанное кладбище – чтобы людей можно было похоронить рядом со своими питомцами. Его брошюра бахвалилась тем, что их оборудование позволяло кремировать любое животное, хоть размером с ломовую лошадь. Несколько лошадей уже нашли там свое последнее пристанище, а рядом с ними были зарезервированы места и для тех, кто некогда были их наездниками. На этом кладбище не было надгробий. Вместо них каждого покойника или урну с прахом предавали земле под заранее выбранным саженцем, и на могиле не оставалось ничего более постоянного, кроме как привязанной к стволу картонной этикетки. Идея состояла в том, чтобы вместо сонного тихого пространства и прямых линий традиционного кладбища заложить новую, органично разрастающуюся рощу. Но поскольку весьма немногие скорбящие согласны были довольствоваться местным неброским английским деревцем, результат вряд ли мог выглядеть естественным в ландшафте Пенвиза. По пути от парковки к могиле Рейчел они миновали несколько буков и падубов, но были там пламенеющие клены и грабы, магнолии и грустные, невысокие араукарии.
Поскольку соседом Рейчел должен был стать болотный кипарис над ирландским водяным спаниелем, который, вероятно, со временем может разрастись, они решили остановиться на чем-нибудь лиственном и колонноподобном, выбрав густоветвистый английский дуб. Деревце стояло с одной стороны ожидающей ямы в пластиковом горшке, на котором до сих пор висел ценник и инструкция по уходу от питомника, где саженец вырастили. Его длинные листья покоричневели, но пока что деревце не собиралось их сбрасывать. Похоже, они будут оставаться на ветках до самой весны, как у бука, и опадут только тогда, как им подоспеет замена. Такой вариант нравился Гарфилду, ему представлялось приятным шуршание листьев под порывами зимнего ветра. Немного шума было по нраву Рейчел.
Повторяя ритуал, который они с Оливером видели на похоронах какого-то друга, каждому приходящему Хедли раздавал из корзинки большие веточки розмарина и лаванды. Гробовщики опустили гроб в яму и отошли от нее, а все присутствующие, вслед за Энтони, стали бросать на гроб ароматные веточки. Как объяснил Оливер, это было менее грубо, чем бросать горсти земли, никто не пачкался в грязи и на руках надолго оставался приятный, навевающий воспоминания аромат. Но все равно, ощущение похорон оставалось. Да и в остальном едва ли удалось пощадить свои чувства, потому что пришлось постоять, ожидая, пока женщина на небольшом механическом экскаваторе с безжалостно откровенным стуком не сдвинет на гроб кучку земли и травы, так чтобы можно было посадить дерево. Она ловко вытащила дерево из горшка, пристроила саженец в яму и предложила Энтони лопату на случай, если он захочет символически помочь, но похоже было, что мужество совершенно покинуло его, и он всего лишь покачал головой. Его слабая улыбка была улыбкой человека, раздавленного горем.
Наступил неловкий момент, когда собравшиеся ощутили нехватку привычной церемонии и потребность в священнике. Гарфилд сделал шаг вперед и принял лопату вместо отца. Он бросил в яму вокруг деревца полную лопату земли, потом еще одну, потом продолжил, не обращая внимания на других, пока дерево не оказалось полностью посажено.
– Извините, – взмокший от пота, выговорил он женщине, – Не хотел, чтобы вы снова запустили этот экскаватор.
Женщина выглядела испуганной и приняла у него лопату обратно, не говоря ни слова, Он отвернулся, обнаружив подошедшую сзади Лиззи. Она обняла его и покачала в объятьях, приговаривая, «Ну, ну, успокойся».
– Извини, – пробормотала она, когда они обернулись, чтобы вновь присоединиться к остальным, – за то, что я там наговорила.
– Все нормально, – сказал он. – Ты сказала правду.
– Да, но ты разозлился.
– Давай не будем говорить об этом сейчас, а? – сказал он. Ему хотелось немного продлить ее состояние неловкости, но, с другой стороны, она извинилась, так что теперь любое продолжение плохих отношений было бы его виной. Никогда надолго не возлагать на себя вину было ее особым талантом.
На обратном пути в Пензанс машину вела Лиззи, он вместе с Энтони устроился на заднем сиденье, а Оливер повез Хедли и каких-то безмашинных квакеров. Пока они ехали, отец все вздыхал, так что Гарфилд забеспокоился, как бы он не начал плакать. Он пожалел, что у него нет дара Хедли вести успокаивающую болтовню. Лиззи тоже была не из тех, кто всегда готов сказать что-нибудь, даже когда сказать нечего. Это была одна из прочных нитей, связывавших их. Он вполне мог дуться дольше, чем она, но только с трудом, и часто сдавался первым, но лишь для того, чтобы обнаружить, что она и не дулась вовсе, а просто молчала. Когда они приехали в дом, он понял, что вздохи Энтони были ничем иным, как подавленной речью, потому что как только Лиззи покинула водительское сиденье и захлопнула дверцу, отец воспользовался моментом и сказал: «Давай на пару слов наедине, до того, как вы двое уедете обратно в Фалмут сегодня».
– Что, с нами обоими?
– Только с тобой.
В дом вернулось гораздо больше народа, чем он мог предположить. Несколько женщин-членов собрания, оперативно взяли на себя руководство кухней и подготовку к чаепитию. На чужом фарфоре материализовались и были нарезаны дополнительные пироги. Все это совершенно не выглядело как вторжение, но воспринималось с облегчением. Целый час, а возможно и дольше, дом был обильно населен людьми, которые беседовали, ели, мыли посуду, сплетничали, впадали в слезливость и предлагали утешение. Все, что было недосказано на Похоронном собрании, теперь беспрепятственно всплывало в разговорах. Из рук в руки переходили фотографии его матери, которых он никогда раньше и не видел. На них она выглядела моложе или как-то по-другому, вне привычной обстановки или с людьми, о которых он даже и не знал, что они были знакомы с матерью. Происходящее было приятным. Оно отдаляло тишину и мрачность, но даже так спустя некоторое время Гарфилду стало невмоготу. Он улучил момент и захватил наиболее спокойный из двух туалетов, где и оставался дольше, чем было необходимо, читая старый номер Литературного приложения к Таймс – обзор книги по истории Византии, убедительная озабоченность которой была настолько далека от его насущных забот, что чтение это было своего рода средством против зуда для страдающей души.
Джек Трескотик, семейный врач, а также старый друг Энтони, поймал Гарфилда, когда тот выходил.
– Моя старая скрипка, – сказал он. – Как думаешь, ты мог бы найти для нее покупателя? Это хороший инструмент. Не то, что ваше корейское дерьмо. Я думаю, она французская.
– Конечно, – ответил Гарфилд. – Забросьте к папе, а я посмотрю, когда буду здесь в следующий раз. Может быть, один из учеников Лиззи как раз ищет нечто подобное.
– Спасибо. Пальцы уже совсем артритные стали. И Гарфилд… То, что Лиззи говорила сегодня о том, что вы хотите ребенка… Вы хотите пройти тесты?
– Мы делали все тесты, спасибо. Все, что только можно. Полный порядок у обоих.
– Хорошо. Значит, только время.
– Да.
– Знаешь, наследственность ни в коем случае не бесспорна. С тобой все оказалось хорошо. И с Хедли тоже.
Он ничего не сказал о двух других.
– Отец Лиззи страдал депрессиями, – объяснил Гарфилд тихим голосом, потому что кто-то как раз прошел мимо них в туалет, сдержанно поприветствовав их. – Думаю, ее беспокоит возможность своего рода накопления генетических проблем. Там ведь еще и папина мама. По крайней мере, меня это тревожит. Нас обоих.
– Лично я считаю, что главное не происхождение, а воспитание. Все будет хорошо. У вас все будет в порядке.
Бодрящая беседа была специализацией Джека Трескотика, точно так же как и фармацевтическая скупость, беседа всегда предлагалась первой взамен таблеток. Джек хвастался, что в его журнале регистрации и назначений ипохондриков было меньше, чем у любого другого врача в Вест Пенвизе. «Если они не получают свои конфетки, они идут в другое место, – говаривал он. – Или так, или берут себя в руки».
Удивительным было то, что человек, самым явным образом настолько черствый и нерасположенный раздавать рецепты, мог оставаться для Рейчел таким постоянным и полезным врачом на протяжении многих лет. А в реально трагической ситуации он никогда не медлил и раздавал снотворное.
Чаепитие, поминки, как их ни назови – откуда-то появилась половина окорока, так что, возможно, это был уже ужин – длились почти три часа. Гарфилд переходил из одной заполненной народом комнаты в другую, выдерживая поток выражения теплых чувств и симпатии от скорбных взглядов, далее рукопожатия и до объятий, причем все было сдобрено разговором. У него сложилось впечатление, что всех их троих, – его самого, Хедли и отца, – на некоторое время поддерживает и защищает исполненная любви забота, под покровом которой, тем не менее, становится самую малость душновато. Разговор велся для того, чтобы им не пришлось говорить, или, что еще хуже, заплакать, но чувствовалось в нем какое-то опасение. Они, несомненно, не боялись его матери – какой бы пугающей она иногда ни бывала, сейчас испугать их было уже не в ее власти. Так что, возможно, их пугало продолжающееся отсутствие Морвенны? Или Петрока? Отсутствие Петрока оставалось больным местом, настолько кровоточащим и ужасным, не подлежащим утешению, что оно как бы пометило всю семью, и у каждого, даже у самых безмятежных и бесхитростных Друзей, оставило немного страха перед ними.
Он нечаянно услышал, как дружелюбно, но твердо Оливера и Лиззи инструктируют «позаботиться» о них, как будто каждый из партнеров мог вдруг сбежать. В конце концов, демонстрируя свой кулинарный талант, Оливер начал готовить один из своих целебных, импровизированных супов, бывших его фирменным блюдом. Сдержанный аромат жарящегося имбиря и лука послужил сигналом к уходу. Когда ушел последний из присутствовавших, Хедли сунул каждому в руку бокал бордо и, помогая Лиззи подрумянивать тосты, начал обсуждать завершившиеся поминки, будто это была обычная вечеринка: кто что сказал, кто не смог прийти, кто неважно выглядел, кого он не знал. Если Лиззи или Оливер кого-то не знали, он давал разные анекдотические пояснения, так что они с трудом сдерживались, чтобы не рассмеяться. Но вскоре зазвучал смех, и аромат тостов, – такой мрачный в его собственной кухне в день, когда она умерла, – стал бодрящим. Как он это сделал? Как мог один-единственный человек улучшить атмосферу исключительно силой воли?
Наблюдая за тем, как все сплетничали и смеялись, опираясь на буфет, знакомый ему наощупь также хорошо, как собственная поясница, Гарфилд поймал взгляд Энтони, вышел следом за ним из кухни и поднялся в хозяйскую спальню. Все сбрасывали пальто и шарфы на кровать, где прежде лежало тело Рейчел, отчего в воздухе стоял аромат другой женщины, нечто сладкое, цветочное и английское. Гарфилд глянул на прикроватную тумбочку Рейчел и виновато подумал о лекарствах и канализации.
Энтони рылся в ящике с носками, небрежно разбрасывая содержимое. Он вытащил конверт, прочитал адрес, чтобы убедиться, и повернулся к нему лицом.
– Она написала это для тебя, – сказал он.
Сколько Гарфилд себя помнил, отец всегда говорил об их матери Она. Ее личность была настолько крупномасштабной и доминирующей, что при слове «она» именно о ней думалось в первую очередь. Никому даже в голову не приходило, что он имел в виду Морвенну – даже Морвенне.
Отец протянул было конверт, но, когда Гарфилд сделал шаг вперед, чтобы взять его, Энтони отдернул конверт назад.
– Она написала это много лет назад, – сказал он. – На всякий случай. Я не хотел, чтобы она делала это, но она дразнила меня, повторяя, что Друзья всегда говорят правду, и тут она была права. Ну а потом, когда Лиззи сказала то, что сказала, я вспомнил о нем и подумал, что хорошо бы тебе, ну… Так что держи.
Внимательно наблюдая за Гарфилдом, отец протянул ему конверт.
Ее почерк ошеломил Гарфилда. Она писала и читала так мало, что едва ли о ней можно было сказать, что жизнь ее имела вербальное выражение. В ее окружении письменное слово имело такое же ничтожное значение, как и пение, и всегда поражало то, что у человека с таким острым глазом, так непринужденно владеющего мастерством искусного рисовальщика может быть такой скверный почерк. Уверенной выглядела только ее подпись, и то потому, что она долго и упорно практиковалась подписывать свои картины, отчего подпись стала фирменным знаком, своего рода пиктограммой ее личности. Человеку незнакомому могло показаться, что слова на конверте, – Мастеру Миддлтону, – были написаны отстающим в развитии десятилетним ребенком. Мастер. Значит, она написала это, когда он был еще мальчиком. На всякий случай.
Гарфилд вскрыл конверт, клей на нем почти высох от старости, вытащил письмо на одной страничке и, ощущая на себе тяжелый взгляд отца, отвернулся в сторону, чтобы прочитать его. Сначала то, что он читал, не укладывалось в голове, во-первых, отчасти потому, что Оливер позвал: «Мальчики! Ужин готов!», как раз когда он был где-то на полпути единственного абзаца, из которого и состояло письмо, написанное тонким неразборчивым почерком. Он взглянул на отца в поисках подтверждения.
– Это правда?
Энтони кивнул.
– Но я всегда думал о тебе, как о собственном сыне.
– Ты его знал?
– Чисто шапочное знакомство. Он был значительно старше. Может быть, сейчас его уже нет в живых. Не будем доискиваться, что ты мог унаследовать от Рейчел, но, по крайней мере, убрав из ситуации мою мать, можем улучшить ваши шансы. Конечно, я не могу отвечать за него и за его семью.
Энтони кивнул на письмо. На лестнице послышались шаги и нервическое покашливание Хедли. Внезапно их окутал запах тоста, изгнав аромат незнакомки.
– Я спущусь вниз, – сказал Энтони, намереваясь увести Хедли обратно на кухню. – А ты пока тут во всем разберешься.
– Не надо. Честно, – начал было Гарфилд, имея в виду, что все это не имеет ни малейшего значения, что ему совершенно без разницы, но обнаружил, что Энтони ушел, а происходящее имеет такое большое значение, что ему пришлось сесть в стоявшее в спальне маленькое тесное креслице со спинкой, украшенной пуговицами, которым никто никогда не пользовался, и прочитать письмо снова. Оно было датировано 1962 годом.
«Мой Гарфилд, – писала она. – Мой дорогой, прекрасно совершенный. Ты еще совсем дитя, тебе всего лишь несколько месяцев, так что трудно представить тебя, читающим это. Я не собиралась ничего писать, но я все думала и думала, и, как всегда, когда я беспокоюсь о чем-то, я от этого болею. Я снова немножко хворала после того, как ты родился, и вот я прихожу в себя, а тут ты, весь такой особенный. Так что я пишу это все, чтобы, по крайней мере, это все было записано, осталось только решить сказать Энтони, что я написала или же не говорить, и скажем ли мы когда-нибудь тебе или так и промолчим. Надеюсь, в один прекрасный день я сама расскажу тебе, но на всякий случай оставляю это письмо. Твой отец, твой биологический отец – не Энтони. До того как я встретила Энтони, я была увлечена другим человеком. Он красивый и умный и, насколько мне известно, достаточно богатый, но он никогда не собирался жениться на мне, что бы он ни говорил, да и все равно он был женат на ком-то еще, и я не хотела, чтобы ты родился в тесном кругу боли и вины. Потому что ты собираешься быть совершенно особенным! Но ты имеешь право знать, кто он. (Вот как квакерская правдивость Энтони сказывается на мне!) Итак. К твоему сведению. Его зовут Саймон Шепард (профессор)». Она дала его адрес на Сент-Джонс-стрит в Оксфорде и номер телефона, такой короткий, что он казался совсем древним.
Гарфилд отметил, что всякий раз, когда она писала «Энтони», она начинала писать «твой», а потом зачеркивала слово. «Энтони», а не «твой отец» или «твой папа». Так может, именно поэтому они всегда настаивали на том, чтобы оставаться Рейчел и Энтони, вместо мама и папа, хотя дети жаловались, что это выделяет их среди друзей? А вовсе не потому, что, по их утверждению, квакеры предпочитали христианские имена любым названиям или, как однажды предложил Энтони, чтобы содействовать демократическому равенству в семье. Просто они стремились избежать лжи ребенку. Сначала Гарфилд подумал, что она остановилась, не дописав имя и адрес, чтобы письмо выглядело скорее просто запиской, а не полноценным письмом. Но, когда он сложил листок, чтобы вернуть его в конверт, он увидел, что на другой стороне листка она кратко завершила свое послание.
«Будучи в настоящее время в здравом (более-менее) уме, твоя любящая мать, Рейчел Келли».
Поев супа, приготовленного Оливером, они не стали засиживаться допоздна. Энтони, одолеваемый неудержимой зевотой, был совершенно разбит и нуждался во сне, а Оливер, извиняясь, должен был вернуться в Лондон, чтобы подготовиться к открытию выставки в своей галерее на следующий день. Что-то неожиданно возбудило в Гарфилде желание заняться сексом – то ли облегчение при мысли о том, что день закончился, то ли даже непреходящее раздражение по поводу речи Лиззи на похоронах. Сначала она восприняла его порыв как своего рода терапию, как стремление закопать топор войны, и горячо отозвалась. Но вдруг она вскрикнула, что заставило его остановиться.
– Извини, – сказала она, отстраняясь ровно настолько, чтобы заставить его выйти, а мгновение – умереть. – Ты сделал мне больно. Извини.
КУПАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
(1972?)
Хлопок, нейлон и косточки
Производитель этого исключительно простого, но подчеркивающего достоинства фигуры предмета одежды с бюстгальтером на косточках неизвестен, поскольку истлели нитки, которыми был пришит лейбл. Именно в этом купальнике Келли изображена на культовом фото-портрете Джанет Боун в Санди Таймс в 1973 году (фото 25), а также и на гораздо более поздних семейных фотографиях, представленных в той же витрине, так что либо он хорошо носился, либо она нашла ему точную замену. Этот бирюзовый цвет, необычный в палитре Келли, точно воспроизведен в Нанджизал 78 (Экспонат 125) и Педне 1980 (на выставке не представлен).
«Осторожнее!» – окликнула Рейчел, но Петрок продолжал неосторожно сползать впереди нее вниз по тропинке, от которой у нее всегда начинала кружиться голова, стоило лишь отвести взгляд от собственных ног, занятых борьбой с трудностями. Зимой тропинка превращалась скорее в водопад, поскольку ручейки с полей, расположенных выше по склону, устремлялись в узкое ложе и размывали его все глубже и глубже. Теперь, в конце лета, оно превратилось в водопад иного рода, чье ложе стало ненадежной осыпью пыли и гравия, где попадались валуны как раз под такими углами, чтобы прервать падение наиболее болезненным образом.
Поскольку центр тяжести у детей расположен ниже, а знакомство с опасностью и болью остается пока еще скудным, они, как правило, предпочитали стремглав скакать вниз по тропинке с камня на камень или просто катиться на попе, что Петрок и делал, смеясь над тем, что крутизна склона и манящий пляж искушают их бежать не останавливаясь. Как-то раз Гарфилд действительно побежал и рассадил себе колено о камень так, что пришлось везти его в больницу Вест Корнуолл, сделать укол против столбняка и наложить швы, отчего день был окончательно испорчен.
Были там и другие пляжи, более доступные – особенно для маленьких детей – и такие же красивые, но этот оставался ее любимым, и она ревниво не желала делить его ни с кем.
«Я кому сказала – подожди!» – прикрикнула она, но он рассмеялся ей в лицо, а затем, паршивец эдакий, отвернулся и, вызывающе хохоча, помчался сломя голову вниз по руслу к прибрежной полосе и к последнему каменистому спуску. Борясь с головокружением, сосредоточившись на своих неподходящих тряпичных тапочках на веревочной подошве, она выругалась, поскользнувшись и ушибив большой палец ноги. Она остановилась на мгновенье, заставила себя посмотреть вверх и вперед на потрясающий вид, чтобы напомнить себе, почему она все это делает, а затем последовала за сыном более степенно, при этом корзинка с едой подпрыгивала на бедре.
До сих пор она просто пользовалась его днями рождения как предлогом, дабы урвать денек отдыха для себя, но одновременно, чтобы и он получил удовольствие. Это был первый год, когда Петрок действительно выбирал сам – подумал и выбрал. То, что он выбрал прийти сюда, представлялось ей подтверждением того глубокого понимания, которое, как ей казалось, крепнет между ними.
После рождения каждого следующего ребенка она рушилась в отвратительную пустоту депрессии, и хуже всего было с Гарфилдом. Из этой зияющей пропасти она выползала медленно, обнаруживая, что называется, готовенького ребенка, который с кротким подозрением таращит на нее глаза, а сам накрепко связан неразрывными узами с отцом. Это было ее рук дело. Ее собственное безумное потакание собственным слабостям. К тому времени Джек уже жестко поставил ее в известность о положении дел: единственным способом избежать депрессии был отказ от отмены лекарства, на чем она настаивала во время беременности. Но – и об этом она не говорила никому, даже Джеку – этот восхитительный взлет перед падением, и та работа, которую она была способна довести до конца именно в период восхождения, делало все стоящим. Возможно.
Тем не менее, с Петроком кое-что было по-другому. Вместо болезненного погружения в депрессию, она ощутила всего лишь повышенное чувство неполноценности, ощущение того, что ее мир сузился, всего лишь сконцентрировавшись на ручке ребенка в ямочках. На протяжении долгих недель она едва говорила, и младшие дети так переживали, что их пришлось отправить пожить у друзей, и все же это не было полноценной, отрицающей жизнь депрессией, как это происходило в других случаях.
По ее глубокому убеждению именно поэтому он в итоге получился спокойным ребенком, настолько спокойным, что она даже переживала, как бы он не оказался слегка придурковатым. Как всякий ребенок, он плакал, но плакал недолго, и его легко было утешить. Он не капризничал и не хныкал часами напролет как другие – тут Хедли был худшим – и успокаивался, как только его брали на ручки. Так что она обнаружила, что может брать его с собой в мастерскую и работать, а когда он начинал беспокоиться, она или укладывала его на сгиб руки, или его привязывали ей на спину в импровизированном папузе[9], сотворенном из старой занавески и одного из ремней Энтони.
Ее навыки использования расписания приливов и отливов были, в лучшем случае, непоследовательными, а пляж, с точки зрения туризма или мореплавания, был слишком незначительным для того, чтобы им кто-то специально занимался. А посему ей приходилось, опираясь на информацию для Марасиона и Сеннен Ков, как-то делать выводы или, попросту говоря, угадывать время отлива. Сегодня им повезло. Отлив ушел от берега так далеко, что обнажились три пещеры, и Петроку было где полазить, а прибой утрамбовал и выгладил пологий песчаный склон.
К тому моменту, когда она начала спускаться к пляжу, перелезая через валуны и цепляясь за старую просмоленную веревку – какая-то добрая душа захлестнула ее за металлическое кольцо, Петрок уже убежал далеко вперед, упиваясь зрелищем узоров, которые его ноги оставляли на девственно чистом песке. Помимо следов ног единственным признаком жизни была борозда, которую в последние пару часов оставил лениво проползший обратно к воде тюлень.
Петрок не был болтлив, как Хедли или Морвенна, не был он и таким сильным и молчаливым (читай: вечно угрюмым), как Гарфилд. Когда ему хотелось, он говорил, но чаще бывал слишком самодостаточен, чтобы утруждать себя разговорами. Этим он сильно напоминал Энтони, так что любить его означало любить и его отца. В душе он напоминал ей самую лучшую разновидность собаки: он резвился, но при этом всегда вполглаза приглядывал за своим хозяином. Пока он носился у кромки воды, она скинула тряпичные тапочки, которые никогда уже не выглядели как прежде с тех самых пор, как она ненароком постояла в них в грязной рыбной лавке. Она пересекла пляж и дошла до первой пещеры, где быстренько переоделась в купальник и поставила корзинку с провизией в тень, чтобы сохранить содержимое в прохладе. Даже в это сухое время года с верхней долины стекал ручей, образуя небольшие лужицы. В одну из них она опустила бутылку с яблочным соком, уповая на то, что сок остынет.
Изо дня в день и в разные времена года этот пляж претерпевал разительные перемены, что было одной из причин, по которым он был таким неповторимым. Иногда песок сносило на одну сторону, иногда – на другую. Иногда ручей вымывал в песке извилистое, глубокое и узкое ущелье, по которому обожали скатываться вниз собаки и дети. Иногда поток прокладывал себе скрытый путь под поверхностью пляжа, и его было невозможно обнаружить до того самого места, где он выплескивался в прибой. Иногда песок оказывался девственно чистым – как сегодня. А бывало и так, что на нем громоздился увлекательнейший хлам, смытый с проходящих судов: подошвы от резиновой обуви, пластиковые бутылки, ломаные ящики для упаковки. А однажды, к восторгу Гарфилда и Хедли, на пляже оказался хитроумный гальюн с какой-то яхты, состряпанный на скорую руку из туалетного сиденья красного дерева и старого стула из столового гарнитура.
Случалось, что на несколько недель подряд песок исчезал практически весь, и увидеть его можно было только с вершины утеса в виде отмели, появляющейся в широком устье залива. Тогда наружу выступало каменистое основание пляжа, завораживающий слой скругленных валунов на гранитном шельфе, отлого уходящем вниз, где так легко можно было вывихнуть лодыжку. Когда песок уходил, купаться становилось сложнее и менее комфортно, но зато имелось и преимущество – это отпугивало случайных посетителей и детей. И если удавалось найти достаточно широкий валун и постелить на него полотенце, достаточно толстое для того, чтобы заменить подушку, тогда этот пляж все еще мог сойти за вполне приличное место для раздумий и дремоты, неги в тепле, исходящем от просоленных морем глыб, под звуки ручья, журчащего где-то под ними.
– Ты идешь со мной? – спросила она Петрока. – Заплыв со старушкой мамкой в честь дня рождения?
Она уговорила его надеть плавки вместо шортов, потому что обычно он не в меру стыдливо относился к переодеванию на людях, пусть даже и в пещере. Но ему нравилось его занятие – он пытался отвести или перегородить ручей, устанавливая камни и втыкая пучки водорослей, посему он с мимолетной улыбкой только отрицательно покачал головой.
Она понимала, что следовало бы намазать его солнцезащитным кремом – у него была легко сгорающая бледная кожа, гармонирующая с темно-рыжими волосами – но он ненавидел, когда она начинала приставать к нему с пустяками, да и солнце еще не жарило вовсю. К тому же, у нее было нескромное страстное желание увидеть его в веснушках. Поэтому она оставила его в покое и заставила себя шагнуть в волны, боясь взвизгнуть или вздрогнуть от холода. Она заставила себя нырнуть, чтобы миновать то самое мгновение, когда соблазн выскочить из воды может еще пересилить, и сделала несколько гребков под водой. Когда же она, задыхаясь, вынырнула, то обнаружила, что оказалась в одном из необъяснимо теплых полос, созданных течением. Она помахала Петроку, обеспокоенно следившему за ней, и он помахал в ответ. Потом легла на спину и, с силой отталкиваясь ногами, проплыла еще несколько ярдов. Но память об уроках плавания в старших классах была слишком свежа, и вскоре она попросту держалась на поверхности как поплавок, разглядывая утесы и небо, а затем уставилась на маленький самолет, тащивший флаг с рекламой какого-то развлечения, которое они никогда не увидят. Потом она перевернулась на живот и увидела тюленя, наблюдавшего за ней с расстояния ярдов в пять, не больше, достаточно близко, чтобы она могла уловить еле слышное негодующее фырканье в его дыхании. Она замерла, держась на плаву, желая подобраться к нему поближе, хотя подозревала, что тюлени далеко не так безобидны, как кажутся. Вдруг рядом с ним появился еще один, гораздо меньшего размера и тоже уставился на нее; возможно, детеныш или просто самка? Она оглянулась через плечо на берег, надеясь привлечь внимание Петрока не спугнув при этом тюленей, но он был погружен в строительство плотины, поэтому она вернулась к тюленям и насладилась целой минутой общения с ними с глазу на глаз, прежде чем они ускользнули из вида.








