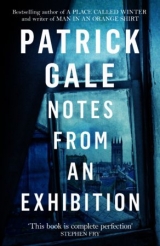
Текст книги "Заметки с выставки (ЛП)"
Автор книги: Патрик Гейл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Винни знала, что он будет просить ее спуститься вниз и присоединиться ко всем, а она будет сжиматься и уходить в себя и говорить нет, пока еще нет. Ей очень хотелось подняться наверх и поздороваться и сказать – эй, я вовсе не такая уж плохая, крепко обнять ее и купить ей билет в Торонто для долгой и приятной поездки. Даже предложить бедняжке работу, если та захочет. Но, хотя разум ее был наверху с этим раненым оленем, с которым она столкнулась по приезде, вместо этого она села с Хедли и перешла в режим консультирования. Она сказала ему, что знает, как это трудно для него, потому что всегда трудно, когда хочется помочь тому, кого любишь. А этот человек вас отталкивает, но, по крайней мере, она наконец здесь и наконец-то, по крайней мере, она в безопасности. И он крепко обнял ее, готовый расплакаться, что было мило с его стороны, потому что это ей тоже было необходимо.
Энтони снова спустился вниз, он выглядел совершенно расстроенным, и Винни подумала, что ей действительно пора оставить их, по крайней мере, на сегодня. Но тут они начали вытаскивать свои фотографии и показывать ей, а потом вдруг появился шикарный и сногсшибательный мужчина, настоящий физически привлекательный мужчина «респектабельного» возраста, оказавшийся Оливером. Последовал еще один раунд знакомств и путаное объяснение того, как Анки, которая производила впечатление особы, несколько деморализующей, внезапно настояла на том, чтобы ее высадили у аэропорта, что задержало его. И снова пили чай, и она почувствовала, что ей крайне необходимо заглянуть в ванную комнату, не столько в туалет, сколько для того, чтобы пару минут тихо посидеть в замкнутом пространстве и дать своей бедной, не выспавшейся после перелета голове шанс прийти в себя.
Когда она вышла, Энтони загружал посудомоечную машину, а мальчики куда-то исчезли. Она был заядлой ищейкой, а посему решила воспользоваться шансом для осмотра, прежде чем вновь начать общение. Наверх вела широкая лестница, очень светлая благодаря высокому, узкому окну с синим стеклом по краям, выходящему на задний двор.
А потом, конечно же, она столкнулась лицом к лицу с несколькими картинами. Она каким-то образом догадалась, что это были картины Джоэни еще до того, как увидела подпись – Р. Келли – очень похожую на Дж. Ренсом, какой она пользовалась, когда была подростком – то же греческое Е и аккуратное подчеркивание.
Она абсолютно ничего не знала о том, что, по ее мнению, представляло собой современное искусство. Во время отпуска они с Джошем, как правило, обращали внимание на здания, а не на галереи, хотя ей нравились музеи и музейные магазины. Одна картина висела над лестницей, а другая на лестничной площадке. Она видела, что на них не было ничего конкретного, кроме цветов, но цвета эти были фантастически интенсивными, вероятно, слишком интенсивным, чтобы вешать эти картины так близко друг к другу. Там был синий, как морская вода над солнечным песком и узкая полоска оранжевого, так что если встать достаточно близко, то можно почти что почувствовать тепло на лице. Через открытые двери спален она заметила несколько других небольших картин. (Дверь Морвенны – она предположила, что это ее комната – была по-прежнему закрыта крепко-накрепко). Кроме картин Джоэни, нигде не было никаких других, и Винни почувствовала, какую нелегкую жизнь ее сестра устраивала для этой милой семьи. Она натолкнулась на небольшой пролет деревянных ступенек, в сущности, на стремянку, спускающуюся с чердака на дальнем конце лестничной площадки. Она начала взбираться по ней, потом остановилась, потому что там был Хедли в объятьях Оливера, но тут они поняли, что она близко, и окликнули ее.
– Извините, – сказал Оливер. – Толком давным-давно не виделись.
– Мы смотрели картины, – сказал Хедли. – Давайте к нам, посмотрите сами. Сможете подняться?
Он протянул руку, чтобы помочь ей взобраться на последние несколько ступенек. Бог знает, как ей потом спускаться обратно вниз.
Она оказалась в как бы дозорной вышке, точно на маяке.
– Это ее студия? – спросила она.
– Одна из них. Но взгляните. Вот над этим она работала в конце.
Там было шесть картин. Оливер и Хедли расставили их неровным полукругом, что превратило маленькую комнату в своего рода часовню. Шесть кругов. Только не все они были круглыми. Один из них был шаром, подобно палящему солнцу, но другие казались менее правильными. Или, возможно, это была иллюзия? Она накладывала слои краски таким образом, что чем дольше смотришь, тем больше проявлялось цветов, пока не создавалось впечатление, будто облако открывает планеты. На одном из кругов, казавшимся сначала темно-коричневым и совершенно непохожим на холсты с насыщенным цветом на лестнице, в текстуре медленно обнаруживались бронзовые и даже пурпурные блики.
– Она говорила кому-нибудь, о чем они? – робко спросила она, опасаясь показать свое невежество. – Я хочу сказать, они на самом деле красивые, но что она все-таки пыталась здесь сделать?
– Полагаю, все, что вы сами захотите в них увидеть, – ответил Хедли, и она, все еще рассматривая картины, заметила, как рука Оливера вновь обвила его талию.
Она услышала, как открылась другая дверь, и женщина, нет – девушка, ради всего святого – Морвенна появилась у подножия лестницы.
Винни улыбнулась наименее угрожающей, как она надеялась, улыбкой. Морвенна смотрела на нее снизу вверх. На ее месте, там, внизу, так легко могла оказаться Джоэни, только Джоэни постарше и побитая жизнью, что Винни пришлось сглотнуть, прежде чем она осмелилась заговорить.
– Привет, – сказала она, все еще слегка надтреснутым голосом. – Ты их уже видела? Давай сюда, посмотри. Поднимайся.
И она протянула руку.
НОЧНАЯ РУБАШКА
(около 2001 года)
Хлопок с начесом. Кружево
Это повседневный, но уютный предмет одежды выполнен в стиле, обычном для детства Келли в 1940-х годах. Полная длина, хлопок с начесом кремового цвета, единственным непрактичным штрихом является узенькая кружевная окантовка на манжетах и по подолу, а также цветочки, нанесенные китайским синим (красителем для хлопка и натурального шелка) по кокетке. Следы масляной краски цвета умбра жженая (возможно, из Экспонатов 60–69) можно увидеть на обеих манжетах и, с четкими отпечатками пальцев Келли, спереди у подола. Она хранила верность этому стилю всю свою жизнь, утверждая, что такая рубаха достаточно теплая, чтобы послужить еще и как платье, если она проснется ночью и начнет рисовать. Более поздние экземпляры, такие как этот, приобретались у специализированной компании торговли с почтовой пересылкой.
В течение первых нескольких дней… Или недель? Она полностью утратила ощущение календарного времени. В течение первых нескольких дней или недель ей разрешалось вылезать из ночной рубашки только, чтобы принять ванну, и то лишь в присутствии медсестры на случай, если ей вздумается утопиться или помчаться голой на какой-нибудь мужской этаж.
Вещи для нее паковала мать, поэтому, конечно же, она выбрала ночнушки длинные, теплые и практичные, которые она никогда уже не надевала вместо комбинаций, купленных ею самой. Во время одного из посещений она попыталась попросить принести ей другие, но ее связали какой-то химической смирительной рубашкой, язык от этого казался таким толстым и тяжелым, что слова выходили исковерканными, точно у пьяной женщины.
– Ненавижу это дерьмо, как из «Маленького дома в прериях»[49] – думала она, что сказала, но мать только посмотрела огорченно и ответила:
– Не надо, дорогая. Не пытайся говорить. Мы можем просто посидеть здесь немного, чтобы нам было хорошо и спокойно вместе.
И она-таки была спокойной, пожалуй, впервые за долгие месяцы. За это она была благодарна наркотикам. Или шокам. Неважно. Страхи исчезли. И ребенок. Конечно, они дали ей наркотики и сделали аборт. Все знали, что так всегда делают. И с порочными дочерями, и с беспутными незамужними сестрами. Так гораздо проще, чем отсылать их к тетке в Уолтаун, Британская Колумбия, или куда угодно. Так что, если им нужно было что-то сказать, то они могут сказать, что она отдыхает в Кларке, у нее нервы.
«Такая умная девочка, но нервы иногда сдают».
Попасть в Кларк было уже не так позорно как раньше. Там бывали очень даже толковые люди. Мальчик Баттервортов, старший из Клейторнов. Даже Анжела О'Хара, эта светская звезда.
Она с облегчением избавилась от него, от этой чудовищной штуки. Когда он перешел от разговоров с ней во сне к шипению своих отвратительных предложений через материал платья и любое количество слоев в часы бодрствования, она впала в отчаяние. Травка не помогала, она попыталась смешать ее с выпивкой. И посмотрите, куда это завело. Но ей нужно было, чтобы они были с ней честными.
Как только они ее зашили и связали, и сделали переливание, чтобы заменить то, что она потеряла, прежде чем посадить ее в химическую смирительную рубашку, они позволили ей поговорить с психоаналитиком, с настоящим доктором. Он был хорош собой и у него были такая фантастическая героическая челюсть с легкой дневной щетиной, отливавшей синевой, и подбородок, который хотелось погладить кончиками пальцев. Женат, конечно же, и слишком старый для нее, но она могла себе представить, как ее мать, с этой ее демонстративной невинностью, называет его прекрасным, честным человеком.
Он был добр, но тверд. Он прогнал ее через батарею тестов. Она должна была назвать премьер-министра, и сказать дату – тут она ошиблась, и вспомнить девичью фамилию матери – и тут она, ура, все сделала правильно. Он заставил ее взглянуть на чернильные кляксы с цветными пятнами и сказать, что она видит. Он заставил ее отвечать на многовариантные вопросы типа: «Вы видите, как мальчик раздавил ногой червяка. Вы а) чувствуете тошноту б) смеетесь или в) ничего не чувствуете» или «В доме пожар и вы может вынести только одну вещь. Что вы будете спасать а) свою любимую книгу, б) любимое платье или в) свою швейную машинку».
К нему присоединилась социальный работник. Девушка. Практичная обувь. Не привлекательная. Она задавала ей самые разные вопросы о Хейвергале и ее семье, о ее родителях, о планах на университет, и есть ли у нее парень, и, ах да, есть ли лучшая подруга, ну да, а как отношения с сестрой. Ну и так далее.
Наконец она сама получила возможность задать несколько вопросов, и она спросила.
– Ты не беременна, – сказал ей психоаналитик. – Ребенка не было.
Тут-то она сразу поняла, что они сделали. Она попыталась припомнить как это все было, трепет пульса в запястьях, память о боли и крови, чтобы сообразить, когда они сделали это. Возможно, они незаметно вкололи инъекцию? Возможно, она несколько часов валялась в отключке и не знала, что происходит?
Наконец, ей позволили выбираться из постели дальше ванной. Химическую смирительную рубашку ей ослабили, так что она могла ходить самостоятельно. Ну, не ходить, а шаркать. Походка, как и язык, по-прежнему оставались заплетающимися и неуклюжими. Ей разрешили напялить халат и тапочки, чтобы присоединиться к компании травмированных девиц и сумасшедших дам с тетками, слоняющихся повсюду. Вы бы пересели на другой автобус, чтобы избежать встречи с ними. Ей пока не разрешали выходить из отделения. Ее держали в ночной рубашке и таким способом добивались своего. Другие пациенты, одетые должным образом, могли беспрепятственно разгуливать по всему зданию, даже садиться в лифт и ехать вниз на цокольный этаж посидеть в кафетерии самообслуживания с видом на Колледж-стрит или, если иметь в виду пациентов, почти готовых к выписке, фактически выйти из здания и гулять по соседним улицам.
Она была на высоком этаже, десятом или одиннадцатом – как ей казалось, хотя сосчитать этажи близлежащих зданий университета для сравнения было трудно без лекарств, от которых у нее кружилась голова. Этаж вовсе не был похож на отделение, как, к примеру, там, где ей удаляли миндалины, потому что у них у всех были свои собственные комнаты, выходившие в коридор. После того, как ей разрешили вставать, медсестра показала ей, как складывать кровать, чтобы получился диван, на котором можно было сидеть днем.
– Аккуратненько, ага, – высказалась она. Так оно и было.
Там был маленький шкаф со встроенными вешалками, так что ими невозможно было порезаться, маленький туалетный столик и окно, которое не открывалось ни на чуть-чуть. (Окна даже не бились. Она знала, потому что была одна женщина, которая при случае постоянно на них бросалась. Не огнетушитель швыряла и не стул, и не что-то практически твердое. Просто билась головой.) Казалось, что ароматы школьной столовой никогда не выветривались, так и гуляли по коридорам и вестибюлям, смешиваясь с более острыми запахами дезинфицирующих средств, мочи и мерзкого розового мыла.
Она надела халат, и ее медсестра – Марси, с «И» на конце – показала ей окрестности. Кроме спален – некоторые из них, как она заметила, были большими и на несколько человек, были там ванные и душевые комнаты, все под замком, помещения для групповой терапии и собраний сотрудников, пояснила Марси, а с другой стороны башни, слева от лифтов, расположился пугающе большой общий зал. Половина его была отведена под кафетерий с грохочущими металлическими решетками над раздаточными окошками.
– Вот здесь, пока мы вас не кормим, можно заниматься всякими поделками и своими делами, – сказала Марси. Она была вся такая миленькая, как котенок и почти наверняка наряжалась медсестрой, когда была маленькая, но уж никогда не рассчитывала оказаться в таком месте и без единого мужика в поле зрения.
На другой половине большим прямоугольником были расставлены пятьдесят или около того стульев из искусственной кожи тошнотворного цвета. В одном углу с потолка свешивался телевизор, и пациенты переставили стулья так, что получился своего рода кинозал. Повсюду были окна, узкие и не открывающиеся, но, по крайней мере, они там были.
– Ну вот, – сказала Марси. – Ты, наверное, забудешь все это, но в любом случае найдешь расписание на своей двери. Завтрак в полвосьмого, ланч без четверти двенадцать и обед реально рано, в пять, чтобы мы могли уйти домой, а вы лечь спать, прежде чем все начнется сначала. Ясно? На выходных можешь спать до девяти. ТВ выключают в девять вечера. Лекарства прямо здесь с тележки дает одна из нас. Это три или четыре раза в день. Тебе назначена ЭСТ[50], ее делают по понедельникам. Не вставай с постели по понедельникам. Не завтракай. Просто лежи тихонько, хотя можешь сходить в туалет, а мы дадим успокоительное и отвезем вниз на каталке. День у тебя вроде как пропадет, но потом привыкнешь.
Таким образом, воскресные вечера были омрачены знанием того, что должно произойти. Некоторые из ЭСТ-пациентов, одна с навязчивым состоянием постукивать по всему костяшками пальцев и другая, не приученная к туалету и постоянно смеющаяся, обычно начинали заводиться где-то около десяти в воскресенье вечером, и их нервозность распространялась как вирус, отчего весь этаж начинал паниковать. Если случались драки или больные вырывались из своих комнат, или были страшные моменты, когда приходилось посылать за санитарами – эй! Мужики! Привет, ребята! – чтобы они садились на людей, все это, как правило, случалось в воскресенье вечером. По воскресеньям она научилась рано ложиться спать и обычно лежала там, слушая, как вспыхивающие яростные ссоры и вопли растекаются вокруг нее точно паника в обезьяннике.
А ведь в народе всегда говорили о ненормальных и полнолунии? Так вот, все это правда.
Страх перед шоком был еще хуже, чем сам шок. Ее заставили пописать, потом дали седативное, потом повезли на каталке. Потом ей, все-таки, было больно, мысли у нее приходили в ужасный беспорядок, и была она совершенно дезориенти-ти-ти-рована. Получалось, как если бы каждый вечер по понедельникам ей нужно было с личностью, которую она целую неделю медленно строила из маленьких мягких кирпичиков, начинать все сначала. Она знала, они надеялись, что ребенок уйдет, идею ребенка выжгут из нее шоками. Она думала, что да – получилось, но потом она просыпалась во вторник и та снова была на месте. Привет, сука. (Это была девочка.) По крайней мере, она достигла той точки, когда уже понимала – ребенок действительно был только идеей, а это было уже похоже, как если бы он по-прежнему был там, но под стеклянным куполом, так что она не могла слышать, что он там шипел.
Красавчика-психоаналитика она больше не видела, только медсестер, но им наверняка все о ней рассказали, потому что Марси через «И» имела обыкновение сесть с ней рядышком и задавать вопросы, заботливые, но и в то же время испытующие, подобно матери, гоняющейся за твоей занозой с простерилизованной иглой. И она все записывала, что было не очень дружелюбно.
– Знаешь, – сказала Марси. – У тебя много нереализованной креативности.
Именно так, кроме шуток.
– Неужто? – отреагировала Джоэни. К тому времени она могла справляться с короткими предложениями.
– Твои родители запретили тебе рисовать? Им не нравилось, что ты рисуешь?
– Она не хотела, чтобы я ходила в натурный класс.
– Это как?
– Ню.
– Ах вот как.
Тут много писанины.
– Она хотела, чтобы я рисовала милые картинки. Цветочки и всякое такое.
– Если тебе не разрешать рисовать, то я думаю, все твои потребности и идеи будут типа набухать у тебя внутри, пока ты не лопнешь.
Она не удостоила эту вялую попытку ответом, но позволила Марси показать ей, где хранятся «материалы для поделок», и снова начала писать и рисовать все, что угодно, лишь бы не быть втянутой в производство отвратительных рождественских открыток, которые никто никогда не отправит, и корзин, которые потом снова расплетут.
Рисовать здесь было проблематично, потому что карандаши считались слишком острыми, чтобы быть безопасными, поэтому ей разрешали только восковые мелки аляповатых расцветок. Она все же экспериментировала с мелками под акварельными красками. Снова и снова рисовала виды улиц далеко внизу, цветные блоки, состоящие из припаркованных и движущихся автомобилей, бесконечно меняющие свой порядок; шокирующая вспышка случайного яркого платья или шарфа, вплетенных в серое море твидов и габардинов.
После первоначального ужаса от пациентов, когда отважная попытка пройти в комнату отдыха через них заново напомнила ей первый день в Хейвергале, она уяснила, что большинство из них можно игнорировать. Они представляли собой весьма разношерстное сборище, от очень-очень тихих до совершеннейших куку. Но вскоре обнаружила и компромиссную середину – перекособоченных, пропащих девушек, таких как она сама, девушек, все еще достаточно молодых – лет восемнадцати или девятнадцати – для того, чтобы влипнуть в удавку семейного разочарования, да и в собственное отчаяние тоже.
Когда их не упрашивали заняться рукоделием или групповой терапией, смахивавшей на худшую в мире вечеринку с суконными разговорами, без мальчиков и без выпивки – они искали общества друг друга, чтобы сравнивать шрамы. Ни к одной из них, однако, симпатии она не почувствовала. Казалось, они используют свои депрессии и театральную негативность в качестве замены разговоров о свиданиях, тряпках, косметике и о предметах обожания, таких нудных в Хейвергале, а соперничество было точно так же слегка завуалировано. Мои родители хуже твоих. Моя мамаша еще больше деструктивна. Мое самоубийство не было просто попыткой! Да, да, но мои перспективы на выздоровление настолько мрачные, что ты бы сразу умерла, если бы я позволила тебе взглянуть на них хотя бы одним глазком!
Некоторое время спустя они уразумели, что она заносчивая сука, и перестали стучать к ней в дверь стрижеными ногтями или присаживаться к ней за стол во время ланча, вместо этого начали обсуждать ее по углам.
Единственной девушкой, к которой у нее возникло некоторое чувство симпатии, была Рей. Такая же высокая и тощая, как и она сама, и такая же темноволосая, восемнадцатилетняя Рей провела там уже четыре ужасающих года. Она была шизофреничкой, которую упрятали за попытку убить отца парой портновских ножниц, когда тот, перейдя грань, домогался дочери в ее комнате. Ей удалось оттяпать ему только указательный палец, так что он больше не мог грозить ей этим пальцем. Никто не верил ее объяснению, что это он напал на нее, потому что она всегда несла вздор. Он был уборщиком на солеварне на озере, и по-прежнему мог махать метлой, одним пальцем меньше, да еще и с чокнутой дочерью, так что он даже работу не потерял, что казалось несправедливым. Но, по крайней мере, он больше не мог приставать к ней.
Рей слышала голоса и иногда так плохо воспринимала лечение, что Марси и другим девушкам приходилось ее скрутить, чтобы сделать укол. Когда она думала, что ее никто не слышит, она что-то бормотала, обращаясь к тому, кто неотвязно преследовал ее, и ненавидела смотреть прямо глаза. Но это было нормально. Джоэни и Рей обычно сидели рядышком и, пока Джоэни писала красками или рисовала карандашом, Рей рассказывала ей всякую ерунду, которую где-то разузнала. В чем-то Рей была авантюристкой и выяснила, что некоторые санитары, если с ними пофлиртовать, согласны кое-что для вас сделать – например, принести пиво или журналы или тайком вывести вас с вашего этажа на экскурсию по зданию. Как любой приговоренный к пожизненному заключению, она назубок знала план Кларка. Она знала о закрытых судебно-медицинских отделениях на четвертом этаже, куда отправляли убийц и преступников, пока оценивали их способность предстать перед судом, так и оставляя под замком, если их признавали слишком сумасшедшими для правосудия. Она знала о палатах для несовершеннолетних и о несказанно экзотической клинике по изменению пола в цокольном этаже. Она была умница от природы, эта Рей. Она окончила заочно среднюю школу и прочитала каждый роман в больничной библиотеке. Она также знала наизусть целые отрывки из Библии, но, похоже, больше всего ей нравился Иона. Когда Джоэни пошутила, что им бы надо проскользнуть в клинику по перемене пола и потом сбежать как парни, Рей хохотала так громко и так долго, что прибежали медсестры, решив, что у нее припадок.
Практически вся семья Рей от нее отреклась. Раз в неделю по пути на исповедь заходила крошечная мать и сидела полчаса плача, потом Рей вела ее обратно к лифту.
С Рей она поделилась давней мечтой о побеге из Торонто, о том, чтобы безвозвратно сбежать из душной, отсталой Канады и отправиться туда, где тепло и юг, к примеру, в Марсель или Малагу, где они могли бы быть экстравагантными, сумасшедшими и богемными. Как у Хемингуэя или Мейвис Галлант[51], где они точно вписались бы. Только для нее это было сном. В туманных общих чертах, но та часть ее, что была не совсем потеряна, все еще оставалась хорошо воспитанной, жестко выученной девушкой из Хейвергала. Рано или поздно она покинет Этобико и родителей, но только вляпается в замужество или, может быть, в работу и в другой Этобико, другой пригород, другую Канаду. Все, через что она прошла, не совсем еще подавило самонадеянную девичью уверенность, что в один прекрасный день у нее будет муж и собственная миленькая психованная семья. Когда у нее бывало отвратительное настроение, и когда Рей несла вздор о системе сигналов у скворцов и радиоволнах в кроватях, она знала, что выживет, вырвется отсюда и бросит бедную Рей гнить в аду.
Хорошие медсестры, Марси, ее медсестра, но также Бобби и Пэт были довольны ее прогрессом. (Пэт думала, что в этом ей помогало искусство, брала ее рисунки и относила психоаналитику куда-то на верхние этажи, а может куда-то вниз, для оценки). Но в плохие дни казалось, что она очутилась в мире, где правила изменились навсегда и где простые проявления хандры или мимолетной печали ставили против твоего имени громадные черные отметки, продлевая срок по ее приговору.
С нее сняли интенсивное наблюдение. В ванную с ней больше не ходили. Матери позволили принести (неправильную) одежду, чтобы она могла одеваться – кроме понедельников. Но всякий раз, когда она говорила о своих мечтах или о будущем, Марси или Бобби или Пэт обычно замечали: «Давай не будем бежать впереди паровоза. Как насчет еще одной миленькой картинки? Нарисуй мне свой дом в Этобико или нарисуй мне твоих маму и папу».
Рэй, однако, запала на мечту о теплом юге и приняла ее за своего рода обещание. Тут она проявила себя настоящей хитрюгой. Она все время повторяла, что им совершенно необходимо раздобыть свои паспорта, иначе они никогда не смогут вырваться на свободу. Рей уломала свою крошечную мать, чтобы та принесла ее паспорт. Совершенно бесстыдным образом задурила ей голову умными разговорами о том, что есть такой закон или что-то вроде.
У нее был паспорт, потому что все семейство Келли съездили в Ирландию на похороны бабушки и совершили паломничество в Нок. У Джоэни такого паспорта не было. Она дальше Америки не выезжала, но решила, что водительские права были бы неплохим началом. Так что, когда пришла ее очередь она вынудила сестру принести их. Тихоня Винни выглядела такой перепуганной в этом месте, что казалось благодеянием предложить ей нечто иное, о чем беспокоиться.
– У меня здесь нет ничего, что было бы мною, – сказала ей Джоэни. – Они хоть будут напоминать мне, кто я такая.
Этих слов вроде бы оказалось достаточно, чтобы предупредить вопросы Винни.
– Они лежат в моем комоде, – добавила она. – В маленьком выдвижном ящике справа.
Винни была явно в ужасе от того, что нужно поступить дурно, но чувство вины и впечатлительность были еще достаточно сильны, чтобы заставить ее сделать то, что сказали. Она была этакая Маленькая Мисс Совершенство, в которой обаятельное белокурое совершенство и уравновешенный, непритязательный ум сочетались таким образом, что, вероятно, ей казалось – Кларк недостаточно далеко от дома, чтобы дать ей возможность избавиться от этого ужасного пятна на ее праве жить такой жизнью, которую, как она чувствовала, она заслуживала. И если водительские права разведут их на несколько штатов между ними обеими – что ж, тем лучше. Или бедный ребенок просто испугался и чувствовал свою вину, когда с гордостью было объявлено, что теперь она встречается с Джошем МакАртуром, которого только что сделали капитаном хоккейной команды, и поэтому он пока что не собирается входить в дело своего отца?
– Думаю, я пока отложу свои планы насчет школы подготовки секретарей, – с гордостью выдохнула Винни, и Джоэни захотелось встряхнуть ее, простить, заплакать и закричать: «Нет! Беги со всех ног!» Но все, о чем она могла думать, так это только о клевом квадратике драгоценного картона, который Винни только что сунула ей в руку, и она ответила так безучастно, что родители обменялись взглядами, говорившими еще пока не время.
Рей была убеждена, что водительских прав будет вполне достаточно для того, чтобы канадские официальные инстанции в Нью-Йорке выдали Джоэни паспорт. Джоэни не хотелось ее разочаровывать, но она оставалась достаточно сообразительной, чтобы знать – возвращение прав в свое владение было чисто символическим действием, небольшим, но солидным клином между нею и ее мучителями. Фактом оставалось то, что необходимо было их согласие вместе с мнением красавчика-психоаналитика, прежде чем она сможет выйти на свободу и воспользоваться правами. Но она взяла за правило всегда иметь их при себе. Если только это был не понедельник.
Она училась у Рей. Она тоже потихоньку становилась хитрюгой. Кроме того момента, когда включали телевизор, единственными возбуждающими событиями за день были еда и раздача лекарств. Еще до того, как с грохотом поднимались решетки над раздаточными окошками, они уже слышали, как на нижних этажах еду загружают в кухонный лифт, и начинали выстраиваться в очередь со своими подносами. У самых продвинутых среди них, как у бедных собачек Павлова, даже начинала капать слюна. Еда была скучной и жирной, но, по крайней мере, могла хоть чем-то удивить; желатиновое желе разного цвета или – признак того, что лето превращается в осень – тарелка с серым или коричневым мясом вместо яичного салата на пару.
К приему лекарств тоже требовалось встать в очередь. Но здесь не было ни малейшего элемента неожиданности, лишь дребезжание тележки с лекарствами, но, судя по тому рвению, с которым большинство пациентов бросали все, чем занимались – даже если просто таращились на кусок стены, это мог бы быть августовский грузовичок с мороженым. Или, наверное, правильной аналогией была бы церковь, ведь многие из них на самом деле послушно открывали рты, еще только подходя к медсестре, а любая медсестра, что была на дежурстве по раздаче сладкого, прежде чем вручить бумажный стаканчик с водой, чтобы запить, клала таблетки прямо им на язык.
Согласно полученному ей воспитанию в церкви, показывать Богу язык означало отсутствие благоговения, а облатку клали в вежливо подставленную горсточку (в перчатке), так и здесь, с первого дня в очереди за таблетками, она рефлекторно протягивала руку и бросала таблетки в рот сама. Пэт, или Бобби, или Марси всегда ждали, пока она их проглотит, но никогда не просили открыть рот снова, чтобы проверить. Чисто случайно, когда как-то раз таблетка зацепилась за зуб, она чуть не задохнулась, зато обнаружила, что проще простого было бросать их в рот таким образом, чтобы спрятать за щеку. Оставалось только нахально сделать вид, что жадно глотаешь воду. Вкус все равно оставался мерзким и горьким, и не всегда было легко выгрести намокшие таблетки обратно. Вместо этого она научилась сначала делать ладонь как можно горячей и потной, чтобы таблетки прилипли. Потом она делала вид, что кладет их в рот, но, отвлекая медсестру нечастым и любезным «спасибо», брала протянутый бумажный стаканчик в правую руку вместо левой.
Рей частенько, особенно в выходные, когда не хватало персонала, исчезала куда-то по вечерам, обычно на какое-нибудь из ее тайных свиданий с мойщиком посуды или санитаром на отделении. Ей постоянно хотелось трахаться. Она занималась этим не просто для того, чтобы получать что-то взамен. Она была, по ее же собственному утверждению, в высшей степени сексуально озабочена. В этом она винила неестественно высокую концентрацию эстрогена, обусловленную тем, что так много женщин держали вместе взаперти в тесном душном помещении. Она говорила, что эстроген прямо плавает среди них вместе с запахами еды.
Однако как-то раз в будний день ее не было целых два часа. Было бы неправильно привлекать к этому внимание, но время шло и Джоэни начала задаваться вопросом – а не сбежала ли Рей в конце концов одна. Подобно любой школе-интернату, Кларк представлял собой энергичную фабрику слухов. Обычно слухи были где-то по типу Сегодня вечером дадут жареную курицу в молоке или Принцесса Маргарет поменяла прическу! Только изредка ажиотаж бывал связан с исчезновением, и тогда он быстро разрастался, питаемый страхом, равно как и мятежным волнением, потому что слишком часто предполагаемый побег оказывался не более чем попыткой самоубийства, которую старались замолчать, и пациентка появлялась снова, в химических наручниках, а в одном памятном случае с обеими ногами в гипсе.








