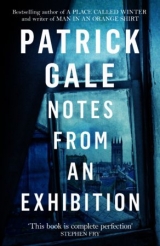
Текст книги "Заметки с выставки (ЛП)"
Автор книги: Патрик Гейл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
В их семье было принято дарить только два подарка, даже на Рождество, один из которых хороший, но, полезный – например, словарь или коробка цветных карандашей. Полезный подарок, как правило, официально дарился от Морвенны. Его плохая часть задавалась вопросом, будет ли появление Хедли означать еще один подарок, или пока еще нет. Он знал, что жадность это плохо, но подарки ведь были не только о жадности. Они были о любви тоже.
– Ты не собираешься его открыть? – спросил Энтони, когда они снова поехали в Пензанс. – Он, похоже, очень особенный.
– Думаю, я его пока сохраню, – сказал Гарфилд.
– Ага, – сказал Энтони с довольным видом, и Гарфилд понял, что ответил правильно. Хорошие мальчики сохраняли, и у Гарфилда хорошо получалось. Он копил на конструктор Меккано и откладывал половину своих карманных денег в свинью-копилку так долго, что копилка была почти полная. Слишком поздно он заметил, что копилку, чтобы достать оттуда деньги, пришлось бы разбить, а это казалось ему нехорошим расточительством, поэтому он откладывал зло, заведя вторую, пластиковую свинью-копилку, которую он нашел на блошином рынке за гроши и которая открывалась. Он приберегал клубнику как можно дольше. Он растянул пасхальное яйцо на целую неделю. Он научился приберегать хорошие новости и хорошие шутки. Он узнал, что если гнев сберечь, а не выплескивать, то он имеет обыкновение испаряться как дым, оставляя только слабый запах там, где раньше бушевало пламя.
Энтони постарался, даром что был мужчиной. В честь дня рождения у них был чай, даже не чай, а настоящий ужин с чаем. На столе была вся любимая еда Гарфилда: сосиски в тесте и гренки с сыром, и торт, который они с Рейчел изобрели в прошлом году – в магазине был куплен имбирный кекс, расплавили шоколадку Бонвиль с небольшим количеством масла и полили кекс сверху. У него было семь свечей, и он загадал желание, перед тем, как задуть их: пусть Рейчел и Хедли скоро вернутся домой, пожалуйста. И он сначала открыл свои открытки, а потом подарки.
Конверт от Рейчел он посчитал подарком и открыл его последним. Специальным подарком оказалась маленькая модель двигателя, настоящий Мамод, где нужно было накапать спирт на вату, чтобы вскипятить воду в баке, а от этого крутилось металлическое колесо или даже, если тебе хотелось, свистел свисток. Энтони сказал, что, как только он накопит деньги, этот двигатель можно будет использовать для ветряной мельницы или карусели Меккано.
Гарфилд немножко надеялся, что специальным подарком будет все-таки Меккано, и чувствовал, что горло чуточку сжалось, так он старался, чтобы разочарование не было заметно. Двигатель был очень хороший – они запустят его позже, когда Морвенна ляжет спать – просто это было не то, на что он надеялся, так что потребуется какое-то время для того, чтобы перестроить свои надежды. Хорошим-но-полезным подарком оказался настоящий кожаный ранец для школы. Что тоже стало скорее разочарованием. Он очень хотел такой год назад, когда у нескольких его друзей такие ранцы уже были, а он ходил в школу с большой брезентовой сумкой, в которой все комкалось в кучу. А теперь он предпочел бы портфель, вроде тех, с которыми ходили старшие мальчики.
После того, как они немного отрегулировали лямки, Энтони заставил надеть ранец и походить в нем туда-сюда и выглядеть довольным, но даже Морвенна уставилась на ранец с выражением, смахивавшим на презрение. Он был из настоящей кожи – Энтони предложил Гарфилду понюхать – и на маленьких карточках, примерно таких, как на больничных дверях, были его имя и адрес, и еще там было место для ручки и даже маленький карманчик для ключей от дома. Но его коричневый цвет был слишком красным и слишком детским, и он не был портфелем.
Прежде чем открыть самодельный конверт Рейчел, он вымыл руки, потому что вымазал их в шоколадной глазури. Она сделала ему открытку, нарисовав картинку восковыми карандашами на половинке листа, а потом сложила его и написала на второй половинке. Картинка было немного похожа на те, которые она рисовала краской – абстрактные, ему пришлось учиться называть их – только сконцентрированная на таком маленьком пространстве, она получилась более насыщенной. Открытка представляла собой вереницу оранжевых кубиков, плавающих на зеленовато-синем фоне, но она сделала все оранжевые элементы немного разных оттенков, некоторые ярче, некоторые темнее, некоторые были более глубокого оранжевого цвета по краям, а некоторые как бы клочковатыми и с менее четкими очертаниями, как будто в тумане.
– Дай мне посмотреть, – заныла Морвенна. Ей не нравилось, когда день рождения был не ее, но этого и следовало ожидать. Гарфилд показал ей открытку, что заставило ее замолчать эффективнее, чем шиканье Энтони, но потрогать не разрешил.
Он посмотрел еще немного. И, если смотреть внимательно, казалось, что все оранжевые кубики двигались взад и вперед из бумаги, потому что они были не совсем того же самого оттенка. Кубик, на котором сосредоточено внимание, будет стоять на месте, но сразу же один из более ярких продвинется немного вперед, и глазу захочется скакнуть в сторону.
– Тебе оказана честь, – наконец произнес Энтони.
– Что ты хочешь сказать?
– Ну, мне она никогда не рисовала картину.
– Не может быть.
– Правда, правда.
Он покачал головой, насмешливо-горестно, и улыбнулся.
Гарфилд заглянул внутрь.
«Моему дорогому Гарфилду, – писала она. – На его седьмой день рождения с любовью от Рейчел. К сожалению, я не могу быть с тобой. Виноват юный Хедли! В это же время в следующем году податель сей открытки получит меня в полное свое распоряжение на целый день, и будем делать все, что он захочет… Помни!»
Она нарисовала три крестика. Потом, возможно, по запоздалому соображению, потому что ему было всего лишь семь лет, а картинка была немножко серьезная и совсем не похожа на другие открытки от крестных и школьных друзей с автомобилями и футболистами, она нарисовала что-то вроде комикса. Крестики лежат на каких-то санках, и она тянет их к указателю, на котором написано Пензанс 46 миль. Себя она изобразила безумной дамой, с торчащими во все стороны волосами и босыми ногами с большими пальцами, но было ясно, что это она, потому что одета она была в свою одежду для рисования, и у нее был ее нос. Пот лился с нее градом, так она стремилась доставить поцелуи, а причиной, по которой так трудно тянуть сани, было то, что младенец Хедли и его коляска были привязаны к задней части саней, и дорога шла немного в гору.
Было странно получить что-то от нее и при этом ее самой не было рядом, чтобы сказать «спасибо». Энтони смотрел на него, будто ожидая чего-то еще, так что Гарфилд положил открытку обратно в специальный конверт и сказал, что уберет со стола, пока Энтони будет купать Морвенну. Она достигла той точки, когда была уже настолько уставшей, что, возможно, уснула бы от собственных капризов.
Вскоре из ванной комнаты послышались обычные всплески и вопли – она ненавидела, когда ей моют волосы, особенно если это делал Энтони, у которого, как правило, мыло попадало ей в глаза, и он не понимал, что она имела в виду, когда говорила, что волосам больно. Гарфилд отнес ранец и картину к себе в комнату. Он попробовал сложить в ранец книги и ручки и прочее, после чего ранец, по крайней мере, стал выглядеть не таким новеньким.
Он вынул картинку и установил ее посередине короткой каминной полки, где она красиво светилась на фоне белой краски. Но ему было не по себе. Уж слишком уязвимой она была и слишком ценной. Он оставил там картинку для собственного вдохновения, пока писал Рейчел благодарственное письмо, рассказывая ей все новости, о которых не мог рассказать, пока выпендривался на качелях, а она была занята с Хедли, Морвенной и Энтони.
Пока он писал, он представлял ее в виде огромной женщины-пряника, а все остальные, как маленькие собачки, откусывают от нее кусочки. Неудивительно, что она больна. Они должны научиться не есть ее все вместе и сразу. Они должны научиться этому, чтобы спасти ее.
Много времени ушло на то, чтобы переписать письмо. Ведь оно в итоге оказалось довольно длинным. Он засунул картинку обратно в конверт и спрятал в своем столе для надежности. Когда она вернется домой, когда она выздоровеет, он спросит ее – разрешит ли она вставить картинку в подходящую рамку. Он осторожно выберет момент, когда спросить.
НАБРОСОК С НАТУРЫ: ДЖОШ МАКАРТУР
(1959)
Карандаш на бумаге
Этот изысканный набросок является одним из нескольких рисунков с натуры или из журналов, которые подросток Келли включила в свое портфолио, подавая документы в художественную школу. Неудивительно, что колледж искусств Онтарио безоговорочно предложил ей место и – как свидетельствуют материалы приемной комиссии – полную стипендию. Вдвойне печально, что все остальные рисунки из представленного пакета были уничтожены ее матерью как непристойное доказательство поврежденного рассудка. Рисунок выполнен в уверенной манере – а ведь на тот момент она не получила никакого образования, помимо приличествующего благовоспитанной леди – но в наброске присутствует нечто гораздо большее нежели умение рисовать. То, как Келли распределяет свет на изображаемом человеке с прекрасно проработанной мускулатурой, одновременно придает ему эротический флер и предполагает уязвимость, скрывающуюся под его уверенностью в себе. Джош МакАртур, который позже стал ее зятем, был генеральным директором сети мотелей МакАртуров и оставался им до своей смерти в 2001 году.
(Из коллекции миссис Джош МакАртур)
Молодой швейцар взглянул на монеты, которые она вложила ему в руку. «Спасибо, – сказал он. – Большое спасибо», и ушел, оставив Винни задаваться вопросом, дала ли она слишком много чаевых, или недостаточно.
Она отмахнулась от беспокойства; она была иностранкой, так что ей позволительно ошибаться. Единственное, с чем она не могла примириться, так это с тем, что ее здесь постоянно и ошибочно принимают за американку, чего настоящий американец никогда бы не сделал.
Она расстегнула молнию на чемодане, и ей показалось, что одежда легонько вздохнула, избавившись от давления. Чемодан она взяла самый большой, тот самый, что Джош всегда брал в отпуск, когда они ехали вместе, но в котором ей вечно не хватало места. Укладывалась она из рук вон плохо, и имела слабое представление о том, как долго она здесь пробудет.
Она осмотрела свой номер и увидела, что у него такой же потрепанно благородный вид, что и на ресепшн отеля. Шторы выгорели на солнце, на потолке были пятна, и там, где она была бы рада мини-бару, стоял один из этих дурацких маленьких чайников, чайная чашка и пакетики с кофе. Если бы ей захотелось выпить, то пришлось бы наслаждаться этим на людях, внизу в одной из больших комнат, усеянных персонами, выглядевшими такими древними и так прочно обосновавшимися здесь, что она предположила, а не являются ли они постоянными обитателями, которых оставили там их родственники. Она слышала, что англичане так поступают.
Кровать не сулила приятного отдыха – после целой жизни в одной постели с человеком гораздо больше ее самой, спина у нее редко бывала выправлена в правильном положении – но, по крайней мере, белье чистое. Она отодвинула в сторону бесполезные тюлевые занавески – номер был на четвертом этаже, и вряд ли кто-нибудь смог бы туда заглянуть – дабы открыть вид на залив и далекие лодки, и ей сразу стало лучше. Именно за вид и анонимность она предпочла этот большой старый отель какой-нибудь из тех изысканных небольших мини-гостиниц, что подобрал для нее Пити. Она была городской жительницей, и ее не прельщали дотошные расспросы за завтраком, особенно в супер-пупер окружении, тем более в этой поездке.
Она распаковала вещи, выбрала слаксы и блузку, которые собралась надеть, и повесила их в углу над ванной. Потом открыла душ на самую горячую воду и оставила ее течь, понадеявшись, что пар разгладит измятые вещи. Затем она скинула туфли и легла на кровать, думая немного подремать. Ночной полет из Торонто, а затем короткий трансфер из Гатвика, потом час езды на такси из Ньюквея оставили ее совершенно разбитой физически. Однако она была слишком взвинчена, чтобы уснуть. В голове у нее все крутились мысли.
– По крайней мере, закрой глаза, – сказала она себе. – Слушай море там за окном. Она ведь это море, должно быть, слушала. И плавала в нем. И смотрела на него.
Нельзя сказать, что в своих электронных письмах он был особо разговорчив – он был не похож на тех парней, на которых она иногда наталкивалась онлайн, и которые, едва узнав имя, уже выкладывали слишком много информации. Поэтому она решила, что просто он был одним из тех, кто говорит только тогда, когда считает это необходимым. Квакер. Муж ее сестры.
Ее бил озноб, когда она мысленно возвращалась к прошлому. Все те годы, – годы ее траура по Джоэни, ее брака с Джошем, скоротечной последней болезни ее матери и долгого угасания отца – Рей Келли оставалась ее личным демоном. Всякий раз, когда еще один шизофреник нападал с ножом на совершенно незнакомого человека, всякий раз, когда она слышала, как коллеги пугают друг друга рассказами о психах с пустыми глазами, расхаживающими по пустым отелям или сидящими за рулем брошенных ночных автобусов, первым делом ей на ум приходило лицо Рей Келли. Если Джош уезжал по делам, то, вспоминая слишком поздно о том, чтобы задернуть занавески или закрыть на засов заднюю дверь, именно о Рей Келли думала она. Она не могла поверить в то, что человек, оказавший такое травматическое влияние на четыре жизни, затем исчезает полностью. Если бы она прочитала о том, что Рей убила кого-то или, в конце концов, была арестована, или где-то ее сбил трамвай, возможно, это уменьшило бы ее демонический потенциал и, может быть, сделало ее банальной или даже жалкой.
Но однажды, когда Винни лениво искала в интернете старых школьных друзей и вдруг увидела ее имя, внезапно бросившееся в глаза в новых генеалогических публикациях с пометкой «родилась в Торонто в 40-е годы, жила на Джеррард-стрит Ист, умерла в этом году», у нее перехватило дыхание.
– Да, – подумала она. – Да! Сдохла, наконец, сумасшедшая сука!
Ну, а потом, в тот момент, когда она щелкнула по вкладке «Вложения» и оказалась лицом к лицу не с пустоглазой Рей – образом, так тошнотворно знакомым по публикациям в прессе, а с дорогой Джоэни, больше не мятежной и не сводящей с ума, а неожиданно просто молодой и ранимой… На пару минут Винни усомнилась в собственном здравомыслии, а потом ей пришлось звонить Пити, руководившему магазином вместе с ней, и просить его сравнить эту фотографию с той, что стояла у нее столе в рамке вишневого дерева, и не будет ли он так любезен сказать ей, считает ли он, что на экране та же самая девушка.
Самым трудным в тот момент было подавить желание прямо тут же развернуться вовсю, засыпать Энтони бурным потоком вопросов где, почему и каким образом. Но оказалось, ее с такой силой душили гнев и боль, что в своем первоначальном ответе она смогла всего лишь остаться резковато точной. Сдерживать Пити было еще труднее; он имел склонность к дикому перевозбуждению, собственно говоря, именно из-за этого она и взяла его на работу. А потом получить все те другие фотографии и испытать двойное потрясение от того, как Джоэни старела на десятки лет, а дети вырастали за несколько минут, а потом снова и снова она умирала! Неудивительно, что впервые после смерти Джоша, Винни начала пить среди бела дня. Неудивительным было и то, что раз уж ее память работала так напряженно, вытаскивая из забытья события, о которых у нее не было ни малейшего желания помнить, проблемы возникли с припоминанием собственного адреса, и дважды на неделе она назвалась Джоэни, разговаривая с незнакомыми людьми по телефону.
Болезнь ее матери была короткой и милосердной, и какие бы страшные тайны она ни вынашивала, все они легли в могилу вместе с ней, упрятанные в материнский ридикюль из искусственной крокодиловой кожи. Отец умирал намного дольше, и у него было больше времени для угрызений совести и тоскующих взглядов на пути, которыми не довелось пройти, брошенных через артритное плечо.
По мере приближения конца, когда в живых он оставался только благодаря оборудованию, и рак уже окончательно сжевал те части, которые ни искусство врачей, ни доноры заменить не могли, он начал говорить. Запертая у его постели в бдении, исполненном сознания долга, его единственная живая родственница, она была вынуждена слушать. Слишком поздно, опоздав на много лет, на много лет после того, когда это могло кому-то помочь, он начал говорить о бедной маленькой Джоэни, и о том, каким виноватым он всегда себя чувствовал. Винни любила его нежно, любила по-настоящему, но готова была придушить подушкой прямо на месте.
Джоэни изнасиловали, сказал он. В ту ночь, когда они с мамой нашли Винни с рисунками, и мама умчала ее в безопасное место, целая компания мальчиков неоднократно изнасиловала Джоэни.
– Кто-нибудь видел? – спросила она негромко, чувствуя, как под ее пропотевшим больничным стулом разверзается пропасть.
– Да этого и не нужно было, – сказал он. – Один из мальчиков принес ее домой, и сказал, что нашел ее лежащей пьяной на скамейке на улице. Но по ее состоянию было ясно, что что-то случилось. Она истекала кровью и…
Он прервался, превозмогая и слабость и эмоции. Она дала ему глотнуть воды из поильника, надеясь, что сейчас он замолчит.
– Я сказал ей отправляться в ванну, – продолжил он, – и привести себя в порядок. И лечь спать. Когда твоя мама вернулась, она вошла к ней и Джоэни рассказала ей и… И твоя мама сказала ей не быть такой гадкой. Она сказала, что она развратная, что эти мальчики из хороших семей, таких семей, она бы гордилась тем, что они пришли к нам в дом. Наш говенный маленький домишко в Этобико.
Он снова глотнул воды и посмотрел на Винни так, как если бы его уже лапали другие грешные души.
– Тссс, – сказала она. – Вот сейчас помолчи. Все это уже неважно.
Но ему нужно было говорить.
– Твоя мать сказала мне то же самое, и я сделал то же, что и всегда – сказал да дорогая и покорился. На следующий день, пока мы были в церкви, Джоэни вскрыла себе вены. К ланчу она уже была в Кларке. А потом она…
Винни, как могла, успокоила его, но ей пришлось прервать свое дежурство, чтобы зайти в бар отеля совсем рядом с его больницей, потому что его мерзкое, подлое откровение заставило ее признать то, что она всегда знала: что ее внутренний взрослый в течение многих лет рассказывал ее внутреннему ребенку.
Той ночью он потерял сознание, на следующей неделе она предложила отключить аппаратуру, и он умер. Но когда она вернулась из бара, лихорадочно жуя мятную жвачку, оказалось, что он приберег для нее еще одну историю…
– Твоя мать, – все повторял он.
– Да? – подсказывала она снова и снова.
Обменявшись этими короткими фразами примерно раз восемь, она уже подумала было, что это и все, он, возможно, пытается сказать, что мать у нее была хорошей, или что он всегда ее любил, или что она ждет его по ту сторону, но тут он закашлялся, а потом начал предложение по-другому.
– Есть кое-что, чего я никогда не мог простить ей.
– Да, папа?
– У нее был еще один ребенок.
– Неужели?
– У Джоэни был близнец. Бывает. Этот близнец умер во время родов. Запутался в пуповине Джоэни. Сейчас такое бы не случилось. А Джоэни была прелестным ребенком. Очаровательной малышкой. Само совершенство. И твоя мать сказала ей. Когда ей было где-то пять или шесть, могло ведь такое быть? Могло ведь?
– Может быть, папа. Что она ей сказала?
– Она немножко плохо себя вела, и твоя мать сказала ей, что не тот ребенок умер. Это было от лукавого.
От лукавого. Слова, так редко слетавшие с его губ. Слова, которые даже в церкви произносились только однажды за время службы, во время чтения Отче наш. Они гудели в комнате между ними, как мясная муха.
Там Винни их и оставила. Она не могла нести такие истории Джошу, чтобы увидеть его доброе лицо сморщившимся в попытке понять. И теперь, двадцать лет спустя, эта муха вылетела снова, и снова беспокоила ее. Их брак с Джошем не был благословлен детьми. Они пытались. Они прошли тесты. Они обсудили и отвергли усыновление. По крайней мере, она обсуждала, а он отверг. Он был «тронутый» в желании иметь собственных детей и не повелся на эту идею; а его мнение она должна была уважать.
Были и преимущества. Она сохранила фигуру. Он сохранил волосы.
Им ни разу не пришлось обойтись без интересного взрослого отпуска, и у нее была, если уж на то пошло, привилегия строить собственную карьеру и отдавать три часа в неделю волонтерству в Кларке, помогая обезумевшим родственникам справляться со своими чувствами, когда их любимые вливались в колеблющиеся ряды душевнобольных.
У сестер Джоша было по три ребенка на каждую, но мужья увезли их в Лос– Анджелес и Чикаго соответственно, так что они никогда не были близки. Момент, когда она на самом деле затосковала по материнству, конечно, случился во время шунтирования Джоша и последующей неудачи. Когда рядом не оказалось никого, кто поддержал бы или приласкал ее.
Удивительным образом ее ребенком стал маленький бизнес, а сотрудники – семьей. «Простые подарки» продавали деревянную мебель, товары для дома и небольшой ассортимент одежды и постельного белья, а производили все это общины амишей или шейкеров. Компания, размещенная в древнем складе в Кэббиджтауне, старом ирландском районе, с того времени, как она с единственным помощником впервые открыла ее, выросла вдвое и теперь имела отдел заказов по интернету, что значительно увеличило товарооборот и благосостояние резко улучшилось. Миллионершей она не стала, но то, что началось как авантюра, которой Джош ее побаловал, стало порукой ее благополучия. Уже давно достигнув пенсионного возраста, она передала руководство бизнесом младшему партнеру Пити, милому человеку, который пришел к ней работать первым ассистентом по продажам сразу после школы. Но она сохранила стол в офисе и приходила почти каждый день, потому что сидеть дома одной было скучно и одиноко. Что-то в том рвении, с которым Пити выпроводил ее в это приключение, подсказало ей, что пришло время дать всем послабление и попытаться быть вдовой повеселее. Ездить в круизы и тому подобное.
Она села. Она не могла уснуть со всеми этими криками чаек за окном, и дремать она не собиралась.
Она потянулась к телефону и своей записной книжке, глубоко вздохнула и позвонила ему.
– Алло?
Голос оказался не таким уж старым.
– Энтони? Это Винни МакАртур.
– Что?
– Здравствуйте!
– Извините. Дайте-ка я увеличу громкость на этой штуке.
Раздался тяжелый глухой звук, как будто он уронил трубку на стол, и он вновь ответил.
– Кто говорит?
– Это Винни МакАртур, Энтони. С LongLost.com. Сестра Джоэни? Сестра Рейчел, если вам так удобнее.
– Да. О да. Здравствуйте. Как вы?
– Волнуюсь. Устала.
– Ах вот как. Извините, если создалось впечатление, что я несколько отвлечен. У меня сейчас полон дом народа. Мой сын Хедли до сих пор здесь, и моя дочь Морвенна, она не совсем…
– Ох. Энтони, вы должны мне сказать, если сейчас не подходящее время для визита.
– Ну почему же? Где вы?
– В отеле Квинс, – сказала она ему. – По моей карте как раз за углом от вас.
– Квинс. Понятно. Я думал, вы звоните из Торонто. Приходите. Конечно же, вы просто должны появиться.
– Что? Сейчас?
– Почему нет? Просто… Подождите секунду.
Она снова услышала звук удара. Очевидно, что его телефон не был беспроводным. Затем послышался звук закрываемой двери. Он снова взял трубку.
– Извините, – сказал он. – Я немного глуховат, мне бы не хотелось громко кричать, не замечая этого, и ранить чувства других. Морвенна не совсем здорова, вот и все. Если вам покажется, что она немного… Боже мой. – Он вздохнул. – Извините. Жизнь у нас тут скучать не дает.
– Значит, я не вовремя. Знала ведь, что надо бы подождать, пока не получу от вас ответа.
– Что?
– Не буду вас беспокоить. Мы можем встретиться в другой день.
– Нет. Пожалуйста, приходите. Я настаиваю. Я вас встречу. Но я … У меня не было случая объяснить, кто вы такая, только и всего.
– Понимаю. Иногда я теперь уже не уверена, знаю ли я сама, кто я.
– Простите, не понял?
– Ничего. Я буду у вас примерно через полчаса, Энтони.
Она с трудом положила трубку, так у нее тряслись руки. Потом она заставила себя скатиться с кровати (особым способом, которому научил ее последний массажист), сбросила с себя одежду, в которой приехала, извлекла отпаренную, приняла душ и оделась, прежде чем могла запаниковать и передумать. По крайней мере, появившись в первой половине дня, она избавляла хозяев от обязанности предлагать угощение.
Дома, стоявшие вдоль улицы, были совершенно очаровательны и намного старше, чем те, мимо которых она проходила по набережной. Он встретил ее на улице, так что, возможно, он нервничал точно так же, как и она. Он улыбнулся. Она рассмеялась. Они пожали друг другу руки, а потом он просто смотрел на нее.
– Вы так на нее похожи, – сказал он.
– Вовсе нет, – засмеялась она. – Она всегда была такой смуглой и броской и…
– Значит, вы похожи на нее такую, какой она стала. Потому что я вижу, что вы сестры.
– Правда? Ну ладно. Какое красивое место. Давно здесь живете?
– Я в этом доме родился.
– О Боже.
– После Вас. Прошу.
Через неожиданно субтропический сад она прошла к прелестной террасе в георгианском стиле и вошла в открытую дверь.
Привыкшая к чистым линиям и спокойным краскам «Простых подарков» и своего дома в Роздейле, она была ошеломлена первым впечатлением – своего рода сумасшедшим изобилием 1970х, нынче потрепанным по краям. Привести мысли в порядок представлялось совершенно невозможным. Она спугнула женщину с короткой стрижкой, сидевшую на одном из двух старых коричневых диванов спиной к двери. Когда Винни сказала «Привет. Я Винни», женщина обернулась, посмотрела на нее с выражением, слишком хорошо ей известным по пациентам в Кларке, и быстро проскользнула мимо нее вверх по лестнице.
– Морвенна, – негромко сказал Энтони.
– Я догадалась.
Женщина выглядела обескураживающе похожей на комбинацию того, какой Джоэни могла бы оказаться, и первыми воспоминаниями Винни об их матери рано утром, без макияжа. Возможно, Морвенну состарила болезнь, но она смотрелась по меньшей мере лет на двадцать старше, чем была Джоэни, когда Винни видела ее в последний раз.
На мощеном пятачке позади дома был виден молодой человек, явно ее брат, но скроенный из ткани более солнечной. Он возбужденно разговаривал по мобильному телефону.
– Джек, наш семейный врач, хотел ее госпитализировать, – сказал Энтони. – Но я ему не позволил. Не хочу, чтобы ее упрятали в сумасшедший дом.
– А она…?
– Она объявилась нежданно-негаданно. Больше десяти лет скиталась повсюду. Сначала она казалась довольно спокойной, но, возможно, это был просто шок от известия о смерти Рейчел. Потом она…
Он сел за потертый старый сосновый стол. Винни села напротив.
– Отсюда, если перейти через набережную, есть старый бассейн. Открытый бассейн с морской водой еще с тридцатых годов, знаете ли.
– Ну да, – кивнула она, хотя ничего об этом не знала.
– Как-то утром, никому ничего не сказав, она отправилась туда и попыталась утопиться.
– Господи.
– Джек посадил ее на лекарства, но, увы, все мы немного нервничаем.
Винни никак не могла предположить, что ухитрилась навязаться в гости в такое ужасное время.
– Я, пожалуй, пойду, – пробормотала она. – Ну и дела… мне так жаль.
– Вы не понимаете, – сказал он с грустной улыбкой. – Мы просто счастливы, что она снова с нами, и мы можем заботиться о…
– Здравствуйте?
Молодой человек вошел, заправляя сотовый телефон в карман джинсов. Он был лапочка, на той самой трогательной стадии между красавчиком-мальчиком и всем, что там дальше. Как раз из тех, что нравятся Пити. Он посмотрел ей прямо в глаза и протянул руку. Да, собственно говоря, нравятся и ей тоже.
– Я Хедли, – сказал он. – Как поживаете?
– Это Винни, – сказал его отец. – Из Торонто. Мы переписывались по е-мейлу.
Хедли быстро перевел взгляд с одного на другую, и на секунду она заметила – он подумал, что они встретились на каком-то сайте знакомств для старичков.
– Вы знали маму, – сказал он.
– Да, – сказала она. – Я ваша давно потерянная тетя.
– Боже мой, ну конечно!
Он засмеялся, поцеловал ее, обнял и снова усадил за стол.
– Давайте, я поставлю чайник. Вы обедали? Когда вы приехали? Энтони ничего не говорил.
– Ну, похоже, у вас тут и без этого было чем…
– А. Ну да. Безусловно. И тем не менее. Чай?
– Да, с удовольствием.
Она усмехнулась.
У него был этот дар и у Пити тоже – умение улучшить атмосферу в комнате, просто войдя в нее. Он возился, наливая чайник, расставив на столе вишневый пирог, чашки и маленькие тарелочки. Все было вразнобой, но все было очаровательно.
– Если и есть что хорошего в смерти, – сказал он, – так это то, что пирогов несколько месяцев печь не надо. Холодильник забит! Это был Оливер, – сказал он Энтони. – Они с Анки приехали сегодня утром. Он звонил из Труро, так что скоро подъедут. Они были в той галерее на Лемон-стрит. Оливер – мой муженек, – пояснил он.
– А кто такая Анки? – спросила Винни и увидела, что тень пробежала по его лицу.
– Ну, она… она друг, художница.
Они пили чай с пирогом, а затем Винни открыла сумку и достала конверт с фотографиями, которые прихватила с собой – Джоэни, своих родителей, их дома в Этобико, Простых Вещей, ее дома в Роздейле, их дедушки и бабушки, ее Джоша. Появившаяся в одночасье вторая семья. Она записала для них имена и даты, которые могла вспомнить. Она коротенько рассказала, что помнила, о семейном древе Ренсомов. Она пригласила их приехать. Отвечая на их расспросы, она рассказала о больнице Кларка и своей добровольческой работе там, и о том, как Джоэни сбежала оттуда, и ей удалось не заплакать, хотя слезы и душили, когда она рассказывала о Рей Келли и обо всей этой истории с поездом.
Затем, когда они оба поняли и осмыслили услышанное, наступило то, что ее бабушка называла говорящим молчанием. Даже разговорчивый Хедли затих, и глаза его наполнились слезами.
– Должно быть, вам было очень больно и вы были злы на нее, когда она вычеркнула вас из своей жизни, – сказал, наконец, Энтони.
Но, прежде чем она успела придумать ответ, разговор прервало чириканье телефона Хедли. Пришло видеосообщение, скан первого триместра ребеночка его невестки Лиззи. Конечно же, все были счастливы и последовали поздравительные телефонные звонки. Энтони пришлось отнести телефон наверх, в комнату к Морвенне, чтобы показать скан и ей тоже, хотя на самом деле смотреть там было нечего – так, комочек с сердцебиением.








