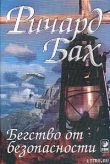Текст книги "Талантливый мистер Рипли"
Автор книги: Патриция Хайсмит
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Тому казалось, что внешность его изменилась мало, но выражение лица было такое же, как у Дикки. С его лица не сходила улыбка, которая могла бы показаться постороннему человеку подозрительно приветливой, – такая улыбка более к лицу тому, кто рад встрече с другом или возлюбленной. Дикки всегда так улыбался, когда был в хорошем настроении. И Том был в хорошем настроении. Он оказался наконец в Париже. Как замечательно сидеть в знаменитом кафе и думать о завтрашнем дне и о том, что и завтра, и послезавтра он будет Дикки Гринлифом! Запонки, белые шелковые рубашки, даже старая одежда – потертый коричневый ремень с медной пряжкой (о таких ремнях в журнале «Панч» пишут, что их можно носить всю жизнь), поношенный свитер горчичного цвета с отвисшими карманами – все это теперь его, и все ему очень нравится. Как и черная авторучка с маленькими золотыми инициалами Дикки. И бумажник, видавший виды бумажник из крокодиловой кожи от Гуччи, в который можно положить кучу денег.
На следующий день девушка-француженка и молодой американец, с которыми он разговорился в большом кафе на бульваре Сен-Жермен, пригласили его к себе в гости. Собралось человек тридцать, в основном люди среднего возраста. Они вели себя сдержанно, расхаживая по огромной, холодной, неуютно обставленной квартире. Том подумал, что в Европе необогретое помещение зимой – знак хорошего тона, как мартини безо льда летом. В конце концов в Риме он перебрался в более дорогую гостиницу, и оказалось, что там еще холоднее.
Старинное здание выглядело мрачно, но, по мнению Тома, там царила роскошь. Швейцар, горничные, огромный стол, заставленный паштетами, нарезанной индейкой, мелким печеньем, шампанским, а при этом обивка на диванах и портьеры на окнах прохудились от времени, а возле лифта в холле он заметил мышиную нору. Едва ли не полдюжины гостей, с которыми ему довелось столкнуться, были графами и графинями. Один американец сказал Тому, что молодой мужчина и девушка, которые пригласили его, собираются пожениться, а родители этого не одобряют. В большой комнате царила напряженная атмосфера, и Том постарался быть со всеми как можно любезнее, даже со строгими на вид французами, которым он мог сказать только одно: «C’est très agréable, n’est-ce pas?»[35] Он старался вовсю и заслужил от француженки, которая его пригласила, улыбку. Он считал, что с приглашением ему повезло. Много ли одиноких американцев в Париже могут надеяться на то, что их пригласят во французский дом спустя всего неделю после приезда в этот город? Том слышал, что французы особенно отличаются тем, что неохотно приглашают незнакомых людей в свои дома. Похоже, никто из американцев не знал, как его зовут. Том чувствовал себя как никогда уверенно. Он вел себя так, как давно уже мечтал себя вести в подобных случаях. Еще на пароходе он думал о том, что с чего-нибудь подобного начнется его новая жизнь. Теперь он прощался со своим прошлым и с собой, Томом Рипли, который вышел из этого прошлого. Родился новый человек. Еще одна француженка и два американца пригласили его на вечеринки, но Том отказал всем одинаковыми словами: «Большое спасибо, но завтра я покидаю Париж».
Он решил, что из того, что он с кем-то из этих людей сойдется поближе, ничего хорошего не выйдет. Может статься, кто-то из них знаком с тем, кто хорошо знает Дикки, и уже на следующей вечеринке он столкнется с этим человеком.
Когда в четверть двенадцатого он попрощался с хозяйкой и ее родителями, у них были такие лица, будто им было очень жаль, что он уходит. Но ему очень хотелось до полуночи попасть в Нотр-Дам. Был канун Рождества.
Мать девушки переспросила, как его зовут.
– Мсье Грэнлеф, – повторила девушка специально для нее. – Дикки Грэнлеф. Так ведь?
– Так, – улыбнувшись, сказал Том.
Спустившись вниз, он вспомнил вдруг о вечеринке Фредди Майлза в Кортине. Второго декабря. Почти месяц назад! Он собирался написать Фредди, что не приедет. Интересно, а Мардж там была? – подумал он. Фредди может показаться странным, что Том ему не написал, и Том надеялся, что хотя бы Мардж его видела. Нужно немедленно написать. В записной книжке Дикки был флорентийский адрес Фредди. Оплошность, но ничего серьезного, подумал Том. Но в будущем не следует забывать о таких вещах.
Том вышел в темноту и повернул в сторону освещенной, белой как кость Триумфальной арки. Странно было чувствовать себя таким одиноким и вместе с тем частью чего-то, как это было на вечеринке. Это ощущение снова к нему вернулось, когда он приблизился к заполнившей площадь перед Нотр-Дам толпе. Толпа собралась такая, что попасть в собор было невозможно, однако громкоговорители разносили музыку по всей площади. Французские рождественские гимны, названий которых он не знал. «Рождественская песнь». Торжественный гимн сменила веселая мелодия. Мужской хор. Французы, стоявшие рядом с Томом, сняли шляпы. Он тоже обнажил голову. Он стоял выпрямившись, с серьезным выражением лица, но, если бы кто-то к нему обратился, готов был улыбнуться. Он чувствовал себя так же, как на пароходе, только чувства его были более глубоки, он был исполнен доброжелательности – настоящий джентльмен с ничем не омраченным прошлым. Он был Дикки, добродушным, наивным Дикки, готовым улыбаться всем и каждому, готовым дать тысячу франков тому, кто обратится к нему с просьбой. Когда он покидал площадь, какой-то старик и вправду попросил у него денег, и Том вручил ему хрустящую голубую банкноту в тысячу франков. Старик расплылся в улыбке и коснулся рукой своей шляпы.
Том чувствовал, что немного голоден, хотя, в общем-то, сегодня готов был лечь голодным. Полежать часок с итальянским разговорником и заснуть. Тут он вспомнил, что решил прибавить в весе фунтов пять, потому что вещи Дикки были ему чуть свободны, да и на лицо Дикки был поплотнее, поэтому Том остановился возле бара и заказал сандвич с ветчиной и стакан горячего молока, потому что стоявший возле него у стойки мужчина пил горячее молоко. Молоко оказалось почти безвкусным, чистым и бодрящим. Наверное, такой же вкус у церковной просфоры, подумал Том.
Он с комфортом ехал в поезде из Парижа, остановившись на ночь в Лионе, а затем в Арле, чтобы посмотреть те места, которые рисовал Ван Гог. Он сохранял бодрую невозмутимость, невзирая на очень плохую погоду. В Арле дождь с холодным северо-западным ветром промочил его насквозь, когда он пытался найти те самые места, где бывал Ван Гог. В Париже Том купил прекрасный альбом с иллюстрациями Ван Гога, но не решался раскрыть его под дождем и несколько раз возвращался в гостиницу, чтобы удостовериться, то ли это место. Он осмотрел Марсель, нашел его скучным, кроме разве что Каннебьера, и отправился поездом дальше на восток, останавливаясь на день в Сен-Тропе, Каннах, Ницце, Монте-Карло, – он слышал обо всех этих местах, а когда увидел их, ощутил их невероятную духовную близость, хотя в декабре небо было покрыто серыми зимними облаками, и даже в Мантоне, в канун Нового года, не было видно толп веселящихся людей. Том в своем воображении населил эти места людьми, мужчинами и женщинами в вечерних туалетах, спускающимися по широким ступеням игорного дома в Монте-Карло, в ярких купальных костюмах, легких и блестящих, как на акварелях Дюфи, гуляющими под пальмами вдоль бульвара Дезанглэ в Ницце. Это были американцы, англичане, французы, немцы, шведы, итальянцы… Любовь, разочарование, ссоры, примирения, убийства… Лазурный Берег восхитил его – как никакое другое место из тех, что ему доводилось видеть. Такой изящный изгиб береговой линии, и названия на нем словно бусинки – Тулон, Фрежюс, Сен-Рафаэль, Канны, Ницца, Ментона, Сан-Ремо…
Когда он вернулся четвертого января в Рим, его ждали два письма от Мардж. Она сообщала, что первого марта уедет из своего дома. Книгу свою она так и не закончила, но три четверти ее вместе с иллюстрациями отослала американскому издателю, который заинтересовался ее предложением еще прошлым летом. Она писала:
«Когда я тебя увижу? Мне бы очень не хотелось проводить лето в Европе, после того как я пережила такую ужасную зиму, но я думаю, что в начале марта поеду домой. Наконец-то я соскучилась по дому! Дорогой, было бы замечательно, если бы мы поехали домой на одном пароходе. Есть такая возможность? Я в этом не уверена. Неужели этой зимой ты не поедешь в Штаты хотя бы ненадолго?
Я думала о том, чтобы отослать весь свой скарб (восемь мест багажа, два чемодана, три ящика с книгами и прочее) медленным пароходом из Неаполя и приехать в Рим. Если бы ты был в настроении, мы могли бы опять проехать вдоль побережья и посмотреть Форте-деи-Марми, Виареджо и другие места, которые нам нравятся, – посмотреть в последний раз. Мне все равно, какая будет погода, но я уверена, что погода будет ужасной. Я не буду просить тебя провожать меня до Марселя, где я сяду на пароход, но как насчет Генуи??? Что ты на этот счет думаешь?..»
Другое письмо было более сдержанным. Том знал почему: за месяц он не прислал ей даже открытки. Она писала:
«Передумала насчет Ривьеры. То ли сырая погода отняла у меня силы, то ли книга. Как бы там ни было, я уезжаю из Неаполя в Америку 28 февраля пароходом „Конститьюшн“ и сходить с него нигде не буду. Американская еда, американцы, напитки, доллары… – не мне тебе говорить, дорогой. Жаль, что не встречу тебя. Из твоего молчания я заключаю, что ты по-прежнему не хочешь меня видеть, поэтому выброси все из головы. Считай, что меня нет.
Конечно, я очень надеюсь увидеться с тобой снова в Штатах или где-нибудь еще. Если на тебя что-то найдет и ты появишься в Монджи до 28-го, знай, что тебя здесь ждут.
Всегда твоя,
Мардж.
P. S. Даже не знаю, в Риме ли ты еще».
Том представил себе, как она со слезами на глазах пишет это письмо. У него вдруг возникло желание сочинить ей очень любезное письмо, сообщить, что он только что вернулся из Греции, и спросить, получила ли она две его открытки? Но будет безопаснее, подумал Том, если дать ей возможность уехать, пока она не знает, где он. Он ничего не стал писать.
Единственное, что доставляло ему некоторое беспокойство, – это то, что Мардж могла приехать в Рим повидаться с ним, прежде чем он найдет квартиру. Прочесав несколько гостиниц, она сможет разыскать его, а вот квартиру ни за что не найдет. Согласно одному из пунктов «Penesso di Soggiorno»,[36] состоятельные американцы не обязаны сообщать о своем местожительстве в questura,[37] тогда как все остальные обязаны докладывать полиции о перемене адреса. Том как-то разговорился с американцем, жившим в Риме, и тот рассказал, что не имел никаких дел с questura и его никогда не беспокоили. Если Мардж неожиданно нагрянет в Рим, у Тома в шкафу было достаточно и собственной одежды. Единственное, что в нем изменилось, – это цвет волос, но это можно объяснить пребыванием на солнце. Стоит ли волноваться? Том запасся поначалу карандашом для бровей – у Дикки брови были длиннее и немного приподнимались на концах, а кончик носа удлинял с помощью воска, но потом решил, что это бросается в глаза. Самое главное в перевоплощении, думал Том, темперамент и настроение перевоплощаемого человека, выражение лица. Все прочее не столь важно.
Десятого января Том написал Мардж, что вернулся в Рим после трехнедельного пребывания в одиночестве в Париже, что Том уехал из Рима месяц назад, по его словам – в Париж, а оттуда в Америку, хотя в Париже он с Томом не встретился, и что квартиру в Риме он еще не нашел, но продолжит ее поиски и сообщит ей свой адрес, как только где-нибудь поселится. Он от души поблагодарил ее за рождественский подарок: белый свитер с красными полосами, который она связала сама и примеряла на Дикки, альбом по искусству живописи Quattrocento[38] и кожаный несессер для бритья с инициалами «Г. Р. Г.». Посылка пришла шестого января, поэтому Том и решил написать: он вовсе не хотел, чтобы она думала, что он не получил посылку, или вообразила, будто он испарился в воздухе и начала его поиски. Он поинтересовался, получила ли она посылку, которую он отправил из Парижа. Возможно, посылка задержалась. Было бы жаль, если так. Далее он писал:
«Я снова занимаюсь живописью с Ди Массимо и очень доволен. Я тоже по тебе скучаю, но если ты еще в силах сносить мои эксперименты, то я предпочел бы не видеться с тобою еще несколько недель (если только ты неожиданно не уедешь домой в феврале, в чем я по-прежнему сомневаюсь!), а к тому времени тебе, быть может, не захочется со мной встречаться. Передай привет Джорджо, его жене и Фаусто, если он еще там, а также Пьетро на пристани…»
Так отвлеченно, в таком мрачном тоне Дикки еще не писал. Это письмо можно назвать теплым, а можно – прохладным, но, в сущности, в нем ни о чем не говорилось.
Том нашел квартиру в большом доме на Виа Империале, близ Порта-Пинчана, и подписал договор аренды на год, хотя и не собирался проводить все время в Риме, тем более зимой. Ему просто был нужен дом, пристанище, потому что много лет у него его не было. А Рим – это шикарно. Рим – часть новой жизни. Когда он куда-нибудь приедет – на Майорку, в Афины, в Каир, – он обязательно скажет: «Да, я живу в Риме. У меня там квартира». Слово «квартира», на какой язык его ни переведи, говорит о многом, а квартира в Европе – это то же самое, что в Америке собственный дом с гаражом. Тому очень хотелось, чтобы у него была элегантная квартира, хотя гостей туда он приглашать не собирался. Телефон, даже незарегистрированный, он устанавливать не хотел, но решил, что телефон – скорее мера предосторожности, чем угроза, и потому подключил его. В квартире была одна большая комната, спальня, что-то вроде гостиной, кухня и ванная. Меблирована она была несколько витиевато, но в духе престижного района, в котором находилась, и вполне соответствовала тому образу жизни, который он намеревался вести. Плата зимой, в пересчете на американские деньги, составляла сто семьдесят пять долларов в месяц, включая отопление, летом – сто двадцать пять.
Мардж ответила восторженным письмом: она только что получила чудесную шелковую блузку из Парижа, чего никак не ожидала. Блузка ей в самый раз. Мардж писала, что на рождественском ужине у нее были Фаусто и чета Чекки, индейка была божественна, с глазированными каштанами, с подливкой из гусиных потрохов, был сливовый пудинг и все такое прочее, одного его не было. Что он сейчас делает и о чем думает? Стал ли счастливее? Фаусто мог бы заглянуть к нему по пути в Милан, если в течение нескольких дней он сообщит свой адрес или оставит записку в «Америкэн экспресс», сообщив, где Фаусто может его найти.
Том сделал вывод, что ее хорошее расположение духа объясняется тем, что она думает, будто Том уехал в Америку через Париж. Вместе с письмом Мардж пришло письмо от синьора Пуччи, который сообщил, что продал в Неаполе три предмета мебели за сто пятьдесят тысяч лир и что у него на примете потенциальный покупатель яхты, некто Анастасио Мартино из Монджибелло, который обещал сделать первый взнос в течение недели, а вот дом удастся продать разве что летом, когда снова появятся американцы. За вычетом пятнадцати процентов комиссионных сумма от продажи мебели составила двести десять долларов, и Том тут же отметил ее в ночном клубе, где заказал роскошный ужин, во время которого он сидел в изысканном одиночестве, при свечах, за столиком для двоих. Он, в общем-то, ничего не имел против того, чтобы ужинать и посещать театры в одиночестве, позволявшем ему сосредоточиться на образе Дикки Гринлифа. Он отламывал хлеб по кусочку, как это делал Дикки, вилку держал, как Дикки, в левой руке, глазел на другие столики и на танцующих с таким проникновенным и благожелательным восторгом, что официанту приходилось дважды повторять свой вопрос. Кто-то помахал ему из-за столика, и Том узнал американскую пару, с которой встречался на рождественской вечеринке в Париже. Он, в свою очередь, также их поприветствовал. Даже фамилию вспомнил – Соудерсы. В продолжение вечера он больше не смотрел в их сторону, но они уходили раньше его и остановились возле его столика, чтобы поздороваться.
– В одиночестве? – спросил мужчина. Он был немного навеселе.
– Да. Раз в году я встречаюсь здесь сам с собой, – ответил Том. – Отмечаю кое-какую годовщину.
Американец довольно безучастно кивнул, и Том понял, что мужчина не знает, что бы такое умное сказать, и чувствует себя неловко, как на его месте чувствовал бы себя любой американец из провинциального городка, столкнувшийся с космополитической уверенностью и достоинством, деньгами и хорошей одеждой, пусть даже эта одежда была на его соотечественнике.
– Вы, кажется, говорили, что живете в Риме? – спросила его жена. – Мы забыли, как вас зовут, но очень хорошо помним, что встречались с вами на Рождество.
– Гринлиф, – ответил Том. – Ричард Гринлиф.
– Ах да! – с облегчением произнесла она. – У вас здесь квартира?
Похоже, она собралась запомнить его адрес.
– В настоящее время я живу в гостинице, но собираюсь перебраться на квартиру, как только там закончится ремонт. Я остановился в «Элизео». Может, позвоните как-нибудь?
– С удовольствием. Через три дня мы уезжаем на Майорку, но у нас еще много времени!
– Буду рад вас видеть, – сказал Том. – Buona sera![39]
Снова оставшись один, Том вернулся к своим тайным мечтаниям. Надо бы открыть счет в банке на имя Тома Рипли и время от времени переводить туда по сотне долларов. Дикки Гринлиф пользовался услугами двух банков – в Неаполе и Нью-Йорке, – и на каждом счету у него было около пяти тысяч долларов. Он мог бы открыть счет на имя Рипли, начиная с пары тысяч, и внести туда сто пятьдесят тысяч лир, вырученных от продажи мебели в Монджибелло. Как-никак, ему приходилось теперь думать о двоих.
15
Том посетил Капитолий и Виллу Боргезе, тщательно исследовал Форум и взял шесть уроков итальянского языка у старика, жившего неподалеку, который вывесил в своем окне объявление о том, что обучает итальянскому. Том назвался вымышленным именем. После шестого урока Том решил, что знает итальянский не хуже Дикки. Он помнил наизусть несколько предложений, которые Дикки когда-то произносил. Теперь он знал, как нельзя говорить. Например: «Но paura che non с’е arivata, Giorgio»,[40] – произнес Дикки как-то вечером у Джорджо, когда они ждали Мардж, а она запаздывала. Следовало сказать «sia arrivata», в сослагательном наклонении, после выражения опасения. Дикки никогда не использовал сослагательное наклонение, а в итальянском к нему прибегают довольно часто. Том стал обращать на это внимание.
Том купил темно-красный бархат для портьер в гостиной – те, что достались ему вместе с квартирой, оскорбляли его вкус. Он спросил у синьоры Буффи, жены управляющего, не знает ли та швею, которая могла бы сшить портьеры, и синьора Буффи вызвалась сшить их сама. За работу она просила две тысячи лир – чуть больше трех долларов. Том заставил ее взять пять тысяч. Он купил несколько безделушек для украшения квартиры, хотя так никого и не приглашал, за исключением симпатичного, но не очень умного молодого американца, с которым встретился как-то в кафе «Греко», когда тот спросил у него, как добраться до гостиницы «Эксельсиор». «Эксельсиор» был по дороге к дому Тома, поэтому Том решил пригласить его выпить. Он собирался пригласить его на час – за это время можно было произвести на него впечатление, – а потом распрощаться навсегда, что Том и сделал, предлагая ему бренди, расхаживая по квартире и рассуждая о прелестях жизни в Риме. На следующий день молодой человек собирался уехать в Мюнхен.
Том тщательно избегал американцев, живших в Риме. Приглашая его в гости, они ожидали потом ответного приглашения. Он любил поболтать с американцами и итальянцами в кафе «Греко» и в студенческих ресторанчиках на Виа Маргутта. Свое имя он назвал только итальянскому художнику Карлино, с которым познакомился в таверне на Виа Маргутта, и сказал ему, что тоже рисует и занимается у художника Ди Массимо. Если полиция когда-нибудь заинтересуется деятельностью Дикки в Риме, возможно, уже после того, как Дикки снова станет Томом Рипли, на этого итальянского художника можно будет положиться – он скажет, что Дикки Гринлиф в январе занимался в Риме живописью. Карлино никогда не слышал о Ди Массимо, но Том описал его так ярко, что забыть его Карлино вряд ли уже сможет.
Он был один, но чувства одиночества не испытывал. Нечто подобное он уже пережил в канун Рождества в Париже: ему казалось, будто все наблюдают за ним, будто весь мир – его зрительный зал. Это чувство придавало ему сил, ибо любая ошибка могла привести к катастрофе. И он был совершенно уверен в том, что не допустит ошибки. Это наполняло его существование особой, сладостной атмосферой чистоты. Такое же чувство, думал Том, наверное, испытывает первоклассный актер, который убежден, что роль, которую он играет, лучше его не сыграет никто. Том был самим собой, и вместе с тем он был другим человеком. Он сознавал свою безупречность и был свободен, несмотря на то что контролировал каждый свой шаг. Но он уже не уставал после нескольких часов пребывания в этой роли, как это случалось поначалу. Ему не нужно было отдыхать, когда он оставался один. Теперь он был Дикки с того момента, как поднимался утром и шел чистить зубы, а зубы Дикки чистил, отставив локоть. Как и Дикки, он выскребал из яйца все его содержимое, а сняв с вешалки галстук, как и Дикки, неизменно вешал его на место и брал какой-нибудь другой. Он даже нарисовал картину в духе Дикки.
К концу января Том решил, что Фаусто, должно быть, уже побывал в Риме, хотя в последних письмах Мардж на этот счет ничего не говорилось. Мардж писала на «Америкэн экспресс» примерно раз в неделю. Она интересовалась, не нужны ли ему носки или шарф, потому что помимо работы над книгой у нее оставалось немало времени для вязания. Мардж всегда вставляла смешную историю про кого-нибудь из деревенских знакомых, чтобы Дикки не думал, будто она изводит себя из-за него, хотя именно так и было, и она наверняка не собиралась в феврале в Штаты, не предприняв еще одну отчаянную попытку увидеть его воочию, думал Том, потому и осаждает его длинными письмами, вязаными носками и шарфами, которые, как Том знал, уже высланы, хотя он и не отвечал на ее письма. Письма Мардж его отталкивали. Ему даже прикасаться к ним не хотелось: пробежав глазами, он разрывал их и швырял в корзину.
Наконец он написал:
«Я отказался от мысли снимать квартиру в Риме. Ди Массимо едет на несколько месяцев на Сицилию, и я, вероятно, поеду с ним, а потом съезжу куда-нибудь еще. Планы – самые неопределенные, но их преимущество состоит в том, что они свободны и отвечают моему расположению духа.
Не присылай мне носки, Мардж. Мне ничего не нужно. Желаю тебе большой удачи в Монджибелло».
У Тома был билет на Майорку – поездом до Неаполя, потом пароходом до города Пальма – в ночь с тридцать первого января на первое февраля. Он купил два новых чемодана от Гуччи в лучшем магазине кожаных вещей в Риме: один большой, мягкий, из кожи антилопы, другой – аккуратный, желто-коричневого цвета, из брезента, с кожаными ремнями. На обоих были инициалы Дикки. Том выбросил два своих самых потрепанных чемодана, а оставшийся, набитый одеждой, держал на всякий случай в шкафу в квартире. Ничего непредвиденного он не ожидал. Затопленная в Сан-Ремо лодка так и не была найдена. Том ежедневно просматривал газеты в поисках сообщений о ней.
Как-то утром, когда Том упаковывал чемоданы, кто-то позвонил в дверь. Он решил, что это агент какой-нибудь фирмы или просто кто-то ошибся. Возле звонка не было таблички с его именем. Он сказал управляющему, что такая табличка ему не нужна, потому что он не любит, когда приходят без предупреждения. Звонок прозвучал еще раз, но Том по-прежнему не реагировал на него, продолжая неторопливо упаковывать вещи. Он любил дорожные сборы, посвящал этому много времени, целый день, а то и два. Любовно складывая вещи Дикки в чемоданы, он то и дело примерял то какую-нибудь красивую рубашку, то куртку. Он стоял перед зеркалом и застегивал бело-голубую рубашку Дикки спортивного покроя с изображением морского конька, когда в дверь постучали.
Тому пришло в голову, что это может быть Фаусто, что это похоже на Фаусто – выследить его в Риме и сделать ему сюрприз. Глупо, сказал он про себя. Однако, когда он подходил к двери, ладони у него были холодные и потные. Он почувствовал, что слабеет, и эта-то нелепая слабость вместе с боязнью рухнуть на пол, где его потом и найдут бездыханным, заставила его дернуть изо всех сил за ручку двери, хотя он приоткрыл ее всего на несколько дюймов.
– Привет! – раздался в полутьме голос, явно принадлежащий американцу. – Дикки? Это Фредди!
Том отступил назад, раскрывая дверь.
– Он… Заходите. Его сейчас нет. Он вернется позже.
Озираясь, Фредди Майлз вошел в квартиру. Он вертел из стороны в сторону головой, демонстрируя свое безобразное веснушчатое лицо. «Как он, черт возьми, узнал, где я живу?» – подумал Том. Он незаметно снял кольца и положил их в карман. Что еще он тут может увидеть? Он скользнул взглядом по комнате.
– Вы живете вместе? – спросил Фредди, выпучив глаза, отчего его лицо приняло идиотское выражение, будто он был чем-то напуган.
– Нет. Я зашел сюда ненадолго, – ответил Том, небрежно снимая рубашку с изображением морского конька. Под ней была другая рубашка. – Дикки вышел поесть. В «Отелло», кажется. Не позднее трех вернется.
Фредди впустил в дом, должно быть, кто-то из Бюффи, подсказав, в какой звонок звонить, и добавив, что синьор Гринлиф дома. Фредди, наверное, сказал, что он старый приятель Дикки. Теперь нужно будет выставить Фредди из дома, не столкнувшись с синьорой Буффи, потому что та имела обыкновение громко произносить: «Buon’ giorno,[41] синьор Гринлиф!»
– Мы, кажется, встречались в Монджибелло? – спросил Фредди. – Тебя зовут Том? Я думал, ты приедешь в Кортину.
– Спасибо, не смог. Как там в Кортине?
– Отлично. А что случилось с Дикки?
– Разве он тебе не писал? Решил провести зиму в Риме. Он говорил мне, что писал тебе.
– Ни слова, хотя, возможно, он писал во Флоренцию. Но я был в Зальцбурге, и у него был мой адрес. – Фредди присел на край длинного стола, рискуя помять зеленую шелковую скатерть, и улыбнулся. – Мардж говорила, что Дикки перебрался в Рим, но у нее только адрес «Америкэн экспресс». Мне чертовски повезло, что я отыскал эту квартиру. Вчера вечером встретил в «Греко» одного человека, который случайно знает его адрес. А как насчет…
– Кто это был? – спросил Том. – Американец?
– Нет, итальянец. Молодой парень. – Фредди уставился на ботинки Тома. – У тебя такие же башмаки, как у нас с Дикки. Сносу нет, а? Свои я купил в Лондоне восемь лет назад.
На Томе были кожаные ботинки Дикки.
– Эти из Америки, – сказал Том. – Хочешь чего-нибудь выпить или попробуешь поймать Дикки в «Отелло»? Ты знаешь, где это? Ждать его нет смысла, потому что обычно он обедает до трех. Я скоро ухожу.
Фредди подошел к спальне и остановился, заметив на кровати чемоданы.
– Дикки куда-то уезжает или только что приехал? – обернувшись, спросил он.
– Уезжает. Разве Мардж тебе не говорила? Хочет какое-то время пожить на Сицилии.
– И когда?
– Завтра. Или сегодня ночью. Я и сам не знаю.
– Послушай, что это с Дикки в последнее время происходит? – нахмурился Фредди. – Что это он вдруг стал таким затворником?
– Говорит, очень много работал зимой, – не задумываясь, ответил Том. – Похоже, ему нужно уединение, но, насколько я знаю, он по-прежнему со всеми в хороших отношениях, включая Мардж.
Фредди еще раз улыбнулся и расстегнул свое просторное пальто.
– Если он меня еще раз подставит, со мной ему хороших отношений не видать. А ты уверен, что он в хороших отношениях с Мардж? Мне кажется, они поссорились. Должно быть, потому они и не ездили в Кортину.
Фредди выжидающе посмотрел на него.
– Этого я не знаю.
Том подошел к шкафу, чтобы взять свою куртку и дать тем самым Фредди понять, что он собирается уйти, но вовремя сообразил, что серый шерстяной пиджак, который сочетался с его брюками, Фредди мог опознать как вещь Дикки, если, конечно, он знал, во что Дикки одевается. Том достал свой пиджак и свое пальто, висевшие в дальнем конце шкафа. Плечи пальто оттопырились, будто висели на вешалке несколько недель, как на самом деле и было. Том обернулся и увидел, что Фредди пристально рассматривает браслет с инициалами на запястье его левой руки. Это был браслет Дикки. Том никогда не видел, чтобы Дикки его надевал, а нашел он его в коробке Дикки, где хранились запонки и прочие безделушки. Фредди смотрел на браслет так, будто уже видел его. Том надел пальто, не обращая на него внимания.
Теперь Фредди смотрел на него с другим, несколько удивленным выражением лица. Том понял, о чем он думает, и напрягся, предчувствуя опасность. «Опасность еще не миновала, – сказал он про себя. – Прежде всего надо выйти из дома».
– Пойдем? – спросил Том.
– Ты ведь тоже здесь живешь?
– Нет! – возразил Том, улыбнувшись.
Безобразное, покрытое веснушками лицо глядело на него из-под копны ярко-рыжих волос. «Только бы не столкнуться с синьорой Буффи внизу», – подумал Том.
– Пойдем.
– Смотрю, Дикки увешал тебя всеми своими украшениями.
Том не знал, что сказать, как отшутиться.
– Это я взял у него напрокат, – низким голосом ответил он. – Дикки это надоело, вот он и дал мне поносить.
Том имел в виду браслет с инициалами, но вспомнил, что есть еще и заколка для галстука с буквой «Г», которую он купил сам. Он чувствовал, как Фредди Майлз все более настраивается на воинственный лад, – казалось, от его огромного тела исходит агрессивность, которую Том ощущал, находясь в другом конце комнаты. Фредди был из тех, кто, как настоящий самец, готов побить всякого, кого он считал гомосексуалистом, особенно если условия к тому располагают. Том старался избегать его взгляда.
– Пойдем, – угрюмо проговорил Фредди, поднимаясь. Подойдя к двери, он обернулся. – «Отелло» недалеко от «Ингильтерры»?
– Да, – ответил Том. – Он должен быть там к часу.
Фредди кивнул.
– Рад был тебя видеть, – сухо проговорил он и закрыл дверь.
Том выругался про себя. Он приоткрыл дверь и прислушался к быстрым шагам Фредди, спускавшегося по лестнице. Он хотел удостовериться в том, что Фредди выйдет на улицу, не переговорив с кем-нибудь из Буффи. И тут же услышал голос Фредди: «Buon’ giorno, signora». Том перегнулся через перила. Он увидел рукав пальто Фредди тремя пролетами ниже. Фредди разговаривал по-итальянски с синьорой Буффи. Голос женщины звучал отчетливее.