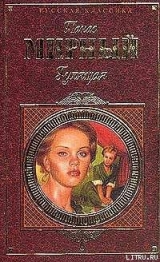
Текст книги "Гулящая"
Автор книги: Панас Мирный
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 31 страниц)
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Осеннее ненастье стояло на дворе. Дождь лил как из ведра, дороги раскисли и покрылись грязью. Низко нависли темные свинцовые тучи. Улицы тонули в густом белесом тумане, над землей весь день царил сумрак, и в нем, словно тени, сновали съежившиеся люди.
Вечерело. В домах зажигали свет, на улице один за другим вспыхивали фонари. Мутно-желтые круги колыхались в густом сумраке, тускло освещая клочок земли под самым фонарем, а дальше была непроглядная тьма. Слышно было шлепанье ног по лужам и проклятья по адресу непогоды, тьмы, грязи. Редкие прохожие спешили домой. Одни извозчики тарахтели на опустевших улицах, выкрикивая охрипшими голосами: «Подать?» Никто их не окликал, и в поисках седоков они ехали дальше.
Несмотря на такое ненастье и бездорожье, земский съезд был необычайно людным. Управа, словно костер, пылала сверху донизу мириадами огней. Во всех комнатах и коридорах толпились люди, то собираясь кучками, то снова расходясь, и гудели, как пчелиный рой. Тут и светлейшие князья, и вельможные паны, и богатые купцы, и наш брат – голь перекатная.
Что же заставило собраться сюда всех этих разношерстных людей из далеких и близких краев?
А вот увидим, послушаем.
Звонок давно уже сзывает гласных, рассеявшихся по всему зданию управы.
– Господа! Прошу занять места! – кричит председатель.
– Слышите, звонок! Хватит... – доносятся выкрики. Солидные тузы медленно проходят на свои места, а юрские мозгляки все еще усиленно жестикулируют, что-то горячо доказывая своим собеседникам. Седобородые сквозь очки внимательно оглядывают присутствующих, а толстопузые купцы пыхтят в толпе и вытирают пот большими кумачовыми платками. Только крестьяне в сермягах собрались кучкой у стены и смирно стоят, точно обвиняемые, которых собираются судить.
– Господа! Прошу занять места! Нам предстоит еще обсудить много вопросов... – снова кричит председатель.
– Слышите? – Гласные спешат на свои места. Звонок заливается, как расходившийся щенок.
Наконец все уселись.
– Господа! – начал председатель. – Нам предстоит сейчас рассмотреть вопрос о растрате бывшим членом управы Колесником двадцати тысяч земских денег. Прошу вашего внимания. Вопрос о растрате столь значительной суммы уже сам по себе достаточно серьезен, но он еще осложняется тем печальным обстоятельством, что, к стыду нашему, представляет не единичное явление.
– Но деньги ж эти уплачены, – неуверенно сказал кто-то в серой свитке.
– Да, деньги внесены. Но я вовсе не о том говорю. Я говорю о самом явлении. Оно столь часто начало повторяться за последнее время, что я просил бы вас обратить на это серьезное внимание и положить предел такому печальному положению.
– Какой же предел? Под суд вора – вот и весь предел.
– Прошу не перебивать меня.
– Послушаем.
– Господа! – побагровев, крикнул председатель. – Я лишу того слова, кто еще раз перебьет меня. – Он снова заговорил плавно и торжественно. Речь его лилась то как бурный поток, то затихала, чтобы через минуту снова обрушиться лавиной на слушателей, все сметая и сокрушая на своем пути. Он беспощадно осуждал воров, окидывал всех своим пронизывающим взглядом, словно хотел заглянуть в самую душу сидящих здесь.
– Таковы, господа, печальные последствия простой кражи – неуважение к чужой собственности, нарушение общественного спокойствия, шаткость религиозных убеждений. Но во сколько раз преступнее и позорнее растрата общественного добра! Нет, господа, нам нужно обелить себя в глазах честолюбивых интриганов, которые не задумаются бросить в нас комком грязи на глазах у всего света! Кому, как не нам, дворянам, стоящим на страже чести, взяться за это дело. И я, как дворянин, считаю своим священным долгом предложить вам, господа, некоторые меры, могущие служить для искоренения столь гнусного зла. Но прежде всего позволю себе спросить: какие причины, какие, так сказать, условия породили возможность появления среди нас такого рода личностей? Скажут нам: разве и в прежнее время не было этого? Разве чиновники не брали взяток? Да, брали, потому что получали нищенское жалованье, брали, чтобы с голоду не умереть, но не крали. Потому что чиновники – те же дворяне. А теперь? Наряду с нами сидят люди иных сословий, где понятие о честности еще недоразвито или как-то уродливо проявляется: обвесить, обмерить, обмануть другого не считается преступным. Что же вы хотите после этого? Руководствуясь таковым взглядом, я предложил бы следующую меру: очистить земство от того чуждого дворянству элемента, который, в особенности по уездам, прибрал к своим рукам все земские дела.
– Так это нас, Панько, по загривку и вон из хаты! – крикнул один из группы крестьян.
– Обрили вы нас, ваше превосходительство, нечего сказать, – поднявшись, сказал бородач в купеческом кафтане. – А двадцать тыщ заняли у меня из пяти процентов, тогда как мне давали десять, да вот уж пятый годок никак не истребуем.
– Тише, господа, я еще не кончил, – крикнул Лошаков и отчаянно зазвонил колокольчиком.
– Идем, Грыцько, пока не вытолкали в шею, – снова сказал кто-то, и крестьяне один за другим потянулись к выходу.
– Господа, тише! Стойте! Куда вы? – крикнул Лошаков.
– Куда? Домой!
– Я не позволю. Требую, чтобы вы остались. Вопрос очень серьезный.
– Нет такого закона, чтобы нас поносили на все лады да еще заставили слушать.
Крестьяне уже столпились у дверей, как вдруг в зал ворвался незнакомый человек. Одежда на нем была рваная, сухощавое лицо небрито, волосы растрепаны, а глаза горели, как у хищного зверя.
– Стойте, люди добрые! – крикнул он. – Я вам все по правде скажу. Ничему не верьте, все это брехня! Как раньше крали, так и теперь крадут и будут красть. Пока у одного добра много, а у другого – ничего, воровство не переведется! Это я вам правду говорю.
– Социалист! Нигилист! Арестовать его! – раздались крики; все вскочили с мест.
– Кто это? Кто?
– Это, господа, один сумасшедший, не очень давно выпущен из дома умалишенных, – сказал председатель управы.
– Кто он? – спросил Лошаков.
– Довбня... окончил когда-то курс семинарии.
– Ну, и верно, что социалист. Сторож! Позвать сюда полицейского, арестовать того господина.
– Эх, испугали! – крикнул Довбня и захохотал. – Я никуда не убегу. – Обратившись к крестьянам, он продолжал: – А вам, братцы, одно скажу: не верьте ничему – все ложь! Если и есть доля правды, то только у бедняков, зато им и хуже, чем всем.
В это время вошел полицейский. Довбню схватили за руки и поволокли из зала, хотя он сильно упирался и кричал. Крестьяне куда-то исчезли. Гостям, аплодировавшим Довбне, Лошаков предложил покинуть собрание. В зале поднялся невероятный шум; гласные разъяренно кричали, гости смеялись, кто-то вслух ругал Лошакова, кто-то свистал, и все заглушали шарканье и топот ног.
Зал быстро опустел. Посторонние все ушли, только гласные суетились и гудели, как пчелы, потерявшие матку. Но вот снова раздался звонок. Все затихли.
Лошаков начал свою речь с предложения уменьшить количество гласных из недворянских сословий и просить правительство запретить казакам и владельцам из мужиков быть самостоятельными выборщиками, с тем чтобы они, как государственные крестьяне, выбирали всей волостью. Заканчивая свою речь, он выразил надежду, что его предложение будет принято; если же кто-нибудь нашел лучший выход из создавшегося положения, пусть выскажется.
Собрание бурно рукоплескало красноречивому председателю. Несколько гласных подбежали к Лошакову и, кланяясь, горячо благодарили его. Другие кричали с места: «Что нам еще слушать? Лучшего предложения не надо. Ставьте на голосование!»
Вдруг поднялся какой-то взлохмаченный человек в синих очках с окладистой бородой.
– Я прошу слова! – крикнул он зычным голосом.
– Тише, тише, господа! – сказал Лошаков. – Вы желаете говорить? – спросил он, ехидно глядя на бородатого незнакомца в очках
– Не надо! Не надо! – загудели гласные. – Мы наперед знаем, что услышим одни порицания.
– Позвольте, господа! – крикнул Лошаков, поднявшись. – Не будем пристрастны. Может быть, господин профессор, как гласный от крестьянского общества, скажет нам что-нибудь в защиту своих избирателей.
– Не надо! Не надо! – не унимались гласные.
– Да позвольте же, не могу я лишить его слова.
– Не надо!
Лошаков зазвонил.
– Господа! – крикнул профессор. – Я не стану долго истязать вашего внимания, скажу лишь несколько слов. Я думаю, господа, что мы прежде всего – представители земства, а не какого-нибудь одного сословия, почему я и полагаю, что останавливаться только на сословных вопросах по меньшей мере неделикатно...
– Мы уже слышали... Не надо! Голосуйте. Вопрос так ясен, что в прениях нет надобности.
– Вы не хотите меня выслушать. Но, господа, я считаю для себя позорным участвовать в таком собрании, где нарушается свобода прений, возбуждается сословная вражда, причем обвиняющая сторона не дает возможности обвиняемой сказать что-либо в свое оправдание.
– Не надо!
– Я слагаю свои полномочия и удаляюсь, – сказал оратор и, с шумом отодвинув стул, вышел из зала.
– Скатертью дорога!
– Помилуйте! Что это такое? Приходишь в собрание – одни свитки и сермяги. Вонь, грязь, просто сидеть нет возможности.
– Сами себе назначают содержание, какое желают хозяева!
– Налоги вводят, какие им заблагорассудится, не считаясь ни с законом, ни с доходностью. Да к тому же еще и воруют земские деньги.
Такие возгласы и выкрики доносились со всех концов зала.
– Ну как же, господа? Никто не желает высказаться? – спросил Лошаков.
– Что тут говорить?
– Баллотируйте, и все!
– Помилуйте, уже одиннадцать часов, меня в клубе ждут партнеры.
– Господа, садитесь. Сейчас поставлю вопрос на голосование.
– Зачем? Единогласно!
– Единогласно! – загудели кругом.
– Против никого нет?
– Никого.
– Предложение принято единогласно. Поздравляю вас, господа.
– Закрывайте заседание. Главное разрешено, остальное можно отложить до следующего собрания.
– Да, я думаю, господа, что нам следует отдохнуть. Вот только еще вопрос о Колеснике.
– На завтра! На завтра! Сегодня поздно. Пора в клуб.
– Объявляю заседание закрытым. Завтра прошу пораньше, часов в одиннадцать, – сказал Лошаков.
Через десять минут зал опустел. В вестибюле и у подъезда давка, шум, суета.
– Извозчик! Давай!
– Карету генерала Н.!
– Эй, давай скорее!
Грохот железных шин о камни мостовой, дребезжание рыдванов, цокот копыт и гул, как в пчельнике...
Полчаса спустя и здесь все затихло. Вскоре начали гаснуть фонари. Здание управы постепенно тонуло в ночном сумраке. Казалось, обитатели его испугались того, что здесь произошло, и спешили погасить свет.
Когда свет погас в последнем окне, из-за колонны высунулась темная фигура и зашагала по невылазной грязи прямо через площадь. В непроглядной темени ночи слышалось только хлюпанье воды в лужах и невнятное ворчанье. В конце улицы под тускло горевшим фонарем замаячила какая-то тень. Это была женщина в дырявом и грязном платье. Ее голову и плечи закрывала рогожа. Незнакомка подошла вплотную к фонарю и начала вытирать башмаки.
– Вот это грязь! – произнесла она гнусавым голосом.
– Эй ты, безносая! Башмаки чистишь? – окликнул ее другой охрипший голос.
Женщина в рогожке начала озираться.
– Что, ослепла? – снова послышался охрипший голос.
– Ты, Марина?
– Я. Иди сюда – здесь не так сечет.
– А ты что, лучше? Нос – как труба, а вся в язвах, – огрызнулась женщина в рогоже и поплелась через мостовую на другую сторону улицы.
– Здорово! – сказала ей какая-то фигура в платке.
– Здравствуй, – прогнусавила в ответ первая.
– Где так измазалась?
– Около земства. На площади такая грязища, еле ноги вытянешь.
– Заработала что-нибудь?
– Заработаешь! В такую ночь хоть глаза выколи. А ты как?
– Да и я так же. Тут шел один пьяный...
– Ну и что?
– Прошел мимо.
Некоторое время обе стояли молча у забора.
– Я еще сегодня ничего не ела, – сказала та, что в рогоже.
– Разве тебя кормят через день? – смеясь спросила Марина.
– Нет. Сегодня совсем не варили...
Женщина в рогожке вздохнула.
– А слышала новость? – спросила она немного погодя.
– Какую?
– Твоего в полицию повели.
– Пьяного?
– Нет. Он обругал панов в земстве. Такой шум там поднял, что за полицией послали, насилу его увезли на извозчике.
– Так ему и надо.
– Кучера говорили, что ему за это тюрьма грозит или Сибирь.
– Дай Боже мне избавиться от этого пьянчуги.
– А все же ты сегодня ела.
– Не за его счет. Я и водку пила, так что? Он бы из рук вырвал, если б увидел.
– Все же лучше. Знаешь, Марина, что я надумала.
– А что?
– Домой уйду.
– Под забором сдыхать?
– А не все равно где?
– Тут у тебя хоть угол есть. А там кто тебя пустит?
Снова замолчали. Немного спустя издалека донесся какой-то неясный гул.
– Слышишь? – спросила Марина.
– Да.
– Пойдем, может, выгорит?
Марина двинулась вперед и запела тонким голосом:
Кабы да муж молодой
Хозяином был в хате!
А женщина в рогоже стала ей подтягивать сиплым голосом, точно поскрипывал сухой камыш:
Ой, гоп, до вечера!
Замыкайте, дети, двери.
Гоп! Гоп! Гоп!
Взяв Марину за руку, она начала отплясывать гопака.
– Стой! Не шуми! Расшибу! – крикнул на них прохожий, еле державшийся на ногах, и схватил за руку женщину в рогожке.
Марина пошла дальше. Пьяный что-то бормотал, ни к кому не обращаясь.
– Двугривенный не дашь, не пойду, – сказала женщина.
– Что мне твой двугривенный. У меня денег куры не клюют. Вот! – Он ударил по карману рукой. Послышалось дребезжание меди.
Они скрылись в темном переулке. Вскоре женщина в рогожке вернулась.
– Марина! – крикнула она.
– Чего тебе?
– Иди сюда.
Марина подошла.
– Ну что? Заработала?
– Двугривенный. Пойдем выпьем и закусим.
– А пьяного куда девала?
– Заснул под лавкой.
– Денег у него не осталось?
– Бог его знает. Он вперед дал.
– А ты, дура, сама не пошарила у него в кармане?
– Ну его!
– Где он лежит? Я пойду.
– Ушел. Ей-Богу, ушел.
– Врешь.
– Убей меня Бог. – Женщина махнула рукой, и рогожа упала с головы.
Она стояла около фонаря. Свет падал прямо на нее, освещая мокрое от дождя безносое лицо, потрескавшиеся губы, взлохмаченные волосы на голове.
Подняв рогожу и напялив ее на себя, она снова крикнула:
– Идем, говорю!
– Куда?
– А вот в шинке светится.
И обе женщины молча пошли по улице. Это были Христя и Марина.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
На следующий день Лошаков на чем свет стоит громил Колесника. Если бы душа покойного еще летала по свету, то, прослушав эту речь, она, верно, поспешила бы в ад, чтобы там, в кипящей смоле, искупить тяжелые грехи и преступления, которыми наделил ее Лошаков.
Заодно досталось и Христе, «этому продукту глубокого нравственного растления... куртизанке... камелии... кокотке...». Она была бы, вероятно, страшно удивлена, если бы узнала, что о ней помнят такие важные персоны.
А Лошаков заливался соловьем. Даже побледнел от чрезмерного усердия... Ведь он старался недаром: благодарное земство преподнесло ему Веселый Кут с тем, чтобы он в течение двадцати лет покрыл растрату Колесника.
После закрытия съезда Лошаков устроил пышный банкет. На нем присутствовали только дворяне. Пили и ели там не меньше, чем на пиру у Колесника, но уже не провозглашали тостов за единение, а больше за победу.
Мелкопоместное и служилое дворянство горячо благодарило Лошакова за то, что он протянул руку помощи своему брату-дворянину.
– ...А то совсем нас отстранили от дел. Разве мы раньше не служили, не работали? Мы были исправниками, и непременными членами, и судьями, и заседателями. Потом серое мужичье взяло верх... За здоровье нашего предводителя! За победу! – Многоголосое «ура» огласило стены дворянского собрания.
Слыхали ль вы, хлеборобы, в далеких селах и хуторах эти радостные выкрики ликующего дворянства? Нет, вам некогда было к ним прислушиваться. Работа, хозяйственные хлопоты и заботы отнимают ваше время, чтобы не пришлось зимой жить впроголодь. А земские дела вас мало интересуют – даже на выборах ваши гласные больше думали о своем. А теперь они привезли вам недобрые слухи о намерениях панов:
– Хотят нашего брата из земства выжить. Колют панам глаза серые свитки.
– Что земство? Только обирает нас, и все! – И снова разговор перешел на урожай, низкие цены на хлеб, нищенские наделы.
Зима. Земля скована морозом, укрыта снежными сугробами. По небу низко плывут зеленоватые тучи. Тоскливо, пустынно... Только ветер гудит над заснеженными просторами. Вокруг точно на кладбище; лишь кое-где торчит почерневший бурьян. Леса, потеряв свой пышный зеленый убор, выставили свои оголенные стволы и заиндевевшие сучья. Давно улетели певчие птицы, на токах сиротливо чирикают воробьи, да черный ворон, нахохлившись, жалобно каркает на высоком кургане.
Все живое попряталось в теплых хатах, не слышно песен, смеха, говора. Всюду – пустота, глушь.
С приходом зимы Христя еще сильнее страдала от голода и холода. Лохмотья, еле прикрывающие ее тело, – ненадежная защита от мороза, а пища – одни объедки с хозяйского стола да луковица с черствым хлебом. Когда было теплее, ночные похождения приносили ей порой пару двугривенных, а с наступлением холодов и это прекратилось. Кого встретишь в мороз и в метель? А тут еще Христя отморозила ноги. Горят и болят пальцы, а хозяйка посылает за версту к речке за водой.
– Не дойти мне. Я нездорова, – с плачем говорит Христя.
– А жрать здорова? А по ночам бегать здорова? Если не хочешь работать, убирайся к черту.
Делать нечего – Христя надевает какую-то рвань, берет ведра и уходит.
Однажды, чтобы скорее управиться, она не пошла к речке, а свернула к колодцу, хотя ей хозяйка запретила брать в колодце воду, – там она соленая и горькая.
«Выпьют. Черт их не возьмет!» – подумала Христя.
Вечерело. Пора самовар ставить, горячим чаем согреться, скоро хозяин вернется.
Христя поставила самовар и села доедать свой ужин – луковицу с сухарем. Вот и хозяин идет.
– Расселась тут, а самовар бежит, – крикнул он.
Христя бросилась в сени и принесла самовар. Хозяйка заварила чай, дети соскочили с печки, и все уселись за стол.
– Наливай, уже настоялся, – говорит хозяин.
Из чайника потекла какая-то мутная жижа.
– Ты, верно, из колодца воду брала?
– С какой это радости? – возразила Христя.
Хозяева попробовали чай.
– Врешь, – заорал хозяин. – Вода из колодца!
Христя молчала.
– Раз в день воды принести не можешь, дармоедка! – не унимался хозяин.
– Сам иди в такую вьюгу к речке! – не стерпев, огрызнулась Христя.
– А коли так – вон из моего дома, зараза!
– Куда я пойду, на ночь глядя?
– Хоть к черту в зубы! – крикнул хозяин и, схватив Христю за руку, потащил ее из хаты.
– Подожди. Дай хоть собраться.
Он отпустил ее, и Христя принялась напяливать на себя лохмотья и тряпье.
«Куда я денусь ночью?» – не покидала ее неотвязная мысль. Она не жалела о случившемся. Решение оставить этот дом созрело у ней давно. Смущало ее только, что на дворе ночь и ненастье.
Намотав на себя все, что только можно было, Христя остальное тряпье связала в узел и, вскинув его на спину, молча вышла из хаты.
Выходя из хаты, вдруг она услышала окрик хозяина.
– Эй! Подожди!
– Что еще?
– Возьми с собой свою воду! – крикнул хозяин.
– Подавись ею! – бросила ему в ответ Христя и не успела оглянуться, как холодная вода окатила ее с головы до ног. Потом хлопнула дверь, загремел засов, и все стихло.
Христя промокла до нитки. А тут еще позади послышался смех, шутки... Страшная злоба овладела ею. Она наклонилась, подняла кусок льда и запустила им в хату. Послышался звон разбитого стекла, шум, крики... Христя пустилась бежать и вскоре скрылась в темном пролете улицы. Мокрая и холодная одежда липла к телу. А где ее высушить?
Она уже была на другом конце города, когда мелькнула тревожная мысль: куда же идти?
Безнадежность и отчаяние охватили ее. Она опустила свой узел около забора и села на него... «Куда теперь?» – «В Марьяновку, – точно подсказал ей какой-то голос, – там твоя родина, земля, дом... Там не околеешь с холоду. Туда, туда, в Марьяновку!»
«Но не ночью же идти туда... Заблудишься, дороги не найдешь, замерзнешь в поле. Днем – другое дело».
Невдалеке раздался свисток ночного сторожа. Вот он и сам показался в длинном тулупе.
– Ты кто? Чего тут сидишь? – спросил сторож.
– А куда ж мне деться?
– На место поступить, работать. Шлюха! Уходи отсюда, а то я тебя!
Христя взяла узел и поплелась дальше. Вслед ей раздался пронзительный свист сторожа – ей казалось, что он проник в самую глубину ее опустошенной души.
Она плелась все дальше и дальше, заглядывая то в одни ворота, то в другие, как заблудившаяся собака в поисках убежища. Но все ворота и калитки на запоре, дома выстроились, как немые сторожа. Сквозь замерзшие стекла окон проникает свет, доносятся пенье, говор, смех... «Хорошо там людям, тепло, уютно... и мне когда-то хорошо было, пока не измотали, не испоганили и выбросили на улицу, как ненужную вещь».
Острая жалость к себе охватила Христю. Не раз хотелось ей разбить эти освещенные окна, где люди блаженствуют. Пусть они знают, что на улице погибает человек!
А мороз крепчал. Христю пробирает дрожь, рук она уже не чувствует, а все идет, идет, не зная куда... Вот уже и окраина города, просторный выгон. Что ждет ее... неужели смерть на улице?
– Пусть будет, что будет! – решила она и пошла дальше, думая только о том, чтобы не сбиться с дороги.
Вдруг какой-то огонек замаячил в темноте: то блеснет, то скроется... Она пошла прямо на свет. Идти пришлось недолго... Замелькали хаты, показались огни.
«Пойду попрошусь. Неужели и здесь не пустят?» Она подошла к окну, приникла к замерзшему стеклу – ничего не видно. Однако слышится говор. Христя постучала.
– Кто там?
– Пустите, ради Бога, переночевать.
Говор затих.
Вот стукнул отодвигаемый засов, дверь распахнулась, и на пороге появился солдат.
– Что тебе?
– Нельзя ли у вас переночевать?
– Эй, Маринка, женщина просится переночевать.
– Пусть идет дальше. Нам и самим тесно.
– Марина! Неужели и ты меня не пустишь? – взмолилась Христя, узнав голос подруги.
– Кто это? – удивленно спросила Марина.
– Это я – Христя.
– Куда же ты?
Христя вошла в хату. Сбросив с себя лишнюю одежду, она поскорее забралась на печь, чтобы хоть немного согреться.
Марина сидела около маленькой лампочки и что-то шила. Солдат мешал ей, шутил, смеялся. Марина сердилась, ругала его, колола иголкой.
– Смотри, глаза выколю! – говорила она угрожающе.
– Не буду, не буду! Оставь!
Христя не обращала на них внимания. Она с жадностью впитывала в себя тепло, которое постепенно разливалось по ее телу. Вместе с теплом она обрела покой и тихую радость... Незаметно подкрадывается сон, мысли путаются, теплые волны обволакивают тело... Христя и не заметила, как уснула.
Проснулась она не скоро. Тихо. Марина сидит одна, по-прежнему склонившись над шитьем.
– Ты еще не ложилась, Марина? – спросила Христя.
– Уж светает. Ну и крепко ты спишь.
– Перемерзла сильно, вот и заснула. Ох!.. Собираться мне пора.
– Куда?
– Да куда ж? В Марьяновку.
– В такую стужу?
– Что делать? Хозяин прогнал... куда же мне деться?
– А в Марьяновке к кому ты пойдешь?
– У меня там своя хата.
– Она, верно, давно развалилась.
– Да старой уж нет. Шинок выстроили на этом месте.
– Надеешься, что шинкарь тебя пустит?
– А не пустит – черт с ним! Найду на него управу. Это ж мое родовое добро.
– Какого черта! Вы ж панские. Вам дали надел, не стало вас, общество и передало ваш надел другому.
– Ты шутишь, Марина? – испуганно спросила Христя.
– Не шучу. Разве ты порядка не знаешь?
Христя стала молча глядеть на тусклый свет коптилки, ошеломленная словами Марины, отнимавшими у нее последнюю надежду.
– Я правду говорю, не сомневайся, – подтвердила Марина.
Христя тяжело вздохнула.
– Мой надел передали Здору, он примет меня.
– Зачем ты ему нужна?
– Что же мне делать?
– Поздно... ничем уж горю не поможешь.
Христя задумалась. Перед ее глазами возник бесконечный путь... скитания бездомной собаки, голод и холод и, вероятно, смерть где-нибудь под забором.
Марина тоже думала о печальной судьбе Христи и о том, что и ее ждет не лучшая доля на скользком пути, по которому она идет.
Обе – и Марина и Христя – чувствовали досаду и злобу и на себя за то, что загубили свои молодые жизни, и на людей, которые толкнули их в эту пропасть.
Мутный рассвет с трудом проникал в хату сквозь замерзшие стекла. Христя поднялась и начала собираться в дорогу. Марина сидела молча, точно окаменевшая.
Христя закуталась и взяла свой узел.
– Прощай, Марина, спасибо за приют.
Христя встала. Марина так и не поднялась, словно приросла к месту. Уже совсем рассвело, лампочка чадит, давно пора ее погасить, но Марина ничего не замечает. Не от этого ли чада разболелась у нее голова? Она потушила свет и забралась на печь.
А Христя шла по дороге, не озираясь на город, который было поднял ее высоко, потом кинул в такую бездну, что уж ей не выкарабкаться оттуда. Думала-гадала о том, как ее встретят в Марьяновке. Перед ней раскинулась бескрайняя степь под белоснежным покровом, только темнела извилистая лента дороги да порою покажется холм, овраг или перелесок, усеянный вороньими гнездами. Иногда встречаются и путники, больше вблизи сел. Кто идет в город, кто – на мельницу, а минешь село – снова глушь, пустыня, вороний грай.
Христя шла по столбовой дороге, чтобы не заблудиться; да и людей здесь больше осело: часто встречаются села, хутора. Если невмоготу станет, есть хоть куда зайти погреться. Только бы добраться до города Н., оттуда она уже хорошо знает дорогу в Марьяновку. И она вспомнила, как впервые шла в город с Кирилом. Давно это было, а кажется, будто только вчера.
Все ее наводило на мысли о Марьяновке. Когда ей приходилось где-нибудь проситься на ночевку, каждая хата своим видом и убранством вплоть до последнего гвоздика напоминала родное село, незабываемые дни детства. И сейчас все мысли и надежды Христи были устремлены к дому. Этот клочок земли казался ей теперь единственным пристанищем и утехой. Пусть ее там судят и карают – она на все согласна. На родном пепелище она искупит свои тяжкие грехи, и земля, где она родилась и выросла, примет ее останки.
Христя торопилась, не щадя своих слабеющих сил. Мерзла, голодала, чуть не падала от усталости... тут немного согреется, там выпросит ломоть хлеба, отдохнет – и снова в путь.
На пятый день она добралась до Н. Знакомые места, улицы, по которым она ходила, дома, где жила, – все ей напоминало прошлое. Вот дом Загнибиды – он до сих пор пустует и уже скоро развалится. В нем она узнала впервые людскую несправедливость и жестокость. А вот и дом Рубца – он почти не изменился. Вот окно, в котором она в первый раз увидела Проценко. За этим окном она узнала первые радости любви и муки раскаяния. Там она сделала первые шаги по тому скользкому пути, который довел ее...
Теперь она идет в Марьяновку, а зачем? Что ей суждено, то и будет!
На окраине города она попросилась в кривобокую хатенку переночевать, с тем, чтобы чуть свет отправиться в Марьяновку. Она уже чувствовала горький запах дыма над хатами, видела кривые улицы, знакомых односельчан. Жив ли еще Супруненко, не доконала ли его Ивга? А Федор, Горпына? Здоры... хорошо бы к ним попроситься, да больно уж большими барами они стали... Не пойду к ним. А где теперь Кирило и Оришка? Напророчила мне беду, ведьма проклятая. С того времени все и свалилось на меня...
До рассвета не спала Христя, раздумывая о Марьяновке, знакомых, печальной судьбе своей. Что ждет ее теперь в родных местах?
По знакомому большаку шла Христя домой. Тучи расступились, и солнце, вырвавшись из неволи, светило особенно ярко на небесной лазури. Ослепительно сверкали заснеженные поля, так что глазам было больно. А мороз такой, что дыхание захватывает. Он словно боролся с солнечным теплом. Откуда взялось оно – непрошеный гость? Кликнул мороз на помощь своего непоседливого брата – ветер, а теперь лютует, что тот где-то задержался, закутал землю туманом, сковал инеем леса, образовал наледи на крышах, расписал узорами стекла... Христе еще не приходилось быть на таком морозе – сквозь лохмотья он добирался до ее тела, опушил инеем брови и ресницы. Христя шла быстро, притоптывала, чтобы хоть немного согреть закоченевшие ноги. Надежда вскоре добраться до уюта и тепла придавала ей силы, и она неустанно шла вперед.
Был уже полдень. На горизонте замаячил хутор Осипенко, окруженный ометами соломы. Вспомнилась Марья – где она, дома живет или скитается по свету? Надо зайти к ним погреться. Если Марья дома, она будет рада увидеть ее. Марья была так добра к ней и теперь, верно, накормит ее. А Христя еще сегодня ничего не ела.
Холод, мороз и желание видеть Марью подгоняли Христю, и она еще ускорила шаги. Скорее, скорее! Вот какая-то дородная молодица, легко одетая, несмотря на холод, тянет ведро из колодца. Скрипит журавль. Подняв свою ношу, он снова опускается. Красными, как бураки, руками снимает молодица ведро с деревянного крюка и уж собирается уйти в хату. Скорее, скорее! А то некому будет собак отогнать – они здесь такие злые.
Христя добежала до плетня. Она уже отчетливо видит белолицую полную женщину с черными глазами и бровями. Да это ж Марья! Сам Господь прислал ее!
– Здравствуй, Марья! – крикнула Христя как раз в то мгновенье, когда та уже собиралась войти в хату.
Марья поставила ведро на землю и с удивлением глядела на оборванную нищенку.
– Не узнаешь? – спросила Христя, подойдя ближе.
Марья недоумевающе пожала плечами.
– Не узнаю, – сказала она.
– Меня никто не узнает. Пусти, ради Бога, погреться, там разглядишь.
– Идите, – сказала Марья, легко подняв полное ведро, точно игрушку.
В хате чисто, прибрано, а тепло, как в бане.
– Кто там? Свой или чужой? – послышался мужской голос с печи.
– Будто свой. Только никак не могу узнать. Погреться просит.
– Что ж, можно. В хате тепло, а на печи и вовсе душно, – спускаясь с печи, сказал Сидор.
– А ты бы еще полежал, – смеясь, говорит Марья.
– Чего ж ты стоишь у порога? – обратился Сидор к Христе. – Раздевайся и лезь на печь, если замерзла.
Христя не знает, как ей быть. Снять ли тряпье, которым она закутана до самых глаз, или нет? Как показать людям свое изуродованное лицо?
– Не узнаете, пока сама не скажу, – робко произнесла Христя, развязывая рядно.
– А нос ты отморозила или откусил кто? – спросил Сидор.
– Отморозила, – сквозь слезы ответила Христя.
Сидор умолк, а Марья так и впилась глазами в Христю.
– Где-то я тебя видела, – сказала она неуверенно, – но где, никак не вспомню.
– Рубца знаете?
– Ну?
– Мы служили у него вместе.
– Христя?! – воскликнула Марья. – Боже мой! Где ж ты была и куда идешь?
Христя молчала.
– Какая ж это Христя? – спросил Сидор.








