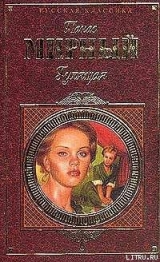
Текст книги "Гулящая"
Автор книги: Панас Мирный
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
Под навесом бесчисленное количество стульев, скамей, искусно сплетенных из лозы диванчиков. На крытой просторной веранде множество столов, круглых маленьких столиков и ломберных – для карточной игры. На высоких и низких подставках стоят свечи в металлических подсвечниках.
Столы ломились от напитков и яств; были на них также искусные изделия из стекла, в которых переливались волны света. А напротив высилась эстрада с круглой кровлей, густо обвитая хмелем. На ней разместился полковой оркестр, который заполнял своими звуками небольшой сад.
Мала пташка, но какие красивые перья на ней! Невелик и сад, а сколько там народу собралось. И все пышно наряжены – сукно и шелка, бархат и золото так и мелькают в толпе. Вот идет большая группа барышень; шажки их так мелки – и перепелка с ними не сравнится. Их замысловато сшитые платья, в сборках, складках, плотно облегают их фигуры, самым выгодным образом обрисовывая плечи, груди, руки; на ногах у них маленькие туфельки на высоких острых каблуках – горе тому, кто попадет под них! Руки туго затянуты в лайковые перчатки, так что и пальцев согнуть нельзя. Щеки горят – неизвестно только: от горячей крови или румян. Глаза сверкают, как драгоценные каменья в золотых сережках. Голоса у них нежные, певучие, так и влекут к себе. Недаром их окружила целая толпа кавалеров. С длинными и короткими бородами, в широких плащах, с соломенными шляпами, сдвинутыми на затылок, льнут они к барышням, заглядывают им в глаза, размахивают руками, ведут веселый разговор, стараясь блеснуть острым словечком, вызывают то искренний, то притворный смех.
Хотя в саду уже было много людей, народ все еще продолжал прибывать. Явились и приезжие. С важным видом выступают дворянские и земские столпы, жмурясь от непривычного яркого света, в сопровождении многочисленной свиты прихлебателей и поклонников. Встречаясь со своими давними городскими приятелями, с которыми им смолоду пришлось вместе служить, они удивленно оглядывают друг друга.
– Неужели это вы, Иван Петрович?
– Он самый. А вы, простите, кто будете?
– Неужели не узнаете? Сидор Тимофеевич.
– Сидор Тимофеевич! Боже мой!..
И старые приятели обнимаются, целуются... Начинаются разговоры о житье-бытье. Вспоминают прошлое, смеются, вздыхают... Чего только не было!.. Всюду шум, гам, крики, стук.
Но вот снова заиграл полковой оркестр. Резкими и высокими звуками заливались флейты и кларнеты; протяжно гудели трубы и фаготы; звонко бьют литавры; турецкий барабан стонет и ухает. Все смешалось – и звуки музыки и говор, и шарканье ног, – ничего не разберешь – все гудит, трещит, лязгает, завывает, точно зимняя метель. А народу набралось всюду – и на веранде, и в темных аллеях парка, и в глухих углах – видимо-невидимо.
Умолк оркестр. Отчетливей слышен людской говор. Сидящие за столами торопят официантов скорей подавать. Одни пьют чай, другие толпятся у киосков, где торгуют пивом; третьи пошли в буфет выпить водки. Просторней стало на дорожках. Столпы тихо беседуют.
– Что такое? Только и слышно: интересы крестьянства... интересы крестьянства того требуют... Да разве все дело в крестьянстве? Разве исторические судьбы государства им создавались?... Это черт знает что такое! Если мы, культурные элементы, не выступим вперед и не заговорим о диком разгуле демагогии, что же тогда ожидает государство? Оно потонет, должно потонуть в разливе самой страшной революции. Мы должны стоять на страже и предупредить!.. – глухо говорил столп.
– Но позвольте. Чего же вы хотите? – перебил его низенький щуплый человек в широкополой соломенной шляпе, закрывавшей густой тенью все его лицо. – Ведь это одни только общие места, которые мы уже около десяти лет слышим из уст охранителей! Вы определенно формулируйте свои желания.
– Извольте, – грубым голосом начал столп, бросив презрительный взгляд на маленького человека. – Во-первых, мы требуем, чтобы нас выслушали, а для этого необходимо дать нам преобладающее значение хотя бы в таком незначительном органе самоуправления, как земство. Помилуйте: не только в уездных управах избраны председателями полуграмотные писаря, эти истинные пиявки народные, но и в губернскую управу втиснули членом какого-то ремесленника.
– Вы, значит, признаете недостаточным такое самоуправление? Желали бы большего?... Английская конституция с ее лордами вас привлекает?
Столп что-то грубо загудел в ответ и вскоре скрылся вместе со своим собеседником в темной гуще акаций, скрывавших глухую тропинку.
– А слышали. Слышали? Наш-то Колесник за сорок тысяч имение купил. Вот она новая земская деятельность... строительство гатей, плотин, мостов!..
– Да, да!.. Нам необходимо принять меры... стать в боевое положение. И так уже долго мирволили всяким либеральным влияниям. Вы слышали проект нашего губернского предводителя дворянства? Государственного ума человек! Нам нужно его поддержать. Он все проведет!
Другая пара тоже скрылась под акациями.
– Чего ж эта бестия Штемберг тянет? Не подпустил ли жучка? – раздался охрипший голос из беседки.
– А что?
– Объявил, шельма: арфистки будут. Что же он их до сих пор не показывает? Давай, братцы, вызовем Штемберга.
И через минуту раздались громкие хлопки.
– Штемберга! Штемберга!.. Что же это он, чертов сын! Где его арфистки?... Арфисток подавай! Арфисток! Го-го-го! Го-го-го! – заревело сразу несколько голосов, грубых и визгливых.
Народ так и хлынул к беседке. Что там случилось? Среди толпы замелькали металлические пуговицы и жгуты полицейских мундиров.
– Позвольте, господа! Позвольте! Дайте дорогу! – расталкивая людей, покрикивал частный пристав.
– Господа! Прошу вас не скандальничать! – обратился он к сидевшим в беседке.
– Проваливай!.. Штемберга!
– Господа! Прошу не кричать!
– А-а... Федор Гаврилович! Наше вам! Просим покорно, заходите... Выпьем, брат! – подойдя к приставу, крикнул высоченный бородатый купец и одним махом втащил пристава в беседку.
Крик там затих, слышался только неясный говор и отдельные возгласы:
– Выпьем! Наливай, брат!
Народ начал расходиться; слуги, целой стаей бросившиеся к беседке, когда оттуда донесся крик, начали расходиться. Один только худощавый и не очень опрятно одетый пан стоял около беседки и смотрел на пьяное гульбище. Его высокая фигура сгорбилась, жиденькие рыжеватые бакенбарды свисали космами с впалых щек; концы их уже поседели; запавшие глаза сурово глядели из-под торчавших бровей. Заложив руки за спину и опершись на высокий парусиновый зонт, он точно ждал кого-то. Немного спустя из беседки вышел пристав, красный как рак.
– Федор Гаврилович! – бросился к нему пан.
Пристав остановился, вытаращив глаза.
– Кажется, я не ошибся? Имею честь говорить с Федором Гавриловичем Кнышем? – сказал пан.
– Ваш покорный слуга, – звякнув шпорами и слегка поклонившись по-военному, ответил пристав.
– Не узнаете? Так, так... – усмехнувшись, сказал пан.
– Извините, пожалуйста... не узнаю...
– А помните, когда вы были секретарем в полиции, как мы вместе с вами и капитаном Селезневым пулечку закладывали? Давно это было... Верно, забыли уже Антона Петровича Рубца?
– Антон Петрович! – крикнул удивленный пристав, подавая обе руки старому приятелю. – Боже мой! И постарели же вы, изменились, ни за что узнать нельзя! – сказал Кныш.
– Время берет свое! – глухо произнес Рубец. – А вот вы помолодели. И как вам идет эта форма!
– Как видите, переменил службу... Жена приказала долго жить.
– Слышал, слышал...
– Махнул на все и в приставы пошел.
– Тяжелая служба! Хлопотливая! У всех на виду.
– Все бы это ничего, только поспать некогда.
– Да, да... Опять же это... – Рубец кивнул головой на беседку, где снова поднялся невероятный шум. – Другим гулянье, веселье... а ты за всем присматривай, чтобы не очень-то разгулялись.
– Это наши купчики раскрутились. Что с ними поделаешь? Знакомый народ, в моей части живут.
– Так, так... Кому гульня, а кому служба.
– Ну, а вы как? Все на старом месте? Что это вы к нам пожаловали?
– Вы слышали, что капитан умер? – сказал Рубец. – Умер, сердешный, царство ему небесное... И меня на его место выбрали.
– Так вы уж в земстве служите?
– Пенсию небольшую выслужил... В отставку вышел. А все-таки не хочется сидеть сложа руки... Привычка, знаете... Захотелось еще обществу послужить. Спасибо добрым людям, не обошли: выбрали на место капитана. Помаленьку живем...
– Так вы сюда на выборы приехали?
– На какие там выборы? Господь с ними!
– По своим делам?
– Да нет же... После выборов – земский съезд... Меня, видите, выбрали губернским гласным.
– Вот как! – сказал Кныш. – Поздравляю.
– Спасибо! Хотя и поздравить не с чем; хлопот и расходов больше; а все же – почет... Раз уж выбрали, надо хоть раз побывать на съезде... послушать, что умные люди говорят... Мы и у себя в городе на каждом собрании слушаем речи. Да то свои, знакомые, а тут со всей губернии... Шуму много ожидается. Будет ли только толк?
Кныш усмехнулся.
– А сейчас решил на ваши губернские чудеса взглянуть, – продолжал Рубец. – Потратил двугривенный, думаю, кого из старых знакомых встречу... И хорошо, что вас нашел. Скажите: не знаете ли вы случайно Григория Петровича Проценко? Он у меня когда-то жил.
– Как же, знаю. Он тоже в земстве служит: бухгалтер губернской управы, – ответил Кныш.
– Хотелось бы мне его повидать.
– Он тут в саду был. Я его видел... Да вот и он, – сказал Кныш, указывая на высокого, хорошо одетого человека, выходившего из ресторана. – Григорий Петрович!
Проценко неторопливо подошел, поздоровался с Кнышем и, не глядя на стоявшего рядом Рубца, спросил:
– Что нового?
– Узнаете земляка? – спросил Кныш, указывая на согбенную фигуру Рубца.
Проценко сквозь пенсне взглянул на него.
– Не узнаете? – глухо произнес Рубец. – Дело давнее...
– Кажется, Антон Петрович? Сколько лет, сколько зим! Здравствуйте! – Проценко протянул руку.
Пошли расспросы и воспоминания.
Проценко словно обрадовался, когда узнал, зачем Рубец приехал.
– Так и вы на съезд? Приятно, приятно видеть своих, – отбросив свою натянутость, приятельски заговорил Проценко. – А как хорошо меня кормила Пистина Ивановна! Здесь ни за какие деньги такой пищи не достанешь. Позвольте ж мне теперь угостить вас... не отказывайтесь, грешно вам будет... Вот мы втроем с Федором Гавриловичем выберем укромное местечко, посидим, старину вспомним.
– Человек! – крикнул Проценко. Официант со всех ног бросился на зов.
– Выбери лучшую и уютную беседку... Чаю, закуску... живо! – командовал Проценко.
Официант стрелой метнулся выполнять приказание.
– Проворный! – сказал Рубец. – У нас таких нет.
– Он только бегает скоро. А пока принесет, мы еще насидимся, – сказал Кныш.
Пока Рубец и Кныш вели беседу об официантах, Проценко стоял, повернувшись лицом к веранде, и свысока оглядывал прохожих.
– Мосье Проценко! Скажите вашей супруге, что я на нее сердита, – сказала ему молодая женщина, за которой увивалась большая группа офицеров, погромыхивая саблями и шпорами.
– За что это?
– Как же! Тянула, тянула ее в сад, а она ни за что не хотела пойти, – кокетливо глядя на него, сказала незнакомка, проходя мимо.
– Так вы женаты? – спросил Рубец.
– Уже полгода, как женился.
– А я и не знал. Поздравляю. Почему же вы один? Разве жена нездорова?
– Да нет... Она у меня домоседка.
Рубец хотел что-то сказать, но тут как раз прибежал официант.
– Готово-с! – сказал он, остановившись перед Проценко, и рывком бросил салфетку на плечо.
– Где? – спросил Проценко.
– Пожалуйте-с! – сказал он, побежав вперед.
– Куда же ты? – крикнул Проценко.
– Там-с! – сказал официант, указывая рукой на купу акаций, черневших вдали.
– На кой черт такую глушь выбрал? – сердито сказал Проценко.
– Здесь все заняты-с!
Проценко остановился.
– Пойдем. Там будет меньше любопытных глаз, – сказал Кныш, и все двинулись вслед за официантом.
В конце широкой аллеи, под сенью акации, чернела небольшая беседка. Дойдя туда, официант сказал:
– Здесь!
В беседке стоял стол, накрытый белой скатертью, на нем горели две свечи под стеклянными колпаками, вокруг стола стояли табуретки.
– Как тут уютно, – сказал Рубец.
– Так ты еще ничего не приготовил? – спросил Проценко.
– Что прикажете-с?
– Черт бы тебя побрал! Хоть бы чаю принес.
– Сколько прикажете-с?
– По старому обычаю... – вмешался Рубец.
– Пью раньше водочку, – закончил вместо него Кныш.
– Как хотите. Что же мы закажем? – спросил Проценко.
Начали совещаться. Кныш захотел битки в сметане, Проценко – перепелку, а Рубец сказал: пусть дают что угодно, только поскорее.
– Графин водки! Бутылку красного! Битков, перепелов, а третье... что есть у вас лучшее?
Официант, точно трещотка, начал сыпать названиями блюд.
– Дай мне котлеты, да по моим зубам, – сказал Рубец.
– Отбивных, пожарских? – снова затараторил официант. Рубец, не зная, какие ему заказать, растерянно озирался.
– Пожарских! – крикнул Проценко.
– Хорошо-с!
– Постой! Принеси пока графин водки, селедку, а если есть хороший балык, икра, тоже захвати.
В ожидании закуски старые приятели завязали обычную в таких случаях беседу. Проценко расспрашивал Рубца о городе, Пистине Ивановне, детях. Рубец отвечал не спеша, пересыпая речь пословицами и поговорками, как все уездные жители. Его речь затянулась бы надолго, если бы в это время официант не принес водку и закуску. Когда же засверкал на столе графин и приятно зазвенели рюмки, беседа сразу оборвалась; руки сами потянулись к рюмкам, глаза жадно поглядывали на ломтики жирного балыка, черную икру, отливающую серебром селедку.
– Будем! – сказал Проценко, поднимая рюмку.
Приятели чокнулись и выпили.
Закусив, приложились ко второй.
– Вы, кажется, это зелье не употребляли? – спросил Рубец, глядя, как Проценко опрокидывает одну рюмку за другой.
– Не употреблял. Молодой еще был.
– Вы тогда больше по женской части... – смеясь, вставил Кныш.
– Случалось, не робел. А теперь жена мешает, – сказал Проценко.
– А вас еще и сейчас вспоминают барышни и молодые барыньки, – сказал Рубец.
– Счастливая пора, – сказал Проценко. – Давайте выпьем за них!
Только наполнили рюмки, как официант принес жарко?е. Своим приятным запахом оно вызвало еще больший аппетит.
– А вино? – спросил Проценко.
– Сейчас, – сказал официант.
– Потом подашь чай. Слышишь? И бутылку рому.
– Слушаюсь.
– Так выпьем за здоровье тех, кого мы любили и кто нас любил, – сказал Проценко, поднимая рюмку.
Они снова чокнулись и выпили. После четвертой у всех загорелись глаза.
– Чего в молодые годы не бывает? – задумчиво сказал Рубец. – Помню, как я в свою крепостную влюбился, да так, что жениться хотел, а покойный отец задал мне хорошую взбучку, и любовь вся испарилась.
– А я? – крикнул Проценко. – Это ж у вас на глазах произошло. Помните Христю? Я ж хотел с ней гражданским браком жить. А теперь где она? Что с ней?
– Так и пропала. Когда я рассчитал ее, слышно было, что она одно время у Довбни жила. Жена Довбни такая же шлюха, как и Христя. Довбня начал к ней приставать, а Марина заметила это и выгнала подругу. Говорят, что потом она и у покойного капитана жила. Тот, как военный, любил девушек. А потом капитан ее кому-то уступил, а там и слух о ней пропал. Не знаю, куда делась. А жаль, хорошая была работница.
– Да, она была даровитая. Очень... – подумав, сказал Проценко. – Куда даровитей этой попадьи. Как ее? Наталья... Наталья... взбалмошное существо!
– Царство ей небесное! – сказал Рубец. – Отравилась. А поп постригся в монахи. Оба они чудные были.
– Взбалмошное существо! – повторил Проценко.
– В городе тогда говорили, что из-за вас, – сказал Рубец.
– Может быть. Чем же я виноват? Вольно человеку дурь в голову вбить. Вечной любви желала... Глупая! Как будто существует вечная любовь!
Кныш и Рубец захохотали, а Проценко, почесав затылок, сказал:
– Уж мне эти бабы!
Официант принес чай, вино и ром.
– Вот это кстати! – сказал Проценко и придвинул к себе стакан.
Принялись за чай. Кныш и Рубец налили ром, а Проценко ждал, пока чай остынет. Он часто вставал, выходил из беседки. Видно, его что-то встревожило. Лицо его побагровело, глаза потускнели, он часто снимал пенсне, протирал его платком и снова надевал.
– Григорий Петрович! Здравствуйте! – приветствовал его кто-то громко, когда он снова вышел из беседки. – Вы один?
– Нет, с компанией. Ах, кстати. Хотите земляка увидеть?
– А как же! Земляка – охотно. Где он?
Немного погодя на пороге беседки появился Проценко в сопровождении плотного здоровяка с лоснящимся от жира румяным лицом и черными усами.
Рубец сразу узнал Колесника. Тот же голос – звонкий и гулкий, и весь он такой же бодрый и бравый, как прежде. Только одет иначе. Он уже не был в долгополом кафтане и шароварах, заправленных в сапоги, а в сюртуке модного покроя и светлых брюках навыпуск, элегантных башмаках и рубашке с воротничком; на груди у него болталась массивная золотая цепочка от часов, а на пальцах сверкали бриллиантовые перстни.
– Антон Петрович! Сколько лет, сколько зим! – крикнул Колесник и полез целоваться.
Потом он сказал:
– Вот где вы собрались, земляки. Ну что ж, и я с вами выпью чарочку рома.
– Константин Петрович, а может, чайку? – спросил Проценко.
– Нет. Чай сушит. Это не по нашей части. В земстве говорят, что я мужик. Так уж мужиком останусь. Будем здоровы. – И он мигом опрокинул рюмку.
– Ну, а вы как живете? – обратился он затем к Рубцу. – Слышал, вы службу переменили, в земство перешли. Это – по-моему. Хорошо. Ей-Богу, хорошо. Служба только хлопотливая. На месте посидеть не дадут, гоняют как зайца. То мост поезжай строить, то плотину. Паны сидят и пишут, а ты как угорелый мотайся. И всюду поспевай. Только и отдохнешь перед собранием. А так – из повозки не вылезаешь.
– Однако вам, Константин Петрович, это впрок идет, вот как вы раздобрели, – улыбнувшись, сказал Кныш.
– Хорошо, что я такой удался. А был бы слабый – что тогда? Дождь, грязь, ненастье, а ты мчишься. Дело не ждет. Ох, и спросить забыл, – обратился он к Проценко. – Видели новое диво?
– Какое? – спросил тот, прихлебывая чай.
– Арфисток! – крикнул Колесник. – Ну и Штемберг! Вот это арфистки! Платья у них коротенькие, ножки в голубых чулочках. А личики – розы и лилии. Сроду таких не видал. А лучше всех одна Наташка. Как в сказках говорят: на лбу – месяц, на затылке – звезды.
– Ну, пошел расписывать! – ввернул Кныш.
– Это по его части, – вставил Проценко.
– Не верите? Вот увидите сами. Скоро они начнут петь.
Кныш и Проценко начали посмеиваться над склонностью Колесника к женскому полу.
– Было когда-то! А теперь никчемным стал, – сказал Колесник, наливая себе в рюмку ром.
В саду начался шум, все устремились к веранде. Послышались выкрики:
– Сейчас будут петь! Сейчас!
– Пойдем! Пойдем! – засуетился Колесник.
– Ну, пусть идут молодые, – сказал Рубец. – А нам, старикам...
– Разве у старого кровь холодная? Пойдем!
Не допив вина, они бросились к веранде. Колесник шел впереди и тащил за руку Рубца, который никак не поспевал за своим проворным и вертлявым земляком. Проценко и Кныш шагали в стороне. Около закрытой веранды была такая давка и теснота, что протиснуться нельзя было. В двери входили не поодиночке, а точно тараном пробивались плотно сомкнутыми группами. Протиснулись и наши земляки и сразу бросились занимать хорошие места. Как раз против дверей находился высокий помост, на котором тесным рядом стояли арфистки, озираясь по сторонам; порой улыбка мелькала на лице у той или другой. Со всех концов раздавались восторженные возгласы.
– Вот Наташка. Средняя. Сюда глядит! – крикнул Колесник.
Посредине стояла невысокая круглолицая девушка, одетая в черное бархатное платье, особенно оттенявшее нежную белизну ее лица и шеи, – она выделялась среди своих подруг, как лилия в букете.
– У-у! – загудел Проценко. – Вот скульптурность форм, вот мягкость и теплота очертаний!
– Ага! Не я вам говорил? – торжествовал Колесник. – Козырь-девка!
– Постойте, постойте. Она мне напоминает кого-то, – сказал Проценко. – Дай Бог памяти. Где же я видел похожую на нее?
– Нигде в мире. Разве что во сне, – сказал Колесник.
– И я где-то видел такую, но черт его знает, не припомню... – сказал Рубец и пристально взглянул на девушку. Та спокойно смотрела на публику своими жгучими глазами. Вот она перевела взор на Проценко. Удивление, смешанное с испугом, отразилось в ее бездонных зрачках, она еле заметно вздрогнула и сразу начала смотреть в другую сторону.
– Ей-Богу, я где-то видел ее! – сказал Проценко.
– Не может быть, – уверял его Колесник.
Народу набилось столько, что нельзя было повернуться, жара – трудно дышать.
– Знаете что? Пойдемте к той стене, на скамью станем, там не так жарко будет, и все видно, – предложил Колесник. Он двинулся вперед, все последовали за ним.
Когда они пробирались на новое место, заиграли на рояле – значит, скоро начнут петь. Все мгновенно замерли, слышно стало, как жужжит муха. Среди этой тишины зазвучали аккорды рояля. И вот наконец грянула походная песня:
Мы дружно на врагов,
На бой, друзья, спешим...
Звонким голосам девушек вторили сиплые голоса стоявших за роялем мрачных верзил с испитыми лицами. Это бесталанные или пропившие свои голоса и выгнанные со сцены актеры развлекали пьяное купечество своим завываньем. Когда спели походную, слушатели наградили исполнительниц бурными аплодисментами. Певицы улыбались, кланялись, перешептывались, потом опустились на маленькие табуретки, стоявшие позади их. Только Наташа стояла по-прежнему. Аккомпаниатор взял несколько аккордов на рояле и умолк. Наташа быстрым взглядом обвела море голов, колыхавшееся перед ней, и запела «Прачку».
Звонким и сочным голосом она пела про тринадцатилетнюю прачку, как позвали ее к сударину-барину стирать сорочку, – это была одна из тех песен, которыми кафешантанные певички услаждали слух барам, пьяным купцам и купеческим сынкам. Свои песни Наташа дополняла выразительными жестами и взглядами. Слушатели млели. Казалось, они забыли обо всем на свете, и владела ими одна похоть, о которой рассказывала певица. Когда она начала жестами показывать, как она стирала сорочку, поднялся бешеный рев. К нему присоединились рукоплескания, топот сотен ног, – казалось, что от этого неистового грохота треснут стены и обвалится потолок. Певица несколько раз поклонилась во все стороны и опустилась на табуретку.
Барышни скромно потупили глаза, а их кавалеры, плотоядно улыбаясь, говорили: «Настоящий бесенок!» – и целые охапки цветов полетели к ногам певицы. Некоторые, протиснувшись к сцене, сами протягивали ей цветы. Она брала их, церемонно кланяясь. «Шампанского!» – послышался громкий возглас. Официант подал на подносе вино одному панычу; тот взял его и со своей компанией направился к певице, и там начали выпивать за ее здоровье. Она и сама отхлебнула из одного бокала и со всеми приветливо чокалась.
А что же наши земляки? Кныш смеялся и слегка подталкивал в бок Рубца, который, краснея, отмахивался от него обеими руками.
Проценко пристально следил за певицей, не отрывая от нее горящих глаз, она притягивала его словно магнит, а Колесник вертелся как ошпаренный, хлопая себя руками по животу, и говорил:
– Ох не выдержу! Ей-Богу, не выдержу!
Он так и не выдержал. Дождавшись, когда народ разойдется, он соскочил на землю и пробрался к сцене.
– Наташа! – окликнул он певицу.
– Что, папаша? – лукаво улыбаясь, спросила та.
– Можно вас просить поужинать со мною?
– С удовольствием, – ответила Наташа, протягивая ему пухлую белую руку. Все только глаза вытаращили от зависти, глядя, как Колесник повел через весь зал Наташу к отдельным кабинетам, находившимся сбоку.
– Человек, карточку! – крикнул Колесник, торжествующим взглядом окинув публику. Затем он вместе с Наташей скрылся за толстой портьерой.
По залу прошел громкий говор. Знай наших! Откуда взялся сизый голубь и оставил на бобах воробьев!
– Вот и полюбуйся. Старый, а меткий!
– Уж этот Колесник! Куда ни сунься, а наш пострел везде поспел.
– Еще бы! Куда девать земские деньги, что сами в его карман плывут?
– Вот почему разваливаются наши мосты и гати.
– Пойдем отсюда. Тут дышать нечем, – сказал нахмурившийся Проценко и направился к беседке.
Кныш и Рубец последовали за ним, расхваливая Колесника за его смелость и удачливость.
Проценко молча пил чай, все время подливая в него красное вино. Когда они наконец вышли, Рубец и Кныш были багровыми, как спелые арбузы, а Проценко сильно побледнел. Ноги у него заплетались.
– А вот и Колесник! – сказал Кныш, заглянув в раскрытое окно отдельного кабинета.
Колесник и Наташа сидели на плюшевом диванчике около небольшого столика, на котором было наставлено много всякой снеди и бутылок. Обняв Наташу, Колесник прислонился головой к ее плечу и, казалось, дремал, а она его хлопала по щеке.
Проценко первый приблизился к окну.
– Здравствуйте, мамзель! – сказал он.
– Здравствуйте, мосье! – ответила Наташа, пристально взглянув на него.
– Мы, кажется, знакомы. Я где-то видел вас.
– Спросите у Пистины Ивановны! Она все расскажет! – отрезала Наташа и, быстро поднявшись, опустила штору.
Проценко, словно пораженный громом, долго не мог прийти в себя. Он готов был броситься в окно и разбить голову этой шлюхе. Но Кныш, заметив его состояние, поспешно оттащил Проценко от окна.
– Дрянь... и смеет так отвечать! – крикнул Проценко.
А из-за шторы донесся звонкий голос:
– Папаша! Папаша, поедем к тебе.
Вскоре после этого все увидели, как пьяный Колесник, взяв под руку Наташу, повел ее к выходу, кликнул извозчика, и они уехали.
– Кого это она назвала? – допытывался Рубец у Проценко, который ходил по саду точно в воду опущенный. – Мне послышалось – будто имя моей жены.
– А так, сдуру сболтнула первое, что ей взбрело в голову, – сказал Кныш. – Разве эти шлюхи о чем-нибудь думают?
Проценко не проронил ни слова. Вскоре он позвал официанта, расплатился с ним и ушел домой. Идя по затихшим улицам, он невольно вновь задумался над словами арфистки. «О какой она Пистине Ивановне говорила?» Кроме жены Рубца, у него не было больше знакомых женщин с таким именем. Он действительно когда-то заигрывал с женой Рубца, но откуда ей это известно. Колесник успел рассказать?
И, дойдя до дому, он с такой силой дернул звонок, что по улице покатилось эхо.








