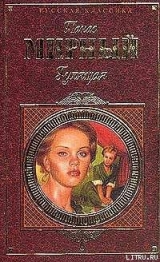
Текст книги "Гулящая"
Автор книги: Панас Мирный
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
– Да, – грустно сказала Марья, вспоминая минувшие дни, которые уже не вернутся.
– Знаешь что, Христя! Зайди к панычу.
– Боже сохрани! Еще выгонят.
– Не выгонит, иди.
– Иди и скажи: просили барин и барыня, чтоб пожаловали к ним. А спросят – кто, скажешь: те, у которых вы были, – сказала Марья.
– Иди, Христя! Иди, голубка, – уговаривает ее Марина.
Христя наконец решилась.
– Только не смейся!
Христя подошла к двери и приоткрыла ее.
– Здравствуйте! – сказала она.
Паныч читал.
– Просил пан и пани, чтобы вы пожаловали к ним.
– Какой пан?
– Разве вы не знаете? – болтала Христя, усмехаясь.
– А почем я знаю?
– Там и ваши хозяева.
– Поздно уже, – говорит паныч, глядя на маленькие часы. – Кланяйся и благодари. Скажи, что собрался спать.
– Так и сказать?
– Так и скажи.
– Прощайте же.
– Иди с Богом.
Как только Христя вернулась, Марина и Марья начали хохотать.
– Что у вас там? – сказал паныч, выходя из своей комнаты.
Увидя хохочущих девушек, он понял, что над ним пошутили, и тоже засмеялся.
– Так это ты посланец? – сказал он Христе.
Марина хлопала в ладоши, а Марья вся тряслась от смеха и хваталась за живот.
– А ну, иди сюда, посланец из чужих краев! – шутил паныч, протягивая руку, чтобы схватить Христю.
Христя хотела было уклониться, но Марина сзади толкнула ее прямо на паныча. Тот взял ее за руку и повел в свою комнату.
– Красивая какая! – сказал он, потрепав ее по щеке. От этого кровь прилила к лицу Христи. Сердце ее забилось ускоренно, порывисто дышала грудь. – Славная! – таким задушевным голосом произнес паныч, что Христя вся встрепенулась.
Он действительно так сказал или ей это только померещилось? Глаза их встретились. Сквозь стекла очков глядели на нее его блестящие зрачки, точно черные спелые ягоды. От волнения у Христи кружилась голова и шумело в ушах. Она невольно отшатнулась, точно ее толкнули, и убежала.
– Что он тебе говорил? Что? – шептали ей с двух сторон Марина и Марья. Христя не в силах была говорить.
– Нет, с вами каши не сваришь! – громко произнес паныч, захлопнув книжку. – Лучше спойте хорошую песню. Кто умеет?
– Христя умеет! – сказала Марина.
– Нет, не умею, – робко произнесла Христя.
– Да ну, брось! – уговаривает ее Марина. – Ты да не умеешь!
– Христя! Что же ты? Не надо стесняться. Спой, я послушаю. Я люблю простые песни.
– Так я же не умею, – отнекивается Христя.
– Ну, пойдем! – крикнула Марина; она и Марья схватили Христю за руки и потащили в комнату паныча.
Паныч взял стул, поставил его рядом со своим и усадил Христю. Она только всплеснула руками и засмеялась. Она сидит рядом с панычом, где не так давно сидела пани... Чудно! Марина и Марья посмотрели на пана, на нее и многозначительно переглянулись... Христе стало душно; она почувствовала какую-то слабость, замирало сердце, что-то подкатывало к горлу. Она порывисто встала и убежала бы, если б паныч не схватил ее за руку и не удержал силой. Под его пальцами быстрыми толчками бьется жилка на ее руке.
– Пой, что хочешь, Христя. Я запишу. – И, сказав это, он взял перо.
Наступила тишина. Паныч ждет. Христя раздумывает, что бы спеть. Но мысли как-то спутались, она не может вспомнить целиком ни одной песни. А тут еще она видит ожидающие, нетерпеливые взоры подруг.
– Нет, не умею! – воскликнула, краснея, Христя, так что слезы выступили на глазах.
– Опять за свое. Ну, сделай милость, спой, – просит паныч.
– Да ну же, Христя, – торопит ее Марина.
– Ох, как мне душно! – вздохнув, сказала Христя.
Снова молчание, упрашивающие взгляды.
– Так никто не споет? – с нескрываемым недовольством спросил паныч.
– Пусть сначала Марина... мне душно, – ответила Христя. Она вскочила и вмиг убежала в кухню.
Марина села рядом с панычом и положила руку на спинку его стула, точно собиралась обнять.
– Какую же вам спеть? «Грыця» знаете? – спросила она.
– Нет, не знаю.
Марина запела. В комнате долго звучал высокий девичий голос, и порой слышен был скрип пера – паныч записывал слова песни. Христя на цыпочках вошла в комнату и стала рядом с Марьей. «Вот же Марина поет так смело и хорошо, а я боюсь... Чего? Ох, глупая!..» И она решила, что как только Марина кончит петь, она споет песню про девушку и вдовца. Она очень любила эту песню.
Наконец Марина умолкла.
– Пишите другую! – предложила Христя.
– Садись же, – сказала Марина, вставая.
– Нет. Я здесь буду петь.
И начала. Первые слова прозвучали тихо и неуверенно. Но чем дальше, голос ее все больше крепчал. Она с любопытством глядела, как быстро скользило перо по бумаге и черные строчки ложились ровным следом на белом листе.
Не иди, девка, за вдовца —
Будет тебе лихо!
Звенит молодой голос Христи. Все слушают, затаив дыхание. Видно, и панычу песня понравилась – глаза его горят, на лице радостное возбуждение.
– Вся! – окончив, сказала Христя.
– Хороша песня, – сказал паныч, положив перо. – А говорила: не умею, – закончил он с легкой укоризной.
– Да она их знает несчетное число, – сказала Марина, положив руку на плечо паныча.
Он искоса взглянул на Марину: видно, ему не понравилось ее фамильярное обращение. А Марине что до этого! Она не замечает косого взгляда паныча и даже слегка склонилась к нему, их плечи прикасаются, ее рука лежит на его спине. Не сводя с него глаз, она неустанно щебечет... Рассказывает, какие все хорошие песни раньше пела Христя у себя в селе.
– Вы только заставьте ее, она все споет.
– Ладно, – говорит паныч, хмурясь, – это уже в другой раз, я утомился.
– Ну, пойдем, – сказала Марина.
– Погодите, – говорит паныч. Вынув из кармана двугривенный, он протягивает его Христе.
– Зачем? – спрашивает она.
– Бери! – настаивает паныч.
– Не надо.
– Бери, это за песню, – говорит Марья.
– Не хочу! – резко отказалась Христя и убежала.
Паныч пожал плечами и обиженно оттопырил губы.
– Ну и глупая, – смеясь, сказала Марина. – Дайте мне.
Паныч нехотя дал ей монету. Марья решила, что не надо больше оставаться у паныча, и тоже ушла. Осталась одна Марина.
– Спасибо вам, – щебечет она, вертя монету в руке. – Этих денег я ни за что не истрачу... ни за что! Дам проделать ушко и буду носить вместо медальона. Погляжу на него и вас вспомню...
– Почему ты не взяла деньги? – говорит Марья Христе. – Паныч рассердился.
– Разве я нанималась петь? – крикнула Христя, да так, что паныч вздрогнул.
– Что с ней? – сказала Марина и тоже побежала в кухню.
Паныч закрыл дверь и начал ходить взад и вперед по комнате. Красота Христи взволновала его. Так бы и обнял ее, поцеловал разгоряченное личико, прижал к груди. Так привлекательна она. От возбуждения он порывисто дышал и все ускорял шаг... Дикая она, как горная серна. И денег взять не захотела, глупая... А тут эта вертушка липнет. Ну и вертлява!.. – Эх! – произнес он вслух и грузно опустился на стул. Ему досадно было, что Христя пришла к нему не одна, а с подругами. «Уж эти мне помощницы! Хоть еще раз посмотрю на нее».
– Христя! Принеси мне воды! – крикнул он.
Воду принесла Марья.
– А Христя где?
– У нее же гостья.
Он залпом выпил воду.
– Ну, видно, распалила ты паныча, – сказала Марья, вернувшись в кухню, – одним духом полный стакан выпил.
Христя ничего ей не ответила. Она молча сидела на лавке. Умолкла и Марина.
– Что ж это вы пригорюнились? – спросила Марья.
– Ох, мне уж домой пора! – сказала Марина и начала собираться.
– И у нас паныч есть, – тараторила она, одеваясь. – Да еще как ловко на скрипке играет. Приходи как-нибудь, я попрошу его сыграть нам.
– Возьми монисто, – сказала Христя.
– Не надо. Придешь ко мне, тогда и отдашь. Ну, прощайте!
– Падкая на панычей, аж разошлась! – сказала Марья после ухода Марины.
Христя помрачнела, насупилась. Она ругала себя за сегодняшний вечер. Было б сидеть в кухне, так нет – понесла нелегкая к панычу! Зачем? Чтобы ткнули ей двугривенный, как собаке кость! А та вперед лезет... «Дайте мне!» Так и лезет в глаза. А сама она лучше? Нарядилась и пошла к нему, точно он ее звал...
Христя легла, но ей долго не спалось. Она ворочалась с боку на бок. А в голову то и дело закрадывались досадные мысли, норовя задеть побольней, уколоть поглубже.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Григорий Петрович Проценко, сын бедного чиновника, вскоре после окончания школы поступил на службу. Десять лет прошло с тех пор, как отец отправил его в город с письмом к бывшему сослуживцу, а мать прибавила сумку с припасами, которые ей удалось наскрести в своем хозяйстве. Молодому хлопцу шел тогда семнадцатый год. Неохотно ехал он в губернский город на службу, ему хотелось учиться, поступить в гимназию. Его ровесник, сын одного богатого пана, учился в гимназии, а на каникулы приезжал домой. Грыць, встречаясь с ним, бывало, не наглядится на синий мундир с серебряным позументом и на фуражку с гербом, а когда его товарищ начнет рассказывать про гимназические нравы и обычаи, про разные науки, да заговорит на иностранных языках – он только рот разевает от удивления. Глаза Грыця горят, он боится слово проронить, с завистью глядит на товарища, а сердце терзает досада.
Вздохнет, бывало, Грыць, когда товарищ умолкнет, и просит еще что-нибудь рассказать. А когда тот уходит, забирается в укромное местечко и повторяет незнакомые слова, которые ему пришлось услышать. Большая тяга у него была к учению, но что поделаешь? Он понимал, что с отцовскими достатками далеко не уедешь! Кроме него, у отца еще три сына и две дочери на шее, надо всех вырастить, научить уму-разуму, а ему, уже окончившему школу, пора слезать с отцовской шеи – самому добывать средства к существованию. Куда ж податься сыну бедного чиновника? Одна у него дорога – служить. Вот Грыць и собрался на службу.
Было это в те самые дни, когда думы и чаяния лучших людей прошлого поколения ждали своего воплощения в жизнь. Это было раннее утро после темной ночи, время радужных надежд и больших ожиданий. Никто не знал, что готовит будущее, но было ясно, что так дальше продолжаться не может. Время безмолвной покорности миновало, и все более нарастала волна народного ропота и возмущения. Крепостные упорно распространяли слухи о близкой воле. Это не был случайный слух, перехваченный лакеями от своих господ и разнесенный дворней по селам, – об этом говорила вся страна, весь мир. Помещики уже съезжались по губерниям совещаться, когда и какую волю дать этим необузданным смутьянам.
Это был, с одной стороны, глухой стон, а с другой – приглушенный зов; в этом стоне, зове слышны были и голоса чиновников. Лучшие люди, до сих пор сторонившиеся чиновной среды как чего-то мерзкого, начали приближаться к ней, чтобы не выпустить из рук дела, которое они начали и много из-за него вынесли на своем веку. Долго они были в загоне. Теперь их позвали. Как же не откликнуться? Темные люди, пробравшись окольными путями, могут развеять в прах их надежды, свести на нет великую реформу. Они откликнулись, сменили свой домашний халат на служебный мундир.
Пришли, правда, одиночки, которых можно было пересчитать по пальцам. Однако старое чиновничество всполошилось: «Как это? Нигде не служили, никакого опыта не имеют и сразу такие посты заняли! От них добра не дождешься!» И начались закулисные толки и интриги. Старые не дрогнули: они кликнули клич молодым. Появились новые высокооплачиваемые должности, и их занимали безбородые или на медные гроши учившиеся молодые люди. С тех пор разгорелись страсти, началась отчаянная борьба. Старые чинуши кричали: «Молокососы!» А молодые им в ответ бросали: «Хапуги! Бестолочь!» Пошла вражда между старым и новым. Эта борьба происходила повсюду. Крепостной уже не гнул спину перед паном, а рабочий – перед хозяином, сын не слушал отца: все, почуяв волю, громко заявляли о своих правах. Это было шумное время, полное борьбы и споров, обе стороны напрягали свои силы, чтобы одержать верх. Молодые было одолели, но лишь для того, чтобы вскоре и самим состариться. Жизнь мчалась, как ветер!
Григорий Петрович застал еще на службе старые порядки: начальник был у них большой взяточник и еще больший ненавистник свободы. Он любил, чтобы все перед ним дрожали, млели, падали ниц, преклонялись. Частенько его голос, точно гром, раскатывался по залам, чтобы только нагнать страх на подчиненных. «Где страх, там и Бог», – обычно говаривал он. Со старшего брали пример и другие. Каждый держался в стороне от младших по службе. А над мелкими чиновниками глумились, как кому заблагорассудится: за провинность заставляли снимать башмаки, дежурить по целым неделям, записывали, кто сколько раз выходил из комнаты.
Грыць одновременно боялся начальства и ненавидел эти порядки. Как-то раз на улице он встретил толпу гимназистов, окруживших учителя и о чем-то оживленно беседовавших. Учитель беседовал с ними не начальственным тоном, а как старший и опытный товарищ. Все непринужденно говорили, шутили, смеялись. Грыць с большой завистью глядел на этих счастливцев.
Вот это жизнь!.. Под синим гимназическим мундиром свободно бьется сердце. А тут? Сердце его замирало от тоски и скуки, когда он думал об окружающей его среде. В нем поднималась ненависть, скорбь, гнев. Молодежь всегда любит свободу, приносит в жизнь новые думы и мечты, лелеет иные надежды – весну свою справляет.
По совету товарищей-гимназистов Грыць читал книжки. В них говорилось о правах человека и о борьбе за свободу, об извечных законах, о мире. Грыць читал запоем все, что ему попадалось под руку. Жизнь его раздвоилась: с одной стороны, постылая служба, которая давала ему пропитание, но гасила дух; с другой стороны, книги и интересные беседы с товарищами, подымавшие его над средой мелкого чиновничества. Но, не обладая волей, упорством, он не принадлежал к тому разряду людей, которые, наметив себе цель, уже не отступают ни на шаг и готовы бороться со всем светом за свои идеалы. Это – борцы и вожаки! Он не был таким.
Грыць по складу своего характера был слабовольным мечтателем. Он хотел так прожить, чтобы, даже падая, не ушибиться, чтобы волки были сыты и овцы целы. Он мечтал завести у себя в присутствии такие же порядки, как у гимназистов. Но поскольку этого нет – что поделаешь? Не лезть же ему на рожон, одному против всех!
Грыць помирился со своей долей. Одним он поддакивал, с другими отмалчивался; с молодыми посмеивался над стариками, со старыми помалкивал. Все это шло ему на пользу: молодые считали его своим приверженцем, а старые не трогали смирного и почтительного юношу. В враждующих лагерях такие люди всегда встречаются; они служат тем и другим и обманывают обоих. Пусть эти надеются, и другие не считают чужим – им от этого и хорошо, и тепло: ловись, рыбка, мала и велика!
Грыць, однако, и на это не был способен. Или не везло ему, или еще время его не пришло. Он не гнался за наживой. Его больше привлекали игры, танцы, пенье. Но так как тогдашняя молодежь пренебрегала подобными развлечениями как чем-то недостойным, он, проведя всю ночь в обществе стариков и вдоволь натанцевавшись с их дочерьми, на другой день насмешливо отзывался о них. Он любил поболтать и посмеяться. Это двуличие – служба нашим и вашим – делало его скрытным и хитрым.
Но разве он виноват? Жить каждому хочется, а ему – не меньше. Да и кто он, чтобы противиться чему бы то ни было? Маленький человек. Раздавить его – раз плюнуть... родители бедные... выше пупа не прыгнешь. Пришлось гнуться, ужом извиваться. И то однажды судьба его повисла на волоске.
Молодежь того времени впервые вышла на просторы жизни, сильная только своими стремлениями и пылом молодости. Не было у них часто учителей, которые направляли бы их по правильному пути, да он еще и не был проложен. Предстояло его самим прокладывать, чтобы двигаться вперед. Им хотелось сразу захватить все поле. Надо было одновременно идти в бой и собирать силы.
Появилось сразу не одно, не два, а десять направлений. После освобождения крестьян зародилась и любовь к «меньшому брату». Народолюбцы зазывали в свой стан много всяких людей. Чтобы правильно действовать, надо сначала узнать, чего хочет народ, к чему стремиться. До сих пор его видели главным образом на барском дворе. А надо его повидать всюду: в селе, в поле, на тяжелой работе и веселых играх, на людях и в семье, в радости и в горе... Песни, сказки, поговорки, словно склепы, хранили множество его дум, тайных упований, слез. Хорошо было бы записать их – это была бы книга о большой жизни и великом страдании...
Услышав разговоры на эту тему, Грыць сразу записал четыре песни, которые спела ему служанка его хозяйки, и передал их издательскому товариществу. Его поблагодарили, просили еще записывать.
Все кругом отлично видели народную темноту. Надо было хоть немного рассеять этот густой мрак, царивший не только в селах, но и во многих домах зажиточных мещан... Появились воскресные школы. Уговаривали и Грыцька преподавать в одной. Грыцько уклонялся: и некогда, да и справится ли он. Он понял, что это уже настоящее дело, и тут ясно будет, на чьей он стороне. Стыдно было отказаться и страшно уступить. Он согласился только на вечерние занятия. Вечером он свободен, да и в это время никто его не увидит и не узнает, где он был.
Эти школы просуществовали недолго. Неизвестно еще, добились ли они чего-нибудь, а старики уже ославили школы, как сборища заговорщиков, где проповедовали, что Бога нет и все старое плохо. Не прошло и года, как школы закрыли; кой кого из учителей арестовали и выслали. Грыць, ни живой ни мертвый от страха, ждал что вот-вот придут и за ним, и тогда прощай навеки!.. К нему действительно пришли, но обнаружили только записанные им четыре песни... Натерпелся же он тогда страху... Бог его знает, может, на их взгляд, эти песни хуже любых прокламаций, и за них его со света сживут... Начальство узнает, какого он поля ягода, и выгонит его со службы. От всех этих мыслей он готов был повеситься. Начальник набросился на него зверь зверем. Он клялся, что его обманом заставили дать согласие. Но, не показывая виду, добрые люди его отстаивали у кого полагается. Неделю пришлось Грыцю прожить в лихорадочном состоянии, в том безмерном страхе, который не имеет границ, охватывает со всех сторон, давит на сердце, холодит кровь.
У Грыця только тогда отлегло от сердца, когда ему вернули взятые записи песен. С какой ненавистью глядел он на них! С каким наслаждением он сжег их и пепел закопал в огороде!
Буря миновала, вырвала несколько дубов с корнями, сломала много молодой поросли и утихла. Настала такая скучная пора – ни слова живого, ни песни веселой, словно онемели все, словно похоронили великого и славного человека и теперь справляют тризну. На кладбище так тоскливо бывает поздней осенью, когда опадут листья и почернеют цветы на могилах.
Старики взяли верх и праздновали победу. Чего только они не взваливали на головы своих противников! Те молчали. Однако стояло возведенное ими здание и, кажется, ожидало, когда его начнут разрушать: со всех сторон надвигались враги с топорами, ломами, заступами в руках. Они только ждали приказа. Одно слово – и рушатся стены, поднимется пыль столбом, а вместо фундамента зачернеют глубокие ямы.
Но назад пятятся только раки.
Пять-шесть лет строительства не пропали даром. Всем стало ясно, что старая хата мала и тесна, нужна новая, более просторная и светлая. Фундамент вошел глубоко в землю, стены поднялись высоко вверх, надо общими силами завершить постройку. Потянулись в новый дом убогие, кривые, слепые. Позабивали окна, большой зал разделили перегородками, наделали много отдельных закут и утешали себя: «На наш век хватит...» – да не вышло по-ихнему.
Через полгода после этой бури пошли перемены: старого начальника Грыця сместили, вместо него назначен столичный... Кто он? Молодой? Старый?... Но какой бы он ни был, а перемены будут. К старому начальнику было легко приспособиться: будь только послушным и покорным – и живи, как у Бога за пазухой. Иной раз и выругает зря – смолчи: все будет хорошо. А молодой себе на уме: и не кричит, и не ругается, все тихо да мирно, и не успеешь оглянуться, как на улицу выкинет.
Старики вздыхали, шушукались, жалели старого начальника и со страхом ждали, кого Бог пошлет. Зато Грыць поднял голову: он слышал стороной, что новый начальник из молодых, и ждал его с нетерпением.
Наконец начальник приехал. Молодой, вежливый, обходительный – с каждым любезно разговаривает, тихо расспрашивает и все на свете знает. Старики загрустили, и было отчего. Скоро их и половины не осталось. Кого из столицы прислали, кой-кого и на месте нашли – и все это молодые, без заслуг. Пошли другие порядки, другая жизнь начиналась.
Проценко свободно вздохнул. Ему и служится, и живется легко: есть с кем общаться и поговорить по душам. И начальник тоже не сторонился своих подчиненных: он часто приглашал сослуживцев к себе на беседу. Соберутся, поговорят – и гляди: или устроят спектакль в пользу бедных, или организуют концерт в пользу женских курсов.
Жизнь пошла коромыслом. Грыць жалел, что забросил скрипку, а на сцену и ногой ступить боялся, да у него, правда, и способностей к этому никаких не было. Он напустил на себя хандру. Глядя на него, подумаешь: не до праздника ему. Начальство заинтересовалось, отчего он грустит. Нашлись доброжелатели, которые изобразили его мучеником за идею. Он, как настоящий мученик, молчал, не желая никого отягощать своими страданиями.
– Это он мученик? – сказало начальство таким тоном, словно хотело сказать: зачем же его держать?
Все думали: конец Проценко! Он сам упал духом еще гораздо больше, чем в пору той заварухи, которая задела и его. Проклятья на головы неосторожных болтунов уже готовы были сорваться с его уст, как он был вызван к начальству. Ни живой ни мертвый вошел он в кабинет.
– Вы хотите ехать в уезд?
Грыць ответил не словами, а покорным и угасшим взором:
– Какова будет воля вашего превосходительства.
– Хорошо, – коротко и строго промолвил начальник. – В Н. открывается вакансия. Поезжайте.
На радостях Грыць облетел весь город, зашел ко всем знакомым. Одним он рассказывал, как милостиво его принял начальник, какое место предлагал, как он будто отказался, а его упрашивали; другим шептал на ухо:
– Это за наши беды и страдания. Недаром мы подставляли шею под топор. Не напрасно мы боролись.
На третий день Проценко выехал из губернского города с твердым намерением больше никогда не возвращаться в это проклятое место, где ему пришлось столько вынести, где он опорочил свое доброе имя и загубил лучшие молодые годы. С радостью ехал он в новый город. С возницами говорил без умолку, обращался к ним на «вы», чем немало их поразил. Они не знали, что и думать о нем. «Видно, из далеких краев». И намеревались прокатить на славу приезжего барина, но староста охладил их пыл: не очень гоните лошадей, не велика цаца едет – знаем мы этих голоштанников!
В город Н. Проценко приехал совсем другим человеком. Веселый и общительный, он смело заводил разговоры с каждым встречным и поперечным, насмехался над уездными пирами, над городскими порядками и бестолочью. Казалось, он все знал, все пережил, передумал и стал выше всех окружающих, но тем не менее не сторонился их.
Встречался ли он с простолюдином на улице – он заговаривал с ним попросту, обращаясь на «вы», шел с ним рядом, как равный, не боясь огласки. Для каждого сослуживца он тоже находил подходящие слова: молодому рассказывал сплетни, всяческие истории, точил лясы, а стариков располагал к себе рассудительными речами о жизни и как бы невзначай вставлял иностранное словечко, чтобы поразить собеседника.
И действительно, Проценко вызывал всеобщее удивление. «Вот смелый, вот талант», – думали о нем молодые панычи и всегда с большой охотой заводили с ним разговоры.
– Голова, – отзывались о нем пожилые, – когда говорит, заслушаешься. И не по верхам скачет, а в самую глубину забирается. Далеко пойдет – не догонишь.
Перед барышнями никто его не мог перещеголять. Красивое лицо, любезное обращение, остроумие, любовь к танцам – все это привлекало к нему девичьи сердца. Правда, он только один раз появился перед ними во всеоружии, но этого было достаточно, чтобы каждая подумала: «Это тот, которого жаждала моя душа». Потом он пошел окольным путем; прямолинейность ему не к лицу: солнце тоже далеко, но люди на него молятся!.. Нельзя сказать, чтобы он совсем отдалился от девичьего круга, но, попадая к ним, он напускал на себя печаль, жаловался на нудную жизнь, насмехался над их провинциальными забавами и наивностью. Его боялись и жалели – боялись его острого языка, жалели за те испытания, которые ему пришлось вынести в молодые годы. Кто же из них привлек его внимание? Кто поразил его горячее сердце?
Конца краю нет догадкам и тайным надеждам. Каждая думала: а что, если я его избранница? И все старались одеться для него получше, казаться легче и изящнее. Разговаривая с ним, они замирали, закатывали глаза и применяли иные приемы, заученные перед зеркалом. Но не на них были обращены его взоры, не скромные луговые цветочки волновали его сердце, а пышно распустившиеся садовые лилии. Молодые барыньки рассеивали его грусть, от их взглядов загорались его глаза, ускоренно билось сердце.
Тотчас же после приезда он поселился у Рубца. Антон Петрович доволен квартирантом. Они вместе ходят на службу, чуть ли не в один и тот же час возвращаются. Комната лишняя есть: отчего ж не пустить хорошего человека, если он к тому еще платит как следует. Пистина Ивановна еще больше обрадовалась квартиранту. Антон Петрович пожилой, потрепанный и всегда занят то делами, то игрой в карты; а Григорий Петрович и молод, и хорош, и весел; говорить с ним так легко и приятно. И обходительный, и такой привлекательный, что не прошло и трех дней, как он стал своим человеком в доме, будто вырос в нем; и слуги к нему привыкли, и маленький Ивась полюбил его. Пистина Ивановна не раз вздыхала, глядя, как после обеда Григорий Петрович играет с Ивасем. Она вспомнила свои девичьи годы, ожидание суженого. Не посчастливилось же ей встретить такого! «Вот какое чучело храпит!» – думала она, глядя на мужа, спящего после обеда.
Через полгода родилась Маринка. Когда заговорили о крестинах, Пистина Ивановна шутливо сказала:
– О куме беспокоиться нечего, он тут рядом. – И она указала на Григория Петровича.
– От такой чести грех отказываться, – ответил тот.
Кумой Антон Петрович давно уже наметил толстую купчиху, что любила чай пить до седьмого пота, хорошо поесть и вволю поспать; любила она также перемывать косточки ближним – не сидеть же в самом деле в гостях, да в своей компании, и играть в молчанку.
– А крестить возьмем молодого попа, – говорит мужу Пистина Ивановна. – Все же что-нибудь перепадет ему. Говорят, он так бедствует. Да заодно и матушку пригласим, поглядим на эту губернскую цацу.
Крестины, именины, похороны никогда не справляются без шумного пиршества: соберутся чужие люди – надо дело сварганить, надо и попировать. В былое время эти пиры длились целыми неделями, широко и шумно праздновали всякое событие, приходили свои и чужие, а теперь все больше собираются только близкие.
На этот раз Антон Петрович собрал старых знакомых: Кныша с женой – высокой и высохшей, как вобла; секретаря суда – лысенького и низенького старичка с его бочкой, как он в шутку называл свою жену, толстую и расплывшуюся, близкую подругу жены городского головы; пригласил он и самого голову, и капитана Селезнева, но первого задержали дела, а второй уехал осматривать мосты.
В назначенное воскресенье вечером собрались приглашенные, уселись, рассказывают и обсуждают последние новости, ждут батюшку. А вот и поп – да не один, а вместе с матушкой.
– И чего она сюда пожаловала? – недоумевающим тоном спросила секретарша из полиции.
– Скажите, пожалуйста, и она тут, – недовольно произнесла секретарша из суда.
– Что ей здесь нужно? Шла бы на маскарад водить за собой целую стаю вздыхателей! – сказала жена городского головы. Она уже кое-что слышала о проделках молодой попадьи.
Матушка была нарядно одета, и от нее пахло крепкими духами. Шлейф ее красивого шелкового платья слегка шуршал по полу; цветистый пояс, словно радуга, обвил ее тонкий стройный стан; белая точеная шея казалась еще белее, оттененная темным шелком платья, плотно облегавшего ее круглые плечи и высокую грудь; золотой крестик на цепочке блестел на шее, небольшие сережки играли драгоценными камнями, на розовых пальчиках сверкали перстни. Из-под черных бровей усмехались голубые глаза; свежее розовое лицо обрамлено черными волосами.
– Нарядилась, а есть, говорят, у них нечего, – наклонившись к хозяйке, промолвила судейская секретарша.
– Поди ж! – ответила та.
Попадья, войдя в гостиную, приветливо поклонилась собравшимся. Пистина Ивановна поспешила ей навстречу; потом представила незнакомых гостей. Попадья, переходя от одного к другому, пожимала руки, женщин поцеловала. Лицо ее горело, глаза играли. Так рада была она новым знакомым. Так давно ждала этого часа. И она щебетала как птичка. Разговаривая с хозяйкой, постоянно обращалась к гостям. Не забыла и про новорожденную: забежав в спальню, расцеловала ее и снова вернулась в гостиную.
– А кто же будет кумом? – спросила она.
Пистина Ивановна познакомила ее с Григорием Петровичем.
– Я где-то вас видела, – сказала она, лукаво блеснув глазами.
– Может быть, на улице?
– Нет. Вы не из губернского города?
– Приходилось и там быть.
– То-то же, – и она заговорила о том, как интересно в губернском городе, как там весело – гулянья в городском саду, клубы, маскарады.
Григорий Петрович обрадовался новой знакомой. Они из одного города, у них сразу нашлось о чем поговорить. Беседа завязалась оживленная и веселая.
– Потаскушка! – тихо произнесла жена Кныша.
– Да еще губернская! – добавила судейская секретарша. Жена головы закашлялась и пролила на себя чай из блюдца.
– Платье! Платье! – в ужасе вскрикнула секретарша и бросилась искать тряпку.
– Ничего, – сказала жена головы, стряхивая с дорогого шелкового платья капли чая, а в душе ругала и попадью и секретаршу.
– Видите, какие здесь люди? Зверье какое-то, – прошептала попадья, вздохнув. – И вот живи среди них, да выбери еще подругу.
– А вы лучше не подругу, а друга выбирайте.
– Друга? – сказала она громко, и голубые глаза ее потемнели. – О, я знаю вас, мужчин. Все вы коварны, у-у!
И она с такой грацией погрозила пальцем, так очаровательно улыбнулась, что, если бы никого не было, Григорий Петрович так и припал бы к ручке.
– Неужели все? Мало же вы знаете нас, коли так, – сказал он с притворным равнодушием. Попадья пристально посмотрела ему в глаза.
Еще минута – и он, верно, не выдержал бы ее обжигающего взгляда, но она оставила его и подошла к Пистине Ивановне и о чем-то начала болтать с ней. Его сердце усиленно забилось.








