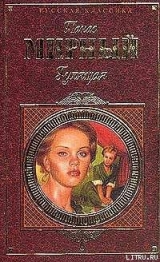
Текст книги "Гулящая"
Автор книги: Панас Мирный
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
– Кого? – спросила Пистина Ивановна.
– Тебе лучше знать.
Пистина Ивановна надула губы.
– Еще что выдумал!..
Скоро все улеглись спать. Лег и Григорий Петрович, хотя ему и не хотелось. Но что же делать?... Был на редкость шумный вечер. Игра Довбни и его грубо-откровенные речи, разговор с прислугой, красота Христи, так взволновавшая его, – все это и многое другое кружилось в его голове. И рядом с Христей возникла изящная фигура голубоглазой попадьи. Они словно соревновались. Сердце у него ускоренно билось, какие-то смутные надежды волновали его. «Та – распустившийся пышный цветок, а эта – нетронутый родник. Кто первый зачерпнет из него воду?...» Ему стало душно, и он беспрерывно ворочался с боку на бок.
А в кухне на печи слышалось шушуканье.
– Какой он красивый и ласковый! Не сравнить с тем, что на скрипке играл, – тихо шепчет молодой, звонкий голос.
– Полюбила б ты такого? – допытывается хриплый голос.
– Вот уж, полюбила бы! – укоризненно произносит первый голос.
– Да ты не скрывай! Разве не видно, что тебя завлекает?
– Еще как... – и звонкий смех доносится из темноты.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
– Дома? – спросил Проценко сизоносую Педору, входя на следующий день вместе с Довбней в кухню.
– А где им быть? – недовольно ответила та гнусавым голосом. – К вам хотели посылать.
Довбня неприязненно взглянул на Педору: откуда еще взялось такое чучело?
Тем временем попадья, услышав знакомый голос, весело крикнула из комнаты:
– Нету дома!
– А где же барыня? – смеясь, сказал Проценко, входя в комнату.
– Господи! И не грех вам? – начала было попадья, но, увидев Довбню, сразу умолкла.
– Не ругайте меня, Наталья Николаевна, – начал Проценко. – Я к вам привел моего приятеля, Луку Федоровича Довбню. Помните, я вам как-то рассказывал о нем.
– Я рада... – заливаясь краской, сказала попадья, подавая Довбне руку.
– А я тот черт, которым детей пугают... – шутил Довбня, так сжимая ее маленькую руку, что у нее пальцы слиплись.
– Дома отец Николай? – спросил Проценко.
– Нет, его позвали на крестины, – ответила она и побежала в соседнюю комнату за стулом.
Довбня начал осматривать комнату.
В углу возле небольшого столика всего только два стула; самовар на столе напевал грустную песню. Видно было, что его уже давно не чистили: зеленые пятна ржавчины пестрели на нем повсюду, кран покосился, вода из него капала прямо на стол, на краю которого стояли два стакана; в одном был недопитый чай, а в другом какая-то бурная жидкость; из открытого чайника поднимался пар. Нигде не видно было хозяйской руки. Стены были голые, облупившиеся; тут валялись крошки, объедки, шелуха от семечек... В углу стоял оборванный диван, словно горбатый старец примостился у стены. Всюду бросались в глаза нужда и бесхозяйственность.
Пока Довбня оглядывал это убожество, из другой комнаты вернулась Наталья Николаевна со стулом.
– Это для меня? – спросил Довбня и взял у нее стул. – Напрасно беспокоились. Я могу и на полу посидеть.
Наталья Николаевна не знала, как ей понять слова Довбни: как насмешку над их бедностью или беспорядком? От стыда она покраснела до ушей.
А тут еще, хлопнув дверью, ввалилась в комнату Педора и, наступив Довбне на ногу, бросилась к самовару.
– Гляди, ноги отдавишь! – крикнул Довбня.
– У меня внизу глаз нет, – сердито буркнула Педора, хватая самовар.
– Педора, куда ты тащишь самовар? – крикнула попадья.
– Надо ж его подогреть. А то каким чертом гостей поить будем? Там уж и воды не осталось.
– Педора! – топнув ногой, крикнула попадья. – Сколько раз я тебя просила: хоть на людях не чертыхайся.
– А чем же вы будете гостей поить? Помоями? Глядите, я еще виновата.
– Педора! Бери самовар! Бери все! Только уходи, и чтоб я твоего голоса больше не слышала... Господи! – пожаловалась попадья, когда Педора скрылась за дверью. – Ни у кого, наверное, нет такой прислуги, как у меня... И приходится ее держать!
– Держать? – отозвалась из кухни Педора. – Хорошо держать прислугу и не платить ей! Заплатите мне, и я сегодня же уйду от вас и дорогу сюда забуду.
– Да замолчи, Христа ради! – крикнула попадья в кухню.
– А почему вы ее и в самом деле не рассчитаете? – спросил Проценко.
– Ну, скажите же ему! – гневно ответила попадья, очевидно, имея в виду мужа.
– За нее еще, видно, никто как следует не взялся, – сказал Довбня.
– Вот еще! – сказал Проценко.
– И задиристая какая, – сказал Довбня. – Хоть бы что-нибудь порядочное, а то смотреть противно.
Попадья и Проценко засмеялись.
– Ой, какой вы страшный и сердитый, – крикнула она с притворным ужасом.
– Да... пальца в рот не кладите, зубы еще крепкие, – улыбаясь, сказал Довбня.
– Неужели? – произнесла она, лукаво взглянув на него.
В ее голосе и жестах заметно было продуманное кокетство. Своей легкой кошачьей манерой и вкрадчивым голосом она старалась развлечь мрачного Довбню, который сидел насупившись и крутил свои длинные усы... Ей да не расшевелить его! Если захочет, она и немого заставит говорить!
Довбня вскоре развеселился и уж сыпал плоскими и грубыми шутками. Проценко поддерживал его, вставляя порой словечко-другое, а попадья их поощряла кокетливыми взглядами и раскатистым смехом. Вскоре наступило непринужденное веселье. Первые тяжелые впечатления рассеялись, и казалось, что нет мусора и грязи на полу, побелели стены и ярче стало тусклое пламя сальной свечи.
Оживленная беседа не умолкала ни на мгновенье. Педора внесла самовар, кряхтя, подняла его, поставила на стол и, окинув присутствующих неприязненным взглядом, вышла из комнаты.
– А я ждал, что раз она мне для первого знакомства ногу отдавила, так уж теперь кипятком ошпарит.
Громкий смех раздался в ответ, и за ним не слышно было, как сердито заворчала Педора и громко хлопнула дверью.
За чаем разговор еще больше оживился. Проценко не ожидал, что Довбня будет таким разговорчивым и веселым. Хотя без крутых словечек не обходилось, но Довбня так искусно вставлял их в разговор, как ювелир вправляет драгоценные камни. Он говорил почти не умолкая, под дружный смех слушателей, вспоминая давно прошедшие времена бурсы, гречневых галушек, протухшей каши и веселой дружбы. Рассказал, как чуть не еженощно, накинув на себя легкие хламиды, они отправлялись за добычей; как били сторожей и объездчиков, воровали сало и водку, а однажды поймали на улице кабана, закололи его, потащили к речке и там его так разделали, что следа не осталось. А было дело – у пана дочку украли. Пока одни пели под окном, а пан слушал, похитители с панской дочкой уже были у попа и уговаривали его повенчать молодую пару. Потом пан спохватился, но уж поздно было – дочка не его. Погневался старый, поругался, да ничего не поделаешь – принял зятя к себе. Только попа этого из села выжил, а вместо него зятя поставил.
– Теперь он уже благочинный! – закончил рассказ Довбня.
Наталья Николаевна тяжело вздохнула. Ее взволновало не то, чем стал герой рассказа, а то, как он украл дочку пана.
– Что ж, они раньше любили друг друга? – спросила она.
– Конечно. Записки передавали через слуг.
Наталья Николаевна еще больше разволновалась. «Пошлет же Бог такое счастье людям! И почему оно ей не выпало?» – думала она.
– А должно быть, весело и вместе с тем страшно удирать? – сказала она.
– Не знаю, удирать никогда не приходилось, бабой не родился.
Наталья Николаевна засмеялась.
– С такими усами, да бабой... – сказала она.
Довбня только глядел, как она колыхалась от смеха.
Чай выпили.
– Что ж теперь будем делать? – сказал Проценко. – Жаль, что Лука Федорович не взял с собой скрипки, а то бы вы услышали, как он играет.
– В другой раз без скрипки не приходите! Слышите! – сказала она и начала вполголоса напевать.
– Давайте споем! – предложил Проценко.
– Давайте! – поддержала попадья. – И вы, Лука Федорович, подтягивайте.
– Если песня мне будет знакома, то можно, – ответил Довбня, закуривая папиросу.
– А какую запоем? Давайте те, что у вас пели, – предложила Наталья Николаевна.
– «Выхожу один я на дорогу»? – спросил Проценко.
– Да, да... Лермонтова! Как я люблю Лермонтова! Страх! А при жизни, говорят, его не любили. Вот глупцы! Ах, если бы он теперь был жив!
– Так еще б насмеялись над ним, – заметил Довбня.
– Не признали бы? Правда ваша, Лука Федорович! – сказала попадья. – Сколько непризнанных талантов гибнет!
Только запели «Выхожу...», как в комнату вошел отец Николай и, не поздоровавшись, начал басом подтягивать. Он не прислушивался к поющим и пел сам по себе, не в такт. Видно, обильное было угощение на крестинах! Попадья, услышав этот разнобой, умолкла, за нею последовал и Проценко; один Довбня настойчиво подпевал попу, а тот, красный как рак, пыжился и ревел как бык.
– Да перестань! Слушать тошно! – крикнула попадья, затыкая уши.
– Не слушай... А как дальше? – обращается он к Довбне.
Довбня мрачно усмехнулся.
– Это уже конец, – сказал он.
– Конец? – спросил отец Николай. – Жалко.
Потом он бросился к Довбне, обнял его и расцеловал.
– Мы же с тобой старые друзья... вместе учились. Слышишь, Наталья... вместе учились. Он был только на старшем курсе... Отчего ж ты не пошел в попы? Эх, ты! Неуютное, братец, наше житье, но все же лучше, чем так слоняться. Жена, дети. Постой, соврал... детей нет и уж не будет... а жена? – Он хотел еще что-то сказать, но только мотнул головой и спросил Довбню: – Водку, братец, пьешь?
– Кто ж от такого добра отказывается?
– Эй, жена! Дай нам водки, закуски, всего давай! Что есть в печи, все на стол мечи! А я с вами не поздоровался, – вдруг спохватился он. – Простите! – И, бросившись к Проценко, обнял его.
– И это добрый человек, – сказал он, обращаясь к Довбне. – Хорошие теперь люди пошли, все как есть! А отчего ж его моя жена любит? Этого бородатого? Вишь, какой он... Дай в бороду поцелую... А ты, жена, гляди, как-нибудь наши бороды не перепутай... еще, чего доброго, в него вцепишься руками.
– Что ты мелешь? – укоризненно сказала Наталья Николаевна. – Напился, а теперь несет Бог знает что.
– Правда... напился... Нельзя было... кум... Постой, кто же кумом-то был?... Никак не вспомню... Вот это пивка... всех перепил. Не сердись же на меня, женушка, дай свою белую рученьку, приложи к моему горячему сердцу... Дай поцелую твои глазоньки ясные... как это в песне поется... как соленый огурчик.
Попадья торопливо отшатнулась – от него нестерпимо несло винным перегаром.
– Ты б хоть чужих людей постыдился.
– Какие это чужие? Они, брат, свои... А хоть бы и чужие... Кто ж ты у меня? Ты ж у меня первая и последняя! Не сердись, дай нам водочки... – и он сделал такую уморительную гримасу, что все от души захохотали.
Отец Николай смеялся со всеми и, подпрыгивая на одной ноге, выкрикивал: «Водочки, водочки!»
– Где ж ее взять? – наконец сказала Наталья Николаевна. – Ты же знаешь, что дома нет. А послать... кого ж я пошлю?
– А Педору?
– Она мне уж и так нагрубила; я ей слово, а она мне десять.
– О, черт бы ее побрал! Педора! – крикнул поп, опускаясь на диван.
Прошло несколько минут, пока в комнату вошла растрепанная и заспанная Педора.
– Ты моя слуга? – спросил поп.
Педора молча сопела.
– Слуга, – спрашиваю? – крикнул поп.
– Говорите уж, что нужно, – почесываясь, сказала Педора.
– Вот что: если ты барыни не будешь слушаться, то я... тебе!
– За водкой, что ли, идти? – зевая, спросила Педора.
– А-а, догадлива, чертовка! – усмехнувшись, сказал отец Николай. – Ну, скажи мне, как ты догадалась?
– Лавочник сказал, что без денег больше не даст, – отрезала Педора.
– Черт с ним! Нехристь! Я тебя спрашиваю, как ты догадалась, что водка нужна?
– Так у вас же гости. Может, кто и выпить хочет.
– А ты хочешь?
Педора усмехнулась, вытирая нос.
– И я выпью, если дадите.
– Молодец! – похвалил ее отец Николай и начал рыться в кармане. – На тебе полтинник. Слышишь? Целый полтинник... Скажи шинкарю, чтобы полную кварту налил, да хорошей! Только не из нашей посуды, а у шинкаря чарку возьми... и только одну чарку выпей. Слышишь?
– Вот так у нас всегда, – жаловалась тем временем попадья Довбне. – Как видите... Нет того, чтобы сделать прислуге выговор, все отшучивается. Так он и портит прислугу, и они не слушаются.
– Тебя слушаться, так надо на части разорваться, – огрызнулся отец Николай. – У тебя сразу десять дел: подай, Педора, это, на тебе то, беги за тем и не забудь о том!.. Нет, какая ты хозяйка!
– О, зато ты мудрый хозяин!.. Слоняться по чужим домам да есть, что дадут, – запальчиво произнесла Наталья Николаевна.
– У нас служба такая, – ответил отец Николай. – Мы, и слоняясь по чужим, не пропадем, а ты дома с голоду околеешь.
– С таким хозяином... – сердито сказала попадья.
Отец Николай махнул рукой.
– Не слушай ее, – обратился он к Довбне. – Женщины, брат, и черта проведут! – сказал он шепотом, но так, что все слышали.
Наталья Николаевна укоризненно посмотрела на мужа, поджала губы и молча опустилась на стул. Ее щеки пылали от гнева, глаза нахмурились.
Отец Николай потирал ладонями колени и беспричинно хихикал.
– Как придурковатый, – сквозь зубы процедила попадья.
– Вы сердитесь? – подойдя к ней, спросил Проценко.
Она молча взглянула на него. Нижняя губа ее дрожала... Довбня мрачно глядел на все это, а поп хихикал. Наступила гнетущая тишина, как перед бурей.
Быть может, и в самом деле разразилась бы буря, но в это время пришла Педора. В полушубке, накинутом на плечи, закутавшись так, что из-под платка только торчал нос, она ввалилась в комнату, грохоча своими огромными башмаками; подойдя к столу, она вынула из-под полы бутыль с водкой и, встряхнув ее, сказала:
– Самый смак!
Проценко засмеялся.
– Чего смеешься? – сказала Педора.
– Молодец ты у меня, молодец! – сказал поп. – Тащи только скорее чарку и чего-нибудь закусить.
Педора кашлянула, вытерла нос и молча ушла.
Вскоре она вернулась, неся в одной руке чарку, а в другой тарелки с жареной рыбой, солеными огурцами и хлебом. Отец Николай оживился, но, взглянув на жену, которая сидела надувшись как сыч, сел за стол и, обведя всех глазами, снова захихикал.
– Как здоровье вашей кумы? – спросила Наталья Николаевна у Проценко. – Я никак не соберусь к ней!
– Да потому, что вы долго собираетесь.
Она что-то хотела ответить, но отец Николай ее перебил:
– А может, ты бы нас, Наталья, попотчевала?
– Если не поднесете, я и пить не стану, – сказал Довбня.
– Почему же? – спросила она.
– У женщин рука легкая... Легко водка проходит, не застрянет в горле.
– О, у меня рука тяжелая, – сказала попадья, сжала свою руку в кулак и подняла ее вверх.
– Ваша? – насмешливо спросил Довбня. – А ну, покажите?
– Что ж вы там увидите? Разве вы знахарь?
– Знахарь.
Попадья разжала кулак и протянула руку Довбне. Тот бережно взял ее за кончики пальцев и, наклонившись вперед, разглядывал линии на ладони.
– Долго мне жить? – спросила она.
– Сто лет! – крикнул Довбня, потом прижал ее ладонь к своему уху. – Прижмите крепче! – сказал он.
– Вы и в самом деле точно знахарь, – защебетала она. – Что же вы там услышите?
Довбня не ответил. Потом поднял голову, снова взял ее руки и, улыбаясь, смотрел в глаза Наталье Николаевне. Он чувствовал, как пульсирует кровь в ее жилах.
Попадья вдруг весело засмеялась. Поп, подпрыгнув, крикнул:
– Магарыч! Магарыч!
Один Проценко стоял грустный и пристально глядел то на Довбню, то на попадью. Он видел, как загорелись ее глаза, как побелевшее лицо снова медленно покрывалось румянцем.
– Колдун! Колдун! – крикнул поп, бегая по комнате и радуясь, что Довбня развеселил Наталью Николаевну. – За это надо выпить! Ей-Богу!
– Что ж вы там услышали? – допытывалась Наталья Николаевна у Довбни.
– Поднесите! – сказал Довбня, указывая на бутылку.
Попадья схватила чарку и, наполнив ее, поднесла Довбне.
– Капельку! Одну капельку! – и он отстранил чарку.
Попадья отхлебнула с полчарки и поспешно долила. Довбня залпом опорожнил ее.
– Всем, всем наливайте! – крикнул он.
Наталья Николаевна неприязненно взглянула на Довбню.
– И вам, Григорий Николаевич? – перевела она взгляд на Проценко.
– Всем! Всем! – не унимался Довбня.
– Мне немножечко. Я не пью, – сказал Проценко.
– Надо делать так, как велит знахарь, – сказала попадья. Выпитая водка уже давала себя знать – у нее разгорелись щеки, заблестели глаза, шумело в голове.
– Не все то правда... – начал Проценко, беря чарку.
– Или не каждому слуху верь! – перебил его Довбня.
Проценко укоризненно посмотрел на него.
– Да вы в самом деле говорите как знахарь. Даже страшно делается, – откликнулась попадья.
Проценко отхлебнул немного водки, скривился и поставил чарку на стол.
– А мне? – сказал отец Николай.
– И тебе еще? Мало на крестинах выпил? – спросила попадья.
– Всем! Всем! – крикнул Довбня.
Попадья налила чарку отцу Николаю; тот торопливо выпил и поцеловал донышко.
– Правильно! – крикнул Довбня.
– Что же вы услышали? – спросила его попадья.
– А вы хотите знать?
– Конечно, хочу.
– И не рассердитесь, если правду скажу?
– Только правду.
– Ну, слушайте.
Все насторожились.
– Нет, сначала налейте еще по чарке, – сказал Довбня.
У попадьи еще больше разгорелись глаза, под ними еле заметно синели круги. Она схватила бутылку и налила Довбне и мужу. Проценко отказался. Он смотрел, как Довбня неуверенно ходит по комнате; прядь волос у него упала с головы на лоб, но он этого не заметил. Видно, что и его уже начал разбирать хмель.
– Только, чур, не сердиться! – обратился Довбня к попадье.
– Микола! Признавайся! – сказал он затем попу и что-то прошептал ему на ухо.
Отец Николай расхохотался. Проценко сильно встревожился. «Ну, теперь пойдет!» – подумал он, глядя на попадью. Но та игриво и выжидательно смотрела на Довбню.
– Признавайся: давно? – вслух допытывался Довбня.
– Да ну тебя, такое выдумал! Не надо... Давай лучше выпьем, – отмахиваясь, сказал поп.
– Ну, а если давно, то что будет? – спросила попадья.
– Сын будет, – крикнул Довбня.
– Браво! Браво! – Поп захлопал в ладоши и бросился обнимать Довбню.
Наталья Николаевна застенчиво улыбнулась, опустила глаза и искоса взглянула на Проценко; тот мрачно поглядывал на попа и Довбню.
– Нам весело, а тебе грустно, – тихо сказала она и громче добавила, указывая на Довбню: – Смотри, какой он приятный, веселый, разговорчивый, не тебе чета.
Проценко еще больше нахмурился.
– Ты сердишься? – шепнула ему чуть слышно. – А что, если Довбня угадал?
Проценко увидел, как у нее дрожали руки и горели глаза от возбуждения; ему казалось, что она вот-вот бросится ему на шею. Он торопливо отошел от нее и обратился к попу:
– А знаете, что Наталья Николаевна говорит?
– Григорий Петрович! – крикнула попадья, топнув ногой. – Рассержусь! Ей-Богу, рассержусь!
– Наталья Николаевна говорит... – продолжал Проценко.
Попадья, словно кошка, метнулась к нему и обеими руками зажала ему рот.
– Наталья Николаевна говорит... что надо выпить еще по одной, – с трудом выговорил Проценко.
– Правильно! Правильно! – загудел Довбня.
– Можно выпить, – поддержал поп.
– И я! И я! – сказал Проценко и выпил полчарки.
Довбня и поп не заставили себя ждать и осушили по полной.
Всем стало весело. В комнате не умолкал шум, хохот, крик. Поп просил Довбню запеть аллилую, а тот, слоняясь по комнате, жужжал, подражая жуку. Проценко забился в угол, а попадья носилась взад и вперед по комнате, не раз толкала его в бок, хватала за руки.
– Давайте играть в карты! – крикнула она и бросилась за картами.
Уже начали играть, но тут поп поднялся, сильно пошатываясь.
– О-ох, спать хочу! – крикнул он и ушел в другую комнату.
Гости тоже собрались уходить.
– Куда вы? Пусть он спит, а вы посидите, – просила попадья.
– Пора! Пора!
Довбня выпил еще на дорогу и, ни с кем не прощаясь, направился в кухню.
– Не ходите туда! Я вас провожу другим ходом, – крикнула попадья.
Довбня, словно не расслышав, посмотрел на нее, махнул рукой и, накинув на плечи пальто, вышел из комнаты.
– Отчего ты сегодня был таким невеселым? – спросила попадья в сенях, провожая Проценко. – Голубчик мой! И выпала мне горькая доля коротать век с нелюбимым мужем!.. Когда ж ты придешь? Приходи скорее, а то я с ума сойду.
Проценко молча освободился от ее жарких объятий. Он сам не знал, почему попадья сегодня оказалась неприятной. Ее намек о сыне словно холодной водой обдал его. Он и выпил лишнее, чтобы забыться, но это ему не удавалось. Одна мысль одолевала его – поскорее вырваться из этого запутанного положения. Холодный воздух освежил Проценко, и он облегченно вздохнул. Среди двора он натолкнулся на Довбню, топтавшегося на одном месте.
– Кто это?
– Я... – крикнул Довбня и добавил еще крепкое словцо, от которого Проценко передернуло. – Рукава пальто никак не найду. Не оторвали его?
Проценко засмеялся, помог Довбне одеться, взял его под руку и повел со двора.
Было уже далеко за полночь, на темном небе ни одной звездочки, вокруг – густая неприглядная темень. Холодная осенняя изморозь заставляет поеживаться; на улице – глухая тишина; редкие фонари желтеют во тьме мутными дисками.
– Куда ж мы идем? – спросил Довбня, останавливаясь среди улицы.
– Куда, как не домой, – ответил Проценко.
– Зачем? Я не хочу домой.
– А куда же?
– Хоть к черту в болото, лишь бы не домой.
– Почему?
– Почему?... Эх, брат! – продолжал Довбня, опираясь на Проценко. – Ты ничего не знаешь, а я знаю... Я все тебе расскажу, все... Ты видел у нас девку Марину? И – черт его знает – подвернулась она мне под пьяную руку. Случился грех... ну... а теперь проходу не дает... Женись, говорит, на мне, а то повешусь или утоплюсь... Видишь, куда гнет... Казацкими нагайками меня б надо за это пороть! – крикнул он, топнув ногой так, что вода из лужи обдала их фонтаном. – Какой это черт плюется? – ворчал он, вытираясь. – А все-таки она, брат, красивая! – закончил он неожиданно.
«Сам черт не разберет этого Довбню! – подумал Проценко. – Что ему нужно? Сам виноват».
– Ты не первый и не последний, – сказал он.
– То-то и есть! Жалко, брат, девку. Либо женись, либо вместе с нею топись.
– Жениться! Что ж, она тебя в самом деле любит?
– А черт ее батьку знает... Баба, брат, верна до тех пор, пока кто-нибудь ее пальцем не поманит.
– Ну, не все такие, – возразил Проценко.
– Все! – сказал Довбня. – Все одним миром мазаны! Такая уж это порода... А все-таки жаль девку, пропадет ни за что ни про что! Пойдет по рукам и умрет где-нибудь под забором.
– Ну, это уж твое дело; как хочешь, так и делай...
Они как раз дошли до перекрестка, где дороги их расходились. Проценко нужно было свернуть направо, а Довбне идти прямо через площадь.
– А что бы ты сделал на моем месте? – спросил Довбня.
– Не знаю, не бывал в таких переплетах.
– И желаю тебе в них не попадать. Самое худшее, когда разрываешься пополам... Этот, – Довбня ткнул себя пальцем в лоб, – говорит: наплюй на все! Так уж на свете повелось, что один другого поедает... А вот это глупое, – он положил руку на левую сторону груди, – разрывается от жалости... Тьфу!
Проценко зевнул.
– Зеваешь? Спать хочешь?
– Уже пора.
– Так идем.
– Тут наши дороги расходятся, – сказал Проценко.
– Тогда прощай, – сказал Довбня и собрался уходить. – Впрочем, постой!
– Что еще?
– Хорошие, брат, люди – поп и попадья. Она больно хороша... Как ты думаешь?
Довбня еще ляпнул такую непристойность, что Проценко только плюнул и, не отвечая ему, поплелся дальше.
– Молчишь?... Знает кошка, чье сало съела, да помалкивает! – вслух бормотал Довбня. Он шел один по пустынной площади, часто спотыкаясь, принимая блестевшие лужи за дорогу, и, увязнув, сердито ругался и снова плелся вперед.
А Проценко, оставшись один, вздохнул свободнее. Он опасался, что Довбня попросится к нему на ночлег. Пьяный будет выкомаривать всю ночь напролет. Хорошо бы еще о чем-нибудь путном, а то про эту шлюху... Вот мучается человек. А отчего?
Проценко начал перебирать в памяти слова Довбни о его переживаниях, о разладе между умом и чувством. «Странно!» – думал Проценко; он удивлялся не тому, что случилось с Довбней, а тому, что вообще такое бывает. Ничего подобного в своей жизни он не припомнит; всегда ему улыбалось счастье. Только один раз закружил его водоворот, да и то он не попал на дно, а быстро выплыл наверх, на тихие волны, которые понесли его к надежной пристани, и в душе только сохранились смутные воспоминания о заблуждениях молодости. Больше это не повторится! Нет, не повторится!
«Жизнь – удача, – думал он. – Бери от нее все, что она дает; ничто не вечно; не жалей о том, что миновало тебя, но не зевай, когда оно плывет тебе в руки».
Непроницаемая ночная темень, глухи и безлюдны улицы. Ничто не мешало Проценко всецело отдаться своим мыслям, и они окружили его шумным роем. Он сравнивал вчерашний вечер с сегодняшним. Как хорошо и весело было вчера! Игра Довбни согревала сердце, а сегодня его жжет поповская водка; вчера любовался красотой Христа, а сегодня с души воротит от приставаний попадьи. Это откровенное бесстыдство на глазах у людей... – Он даже вздрогнул. – ...А Христя совсем другая: робкая, стеснительная, только порой лукавый взор выдает ее... Бьется сердце, чего оно хочет?... Он и не заметил, как очутился около своего дома. Всюду темно. Он постучался в кухонное окно.
– Сейчас, сейчас! – донесся до него тотчас же чей-то голос из кухни.
«Кто же это? Христя или Марья? Лучше, если б это не была Марья».
Пока он обогнул дом и дошел до двери, она уже была распахнута, а в сумраке белела чья-то фигура.
– Ну, идите скорее, – раздался голос Христи. Его словно что-то укололо.
– Это ты, Христя? Моя голубка. И встать не поленилась, – сказал он тихо и, обняв ее, поцеловал в щеку.
– Что вы? Господь с вами! – прошептала Христя.
Проценко казалось, что она к нему еще ближе приникла. Он ощущал ее горячее дыхание.
– Сердце мое! Христиночка!
Как безумный, прижал ее Проценко к груди, покрывая поцелуями лицо, губы, глаза.
– Довольно... Еще Марья услышит, – прошептала Христя.
– Ягодка моя наливная!.. – Он ласкал ее все с большей горячностью.
– Идите, я сама запру, – сказала она громко. Он ушел в свою комнату, а Христя снова забралась на печь.
Неожиданная ласка и поцелуи еще долго не давали ей успокоиться, и она не могла уснуть. Необычное, никогда не изведанное волнение овладело ею. Ей хотелось смеяться и плакать.
«Неужели он, паныч, за которым гонятся барышни всего города, меня любит?... Неужели эта попадья, которая, говорят, хороша, как картинка, хуже меня? А я, простая девка, понравилась ему?... Странно!.. И пани к нему льнет... а ведь и она недурна собой... Значит, я для него красивей? Господь его знает! Может, ему захотелось поиграть мною да посмеяться, а я ему верю? – Неожиданный приступ тоски овладел ею, словно острые когти вонзились в сердце... – Нет, нет! Что-то здесь не так... Отчего ж так горячи его объятия?»
До самого рассвета не сомкнула глаз Христя, то млея от неожиданного счастья, то тоскуя от тревожных дум и не находя себе места от беспокойства и томления.








