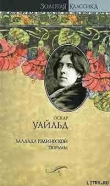Текст книги "Письма"
Автор книги: Оскар Уайльд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
214. РОБЕРТУ РОССУ {310}310
«Я вел себя как, обычно, но он…» – имеется в виду Дуглас.
«Я в ужасе от известий о Смизерсе»: у Смизерса уже начались серьезные финансовые трудности, приведшие в итоге к банкротству, объявленному официально 18 сентября.
[Закрыть]
Отель «Эльзас», Париж
[Май – июнь 1900 г.]
Дорогой мой Робби! Наконец-то я приехал. Десять дней провел в Глане с Гарольдом Меллором; автомобиль был великолепен, но, конечно, не преминул сломаться. Автомобили, как и прочие механизмы, куда более норовисты, чем животные, – это нервные, раздражительные, дикие существа; я подумываю, не написать ли статью на тему «Нервы в неорганическом мире».
Фрэнк Харрис здесь, и Бози тоже. На днях после ужина я, не называя суммы, задал Бози вопрос, который ты предлагал задать. Он только что выиграл на скачках 400 фунтов и еще 800 несколькими днями раньше, и по этому случаю он был в приподнятом настроении. Мои слова вызвали у него вспышку бешеного гнева, перешедшего в язвительный смех, и он сказал, что чудовищнее он в жизни ничего не слыхивал, что и не подумает делать что-либо подобное, что моя наглость его поражает, что он не считает себя в долгу передо мной ни в каком смысле. Он был совершенно отвратителен, просто мерзок. Потом я рассказал обо всем Фрэнку Харрису, который очень удивился, но глубокомысленно заметил: «Никого ни о чем не проси – это всегда ошибка». Еще он сказал, что лучше всего было бы, если бы кто-нибудь другой предварительно поговорил с Бози и попросил его от моего имени. Мне тоже так казалось, но ты вот не выказал большого рвения вести с Бози переписку по денежным вопросам, что меня нисколько не удивляет.
Все это для меня невыносимо и совершенно убийственно. Когда я вспоминаю его письма в Дьепп, его клятвы в вечной преданности, его мольбы о совместной жизни до конца дней, его непрестанные заверения в том, что вся его жизнь и все его имущество принадлежат мне, его желание хоть как-то залечить раны, которые он и его семья мне нанесли, – когда я вспоминаю это, меня буквально тошнит, я с трудом удерживаюсь от рвоты.
Разговор произошел в кафе де ля Пе, так что я не стал, конечно, устраивать сцену. Я только сказал, что если он не считает себя в долгу, то говорить нам больше не о чем.
Вчера вечером мы ужинали в ресторане с Фрэнком Харрисом. Я вел себя, как обычно, но он – теперь, получив деньги, каким же он стал подлым, мелочным и жадным. Помнишь, как он всегда обвинял тебя в буржуазной меркантильности, противопоставляя ей аристократическую широту и щедрость? Ныне он оставил тебя далеко позади. «Я не могу позволить себе тратить деньги на других» – вот один из его перлов. Я тут же вспомнил о тебе и моем дорогом Море, о вашей щедрости, о вашей рыцарственности, о ваших жертвах ради меня. Вот где красота, а там – одно уродство, житейская грязь.
Будь хорошим мальчиком и вышли мне чек. Всегда твой
Оскар
Я в ужасе от известий о Смизерсе. Прямо беда.
215. ФРЭНКУ ХАРРИСУ {311}311
Письмо, завершающее том «Избранных писем» Уайльда 1979 года, и вообще – последнее в жизни письмо, написанное Уайльдом (точнее, продиктованное им все тому же Морису Гилберту, за исключением двух последних строк, которые он написал своей рукой). Это одно из целой серии писем, адресованных Харрису в эти месяцы и касающихся постановки пьесы «Мистер и миссис Дэвентри», премьера которой состоялась в театре «Ройялти» 25 октября с миссис Патрик Кэмпбелл и Фредом Керром в главных ролях.
Говоря о правах на публикацию двух своих пьес, которые он обещал Смизерсу, Уайльд имеет в виду «Идеального мужа» и «Как важно быть серьезным».
Художница, о которой пишет Уайльд, – Альтеа Джайлз (1868–1949), впоследствии иллюстрировавшая изданную Смизерсом в 1904 году балладу Уайльда «Дом блудницы».
[Закрыть]
Отель «Эльзас»
20 ноября 1900 г.
Дорогой Фрэнк! Вот уже почти два с половиной месяца я прикован к постели, и я все еще очень болен – две недели назад у меня был рецидив. По ряду причин, однако, я решил безотлагательно написать тебе; речь пойдет о деньгах, которые ты мне задолжал. Расходы на мое лечение приблизились к 200 фунтам, и мне приходится просить тебя немедленно выслать причитающуюся мне сумму. 26 сентября, почти уже два месяца назад, ты собственноручно составил договор, где обязался в течение недели заплатить мне 175 фунтов и, помимо этого, выплачивать четвертую часть всех доходов. Ты сказал, что оставил в Лондоне свою чековую книжку, что ты возвращаешься туда на следующий день и что сразу по возвращении ты вышлешь мне чек. Ты дал мне 25 фунтов в счет этих денег, и я, естественно, поверил слову старинного друга, подкрепленному к тому же договором, который ты написал своей рукой, хоть и не подписал, и я вручил тебе расписку на всю сумму. Я был столь же уверен в том, что получу деньги в срок, как в том, что солнце взойдет на востоке и сядет на западе. Прошла неделя – от тебя ни слуху ни духу; наконец, врач счел своим долгом предупредить меня, что, если я немедленно не соглашусь на операцию, будет слишком поздно и что последствия такой отсрочки могут оказаться роковыми. С большим трудом я собрал у друзей – или, лучше сказать, они для меня собрали – 1500 франков на операцию, и меня прооперировали под хлороформом. После этого я отправил тебе телеграмму с просьбой немедленно выслать деньги. В ответ я получил всего 25 фунтов. На этом ты счел вопрос исчерпанным, вследствие чего я целый месяц пребываю в положении, хуже которого не придумаешь. Заметь, я вовсе не осуждаю твое поведение, я просто констатирую факты. В настоящее время по нашему договору двухмесячной давности ты должен мне 125 фунтов. Кроме того, мне причитаются еще 25 фунтов, поскольку ты получил 100 фунтов аванса от миссис Кэмпбелл. Ты сказал мне у Дюрана, что эти деньги будут выплачены после гонорара. Хотелось бы знать, тот ли это случай. Пьеса идет уже, по-моему, три недели, и я не получаю никаких сведений о доходах и причитающемся мне вознаграждении. Отчет о доходах и моей доле в них должен, конечно, высылаться мне каждую неделю. Я должен попросить тебя немедленно расплатиться, так как я не в состоянии без денег вести жизнь, которую я веду, оплачивая двух врачей, сиделок, брата милосердия и неся все жуткие расходы, вызванные долгой и опасной болезнью.
Что же касается Смизерса, нечего и говорить, насколько я изумлен тем, как легко ты позволил ему себя шантажировать, и я, разумеется, решительно возражаю против твоего намерения возместить себе убытки из тех денег, что ты мне должен, и наложить арест на мою небольшую долю доходов. Я и мысли об этом не допускаю. Несколько лет назад мы со Смизерсом заключили договор, где я дал обязательство написать для него пьесу к определенному сроку. Выполнить его я не смог, но Смизерс совершенно официально заявил мне в Париже, что он не имеет ко мне никаких претензий и что договор потерял силу. Письменного отказа я от него не получил, это верно, но мы со Смизерсом были в то время закадычными друзьями, и в его случае, как позднее в твоем, я счел слово друга надежной гарантией. Взамен я пообещал ему права на публикацию двух моих пьес и исключительное право на стихотворение, над иллюстрациями к которому в это время работала художница выдающегося дарования. Но потом Смизерс, как тебе известно, обанкротился, и я один из его кредиторов. Если бы Смизерс считал тот договор действующим, он, разумеется, воспользовался бы им, чтобы нейтрализовать мои претензии, но он этого не сделал, ясно показав тем самым, что, по его мнению, договор не только просрочен, но и формально утратил силу. Его приход к тебе и попытка вытянуть из тебя деньги есть чистый шантаж, ибо, если даже тот договор что-нибудь стоит, он, безусловно, находится в ведении судебного исполнителя и Смизерс имеет не больше прав распоряжаться им и торговать им, чем любой человек с улицы. Надеюсь, ты сам понимаешь, что Смизерс допустил серьезное нарушение закона о банкротстве, и, если бы судебный исполнитель об этом узнал, Смизерс оказался бы в очень затруднительном положении, а может быть, и за решеткой. Расскажи все это своему адвокату, и он подтвердит тебе мои слова. Я даже думаю, что если Смизерс еще не пропил эти 100 фунтов, адвокат сможет вернуть тебе твои деньги. Конечно, решать тебе, а не мне, но все же учти, что, находясь в столь незавидном положении, Смизерс вряд ли захочет рисковать своей свободой.
Взять, к примеру, эпизод, когда пресловутый Нетерсоул в наихудший период моей болезни заявлялся ко мне чуть ли не ежедневно и пытался шантажировать меня тем, что ему в руки попал экземпляр моих набросков к пьесе, считая, что пьеса принадлежит любому, кто имеет такой экземпляр. Представь на минуту, что в этих обстоятельствах я имел бы глупость дать ему требуемые 200 фунтов, – ты, я думаю, немало бы посмеялся, если бы я потом потребовал у тебя возместить мне эти 200 фунтов из своего кармана. Но даже и без всяких параллелей твой адвокат в два счета объяснит тебе, что Смизерс действует совершенно незаконно и что, поддавшись ему, ты поступил очень глупо.
Что же касается меня, мне за тебя очень обидно, но я не могу возместить тебе убыток, и странно, что ты хоть на миг вообразил меня на это способным. Самое важное, однако, поскорее сквитаться,и я очень прошу тебя немедленно выслать 150 фунтов, которые ты мне должен, и причитающуюся мне долю доходов.
Нечего и говорить, что я чрезвычайно расстроен таким оборотом наших отношений, но ведь моей вины в этом нет никакой. Если бы ты сдержал свое слово, выполнил соглашение и выслал деньги, которые ты мне должен и расписка за которые у тебя хранится, все было бы в порядке; и, безусловно, я уже две недели был бы совершенно здоров, если бы не то непрекращающееся душевное смятение, которое я испытываю по твоей милости, и не сопутствующая ему бессонница, неподвластная ни одному из опиатов, которые врачи решаются мне назначить. Сегодня 20-е, вторник. Очень надеюсь получить от тебя 150 фунтов, которые ты мне должен. Искренне твой
Оскар Уайльд

ЭПИЛОГ {312}
РОБЕРТ РОСС – МОРУ ЭЙДИ
14 декабря 1900 г.
9 октября, во вторник, я написал Оскару, от которого довольно долго ничего не получал, что приеду в Париж в четверг 18 октября, пробуду там несколько дней и надеюсь его повидать. 11 октября, в четверг, я получил от него следующую телеграмму: «Вчера была операция – приезжай немедленно». Я телеграфировал, что приеду, как только смогу. Он ответил: «Совсем ослаб – приезжай, прошу тебя». Я отправился вечером во вторник, 16 октября. В среду утром, около 10.30, я пришел к нему. Он был в очень хорошем настроении; и хотя он уверял меня, что ужасно страдает, он смеялся во весь голос и сыпал шутками по поводу врачей и самого себя. Я провел у него два часа и вернулся примерно в 4.30, после чего Оскар принялся излагать мне свои обиды на Харриса в связи с пьесой. Насколько я мог понять, Оскар, конечно же, ввел Харриса в заблуждение. Харрис писал пьесу, думая, что откупаться надо будет только от Седжера, который заплатил Оскару 100 фунтов; между тем оказалось, что и Кирл Беллью, и Льюис Нетерсоул, и Ада Реган, и даже Смизерс – все они, кто раньше, кто позже, дали Оскару по 100 фунтов и теперь набросились на Харриса, угрожая ему исками. Поэтому Харрис заплатил Оскару только 50 фунтов из всей суммы – ведь ему нужно было в первую очередь от них всех откупиться. Вот Оскар и обиделся. Я заметил, что все равно он сейчас в гораздо лучшем положении, чем раньше, поскольку Харрис в любом случае в конце концов расквитается со всеми, кто заплатил Оскару вперед, и Оскар рано или поздно получит что-то и сам; Оскар ответил весьма характерным образом: «Фрэнк лишил меня единственного источника дохода, забрав пьесу, за которую я в любую минуту мог выручить 100 фунтов».
Я виделся с Оскаром каждый день, пока не уехал из Парижа. Реджи и я иногда обедали или ужинали с ним в его комнате – тогда он бывал оживлен, хотя и выглядел очень больным. 25 октября, когда к нему пришел мой брат Алек, Оскар был в ударе. В то же самое время у него находилась вдова его брата Вилли и ее нынешний муж Тешейра – они как раз проезжали через Париж, проводя медовый месяц. Он сказал, в числе прочего, что жил не по средствам и умирает не по средствам; что он не переживет девятнадцатого столетия; что англичане не вынесли бы его присутствия – ведь и Выставка провалилась из-за него, поскольку англичане, увидев его там хорошо одетым и довольным, перестали ее посещать; что и французы, видя это, укажут ему на дверь.
29 октября, в полдень, Оскар в первый раз встал на ноги и вечером, после ужина, потребовал вывести его на прогулку – он уверял меня, что врач ему это разрешил, и не пожелал слушать моих предостережений.
Правда, несколькими днями раньше я сам склонял его встать с постели, поскольку врач не возражал, но он тогда отказался. Мы отправились в маленькое кафе в Латинском квартале, где он потребовал заказать ему абсент. Шел он с трудом, но держался не так уж плохо. Я отметил только, что лицо его внезапно постарело, и на следующий день сказал Реджи, что одетый и на ногах он выглядит совсем иначе. В постели он производил сравнительнонеплохое впечатление. (Я впервые увидел, что его волосы тронула седина. Ведь тюрьма на цвете его волос не сказалась – они сохранили свой мягкий темно-русый оттенок. Помнишь его постоянные шутки на эту тему? Он забавлял надзирателей, говоря, что его волосы стали белыми, как снег.)
Назавтра Оскар, естественно, уже был простужен и страдал от сильнейшей боли в ухе, однако доктор Таккер сказал, что он может выйти еще, и на следующий день после полудня, в очень мягкую погоду, мы поехали в Булонский лес. Оскар чувствовал себя намного лучше, но жаловался на головокружение; вернулись мы около половины пятого. Утром в субботу 3 ноября мне встретился panseur [92]92
Брат милосердия (франц.).
[Закрыть]Аньон (Реджи постоянно называл его libre panseur) [93]93
Игра слов: libre penseur – вольнодумец (франц.).
[Закрыть]; он каждый день приходил делать Оскару перевязку. Он спросил меня, являюсь ли я его близким другом и знаком ли я с его родными. Потом он сказал, что общее состояние Оскара очень серьезное, что, если он не изменит образа жизни, он протянет от силы три-четыре месяца, что мне надо поговорить с доктором Таккером, который, похоже, не понимает всей серьезности положения, и что заболевание уха важно не само по себе, а как угрожающий симптом.
В воскресенье утром я пришел к доктору Таккеру – милому и доброму глупцу; он сказал, что Оскару следует взяться за перо, что ему много лучше, что его состояние может стать серьезным, только если он, поднявшись, возобновит прежние излишества. Я умолял его о полной откровенности. Он пообещал попросить у Оскара разрешения поговорить со мной о его здоровье совершенно открыто. Во вторник в назначенное время я был у него; он говорил очень неопределенно и, хотя до некоторой степени согласился с Аньоном, все же утверждал, что Оскар поправляется и что погубить его может только неумеренное употребление спиртного. Позже в тот день, придя к Оскару, я нашел его очень возбужденным. Он сказал, что не желает знать, что там наговорил мне врач. Он заявил, что его нисколько не тревожит перспектива скорой смерти, и перевел разговор на свои долги, которые, по-видимому, перевалили уже за 400 фунтов. Он попросил меня после его смерти позаботиться о том, чтобы хотя бы некоторые из них непременно были возвращены, если только у меня будут на это средства; в отношении иных из своих кредиторов он испытывал муки совести. К моему большому облегчению, вскоре явился Реджи. Оскар сказал, что прошлой ночью ему приснился ужасный сон – будто он сидел за одним столом с мертвецами. Тут Реджи сострил в своем обычном стиле: «Милый мой Оскар, ты наверняка был душойобщества». Это развеселило Оскара, и он вновь пришел в приподнятое, почти истерическое настроение. Я покинул его с тяжелым сердцем. В тот же вечер я написал Дугласу, что вынужден уехать из Парижа, что врач считает состояние Оскара очень тяжелым, что… следует заплатить часть его долгов, так как они чрезвычайно его угнетают и затрудняют его выздоровление, – на это доктор Таккер упирал особенно. 2 ноября, в день поминовения усопших, мы с… поехали на кладбище Пер-Лашез. Оскар этим очень заинтересовался и спросил меня, выбрал ли я уже место для его могилы. Легко и шутливо он принялся обсуждать возможные эпитафии, и мне даже в голову не могло прийти, что он стоит на пороге смерти.
В понедельник 12 ноября вместе с Реджи я отправился в отель «Эльзас» попрощаться, так как на следующий день уезжал на Ривьеру. Мы пришли поздно вечером после ужина. Оскар был весь погружен в свои денежные затруднения. Он только что получил письмо от Харриса с изложением требований Смизерса и был весьма расстроен; речь его была несколько бессвязной, поскольку накануне вечером ему впрыскивали морфий, и днем он всегда пил слишком много шампанского. Он знал, что я приду попрощаться, но, когда я вошел, почти не обратил на меня внимания, что показалось мне довольно странным; он обращался исключительно к Реджи. Пока мы разговаривали, пришло очень милое письмо от Альфреда Дугласа, к которому был приложен чек. Думаю, в какой-то степени тут повлияло мое письмо. Оскар всплакнул немного, но быстро оправился. После этого завязался дружеский разговор, во время которого Оскар ходил по комнате и возбужденно вещал. Примерно в пол-одиннадцатого я поднялся, чтобы идти. Вдруг Оскар попросил Реджи и брата милосердия на минутку выйти из комнаты, чтобы дать нам попрощаться. Вначале мысль его крутилась вокруг долгов, которые он наделал в Париже; затем он принялся умолять меня остаться, поскольку в последние дни он почувствовал в себе великую перемену. Я был довольно сдержан, потому что приписывал слова Оскара исключительно истерическому состоянию, хотя и понимал, что он искренне огорчен моим отъездом. Вдруг он разразился громкими рыданиями, говоря, что никогда меня больше не увидит и чувствует приближение конца. Этот тягостный эпизод длился примерно три четверти часа.
Он говорил разные вещи, которых я не хотел бы здесь повторять. Сцена вышла душераздирающая, но все же я не стал придавать большого значения нашему расставанию и не ответил на крик души бедного Оскара так, как должен был ответить, – особенно когда он сказал мне вдогонку: «Присмотри какую-нибудь уютную ложбинку среди холмов около Ниццы, чтобы мне отправиться туда, когда я поправлюсь, и чтобы ты ко мне приезжал». Это были последние членораздельные звуки, которые я от него услышал.
Вечером следующего дня, то есть 13 ноября, я уехал в Ниццу.
Во время моего отсутствия Реджи посещал Оскара ежедневно и посылал мне короткие бюллетени через день. Он несколько раз возил Оскара в экипаже, и казалось, что ему гораздо лучше.
Во вторник 27 ноября, получив первое из писем Реджи (прилагаю их все, хотя последующие письма меня не застали, и я получил их позже), я понял, что надо ехать; по письмам ты ясно представишь себе, как обстояло дело. Вначале я решил, что в пятницу перевезу маму в Ментону и в субботу поеду в Париж, но в полшестого вечера в среду я получил от Реджи телеграмму, гласившую: «Надежды почти нет». Я едва успел на экспресс и был в Париже в 10.20 утра. При нем, помимо доктора Таккера, находился доктор Клейн – специалист, приглашенный Реджи. Они сообщили мне, что Оскару осталось жить от силы два дня. Вид его был ужасен: он очень исхудал, тяжело дышал, был мертвенно-бледен. Он пытался что-то сказать. Он чувствовал, что в комнате собрались люди, и поднял руку, когда я спросил, понял ли он меня. Он ответил на наши рукопожатия. Я отправился за священником и с большим трудом нашел отца Катберта Данна из Пассионистской церкви, который тотчас последовал за мной и совершил крещение и предсмертное помазание – дать Оскару причастие он не мог. Ты знаешь, что я не раз обещал Оскару привести к нему священника перед смертью, и я пожалел, что так упорно отговаривал его от принятия католичества, хотя на то были свои причины, и они тебе известны. После этого я телеграфировал Фрэнку Харрису, Холмэну (прося его связаться с Адрианом Хоупом) и Дугласу. Позднее снова явился Таккер и сказал, что Оскар, возможно, протянет еще несколько дней. Вызвали нового garde malade [94]94
Брата милосердия (франц.).
[Закрыть], поскольку прежний нуждался в отдыхе.
Требовалось выполнить ужасные обязанности, описывать которые я не буду. Реджи был совершенно раздавлен.
Мы с ним провели ночь в отеле «Эльзас» в комнате наверху. Нас дважды будил брат милосердия, когда ему казалось, что Оскар умирает. Около 5.30 утра с ним произошла разительная перемена, черты лица исказились – я полагаю, началась так называемая предсмертная трясучка; стали раздаваться звуки, каких я никогда раньше не слышал, напоминавшие отвратительное скрипение ржавого ворота, и они не прекращались до самого конца. Его глаза перестали реагировать на свет. Изо рта текла кровавая пена, которую все время приходилось вытирать. В 12 часов я вышел раздобыть еды, оставив на посту Реджи. Он, в свою очередь, отлучился в 12.30. С часу дня мы уже не покидали комнату; душераздирающий хрип становился все громче и громче. Мы с Реджи принялись уничтожать ненужные письма, чтобы чем-то себя занять и сохранить самообладание. Два брата милосердия ушли, и хозяин отеля заступил их место; в 1.45 ритм дыхания у Оскара изменился. Я подошел к постели и взял его за руку; пульс у него стал неровным. Он сделал глубокий вдох, напоминавший естественное дыхание, – в первый раз с тех пор, как я приехал, – тело его непроизвольно выпрямилось, дыхание сделалось слабее; он отошел в час пятьдесят минут пополудни.
Когда обмыли и спеленали тело и унесли отвратительное тряпье, подлежавшее сожжению, Реджи, я и хозяин отеля отправились в мэрию улаживать формальности. Не буду описывать всю томительную волокиту, воспоминание о которой приводит меня в исступление. Милейший Дюпуарье растерялся и усложнил все дело, попытавшись скрыть истинную фамилию Оскара; дело в том, что Оскар жил в гостинице под фамилией Мельмот, а французские законы запрещают останавливаться в гостиницах под вымышленными именами. Мы проторчали в мэрии и полицейском комиссариате с 3.30 до 5 вечера. Тут я вконец рассердился и настоял на том, чтобы мы отправились к Геслингу, владельцу похоронного бюро при английском посольстве, которому говорил обо мне отец Катберт. Договорившись с ним, я пошел на поиски монахинь, которые присмотрели бы за телом. Я думал, что где-где, а в Париже найти их будет легко, но только ценой немыслимых усилий я раздобыл двух сестер-францисканок.
Геслинг был сама предупредительность и пообещал прийти в отель «Эльзас» на следующее утро в 8 часов. Пока Реджи объяснялся в отеле с журналистами и шумными кредиторами, мы с Геслингом отправились по инстанциям. Мы освободились только в полвторого, так что можешь представить себе, сколько было формальностей, присяг, восклицаний и подписей на бумагах. Воистину иностранцу нужно дважды подумать, прежде чем умирать в Париже, – для его друзей это немыслимые мытарства и немыслимые расходы.
Во второй половине дня явился окружной врач и спросил, не покончил ли Оскар с собой и не был ли он убит. На заключения, подписанные Клейном и Таккером, он и не взглянул. Накануне вечером Геслинг предупредил меня, что, принимая во внимание личность Оскара и то, что он жил под вымышленным именем, власти могут начать настаивать на том, чтобы забрать его тело в морг. Разумеется, я пришел в ужас от этой перспективы, сулившей дополнить вереницу несчастий последним отвратительным звеном. Изучив тело и, разумеется, всех обитателей отеля до одного, выпив несколько рюмок спиртного, отпустив несколько неуместных шуточек и положив в карман щедрое вознаграждение, окружной врач, наконец, подписал разрешение на похороны. Затем явился еще один гнусный чиновник; он стал спрашивать, сколько у Оскара было воротничков и сколько стоил его зонтик (это чистая правда, я ни капли не преувеличиваю). Приходил кое-кто из поэтов и литераторов – Раймон де ла Тейяд, Тардье, Чарльз Сибли, Жан Риктюс, Робер Дюмьер, Джордж Синклер – а также какие-то англичане, назвавшиеся вымышленными именами, и две женщины под вуалями. Всем разрешали подойти к телу только после того, как они сообщали свои фамилии…
Рад сообщить тебе, что милый наш Оскар выглядел спокойным и полным достоинства, как при выходе из тюрьмы, и обмытое тело не производило отталкивающего впечатления. На шее у него были освященные четки, которые ты мне дал, грудь украшала францисканская медаль от одной из монахинь, рядом лежали цветы, принесенные мной и неким не назвавшим себя другом, который сказал, что представляет детей Оскара, хотя не думаю, что они знают о смерти отца. Разумеется, были принесены обычные в таких случаях распятие, свечи и святая вода.
Геслинг посоветовал мне не мешкая положить останки в гроб, поскольку разложение должно было начаться очень быстро, и в полдевятого вечера пришли завинчивать крышку. По моей просьбе Морис Гилберт попытался сфотографировать Оскара, но неудачно – вспышка не сработала. Когда уже готовились закрывать крышку, пришел Анри Даврэ. Он показался мне очень милым и добрым человеком. На следующий день, в воскресенье, приехал Альфред Дуглас, приходили также разные незнакомые мне люди. В большинстве своем это, вероятно, были журналисты. Похоронная процессия начала свой путь в понедельник в 9 часов утра. Мы прошли за катафалком от отеля до церкви Сен-Жермен-де-Пре – мы с Альфредом Дугласом и Реджи Тернером, хозяин отеля Дюпуарье, брат милосердия Анри, гостиничный слуга Жюль, Аньон и Морис Гилберт, а также два человека, которых я не знаю. После обедни без пения, отслуженной одним из vicaires [95]95
Викариев (франц.).
[Закрыть]у малого алтаря позади главного престола, отец Катберт прочитал часть заупокойной службы. В «Сюисс» потом написали, что присутствовало пятьдесят шесть человек; было пять женщин в глубоком трауре; я заказал только три экипажа и не рассылал официальных извещений, желая, чтобы похороны прошли без суеты. В первый экипаж сели Катберт и псаломщик, во второй – Альфред Дуглас, Тернер, хозяин отеля и я, в третий – госпожа Меррил, Поль Фор, Анри Даврэ и Сарлюи; за нами следовал еще один экипаж, в котором сидели незнакомые мне люди. Дорога заняла полтора часа; похоронили его в Баньо на временном участке, который я нанял на свое имя. Когда будет возможность, я куплю землю в другом месте, скажем, на Пер-Лашез. Я еще точно не решил, как лучше сделать и какой будет памятник. В общей сложности было двадцать четыре венка, частью присланных анонимно. Хозяин отеля украсил гроб трогательным изделием из бисера с надписью: «À mon locataire» [96]96
Моему жильцу (франц.).
[Закрыть], другой подобный венок поступил от «service de l'hôtel» [97]97
Служащих гостиницы (франц.).
[Закрыть]; остальные двадцать два были, конечно, из живых цветов. Принесли или прислали венки Альфред Дуглас, Мор Эйди, Реджинальд Тернер, мисс Шустер, Артур Клифтон, «Меркюр де Франс», Льюис Уилкинсон, Гарольд Меллор, господин и госпожа Тешейра де Маттуш, Морис Гилберт и доктор Таккер. В головах я положил лавровый венок с надписью: «В знак преклонения перед трудом и талантом литератора». Я вплел в венок имена тех, кто проявил к нему доброту во время его заключения и после него: «Артур Хамфриз, Макс Бирбом, Артур Клифтон, Риккетс, Шеннон, Кондер, Ротенстайн, Дэл Янг, миссис Леверсон, Мор Эйди, Альфред Дуглас, Реджинальд Тернер, Фрэнк Харрис, Льюис Уилкинсон, Меллор, мисс Шустер, Роуленд Стронг»; по просьбе одного из друзей Оскара, который назвался К. Б., я добавил его инициалы.
Я не могу спокойно говорить о широте души, человечности и щедрости, проявленных хозяином отеля «Эльзас» господином Дюпуарье. Перед самым моим отъездом Оскар сказал мне, что должен ему более 190 фунтов. С того дня, как Оскар слег, Дюпуарье ни разу об этом не заговаривал. Мой разговор с ним на эту тему состоялся только после смерти Оскара, и начал его я. Когда Оскара оперировали, Дюпуарье был рядом с ним, и каждое утро он лично о нем заботился. Он платил из своего кармана за многое, как необходимое, так и излишнее, о чем просили Оскар или его врач. Надеюсь… или… в конце концов заплатят ему остаток долга. Доктору Таккеру также причитается немалая сумма. Он был чрезвычайно добр и внимателен, хотя, по-моему, совершенно неверно судил о болезни Оскара.
Во многих отношениях Реджи Тернеру досталось больше всех – на него обрушилась вся пугающая неопределенность, вся тяжкая ответственность, размеров которой он не мог заранее предвидеть. Те, кто любил Оскара, должны радоваться, что в последние дни, когда он еще не лишился дара речи и мог чувствовать чужую доброту и заботу, рядом с ним был такой человек, как Реджи.
_________________
Впоследствии на могиле в Баньо установили плоское каменное надгробие со словами из двадцать девятой главы Книги Иова: Verbis meis addere nihil audebant et super illos stillabat eloquium meum [98]98
После слов моих уже не рассуждали; речь моя капала на них (лат.).
[Закрыть].
В 1909 г. останки Уайльда перенесли на парижское кладбище Пер-Лашез, где они покоятся и поныне под надгробным памятником работы Эпстайна с выбитыми на нем строками самого Уайльда: