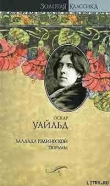Текст книги "Письма"
Автор книги: Оскар Уайльд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
Письма Уайльда отражают его тщетное единоборство с английской цензурой. Тщетное, потому что оно так и не увенчалось успехом. Единоборство, т. к. в борьбу он вступил фактически один. Лишь двое из критиков поддержали его: конечно, Бернард Шоу и его друг Уильям Арчер, выступивший в печати против запрета «Саломеи». Уайльд был бесконечно благодарен обоим: «Презренной официальной тиранией» в отношении драмы назвал он английскую цензуру, призвал добиваться ее упразднения. «Вы превосходно, мудро и глубоко остроумно писали о нелепом институте театральной цензуры», – солидаризировался он с Шоу, который на собственном опыте также познал, что это такое (вскоре после «Саломеи» была запрещена его пьеса «Профессия миссис Уоррен»). Вновь вспоминал о своем ирландском происхождении: «Я не хочу считаться гражданином страны, проявляющей такую ограниченность в художественных суждениях. Я – не англичанин. Я – ирландец, а это совсем другое дело» {14}14
Цит. по кн.: Ellmann R. Oscar Wilde. London, 1987, p. 352.
[Закрыть]. Автор «Саломеи» огорчался, что в битве с цензурой его не поддержали актеры, прежде всего лидер английской сцены Генри Ирвинг.
А из Франции тем временем летели благодарственные письма в ответ на посланные экземпляры «Саломеи», со словами сочувствия, а часто и восторга… «Дорогой поэт, – обращался к Уайльду Стефан Малларме. – Я восхищен тем, что в Вашей «Саломее», где все выражено ослепительно точными словами, в то же время на каждой странице ощущается что-то невысказанное, неуловимое, как сновидение или мечта. Так россыпь драгоценных камней, украшающих одежды принцессы, может служить лишь обрамлением ее поразительного поступка, который столь решительно Вами воскрешен». «Сказку лунной ночи» увидел в «Саломее» поэт и писатель Пьер Луис. «Это прекрасно и грозно, как глава Апокалипсиса», – заключил Пьер Лоти. «Таинственная», «странная», «восхитительная» – такими были определения, данные «Саломее» Морисом Метерлинком, общепризнанным лидером не только французской, но и европейской символистской драматургии. Он замечал, что еще не может до конца объяснить себе силу и природу воздействия этой «грезы» {15}15
Ibid., p. 354.
[Закрыть].
В «Саломее» эстетизм Уайльда максимально сблизился с французским символизмом. «Саломея» предполагала совсем другой театр, нежели «салонные комедии». Это должен был быть театр красоты и смерти. Уайльд написал трагедию, хотя и указал в подзаголовке к «Саломее» – «драма». Трагическими героями были оба: и Саломея, и Иоканаан. Трагедия непонимания сочеталась с трагедией обреченности красоты. Как и подобает символистскому произведению, действием правила Смерть. К «Саломее» вполне применимы были слова Уайльда о том, что интеллектуальной основой его драм «является философия нереального». «Саломея» – одно из самых ярких и последовательных произведений декадентского искусства – искусства конца века. Эта пьеса Уайльда никак не вписывалась в английскую драматургию 90-х, стояла в ней особняком. Ее общеевропейское значение было и остается неизмеримо большим. Эстетизм Уайльда достиг своих вершин в «Портрете Дориана Грея» и в «Саломее». Вместе с тем именно эти произведения выявили кризис данного художественного течения, в чем-то сомкнувшегося с входящим в моду стилем модерн, но так и не слившегося с ним, всегда ощущая преграду, как существовала эта преграда между текстом «Саломеи» и рисунками к ней Обри Бердслея.
И вдруг рухнуло все. С молотка пошли художественные ценности, коллекции, любовно собиравшиеся Уайльдом на протяжении ряда лет: картины Уистлера и рисунки Берн-Джонса, фарфор и книги с дарственными надписями, школьные и университетские награды. Что-то было просто растащено. Дом на Тайт-стрит, где поселился Уайльд после женитьбы, опустел. Жена и дети покинули его. Вскоре Уайльд был лишен отцовских прав. Констанс и сыновья – Сирил и Вивиан – стали носить другую фамилию.
Уайльд не оправдывал себя. Он упоминал в «De Profundis» о том, что «гениальности часто сопутствуют страшные извращения страстей и желаний». Отныне письма на бланках с печатями «Тюрьмы Ее Величества, Холлоуэй», «Тюрьмы Ее Величества, Рединг» стали единственным доступным ему литературным занятием, а также основной связью с жизнью вне стен тюрьмы. Новое открытие мира – открытие мира страданий. Уайльд отдался познанию этого мира всем своим существом, всеми помыслами и чувствами. Он узнавал людей, с какими ему прежде не приходилось встречаться. Он познавал себя такого, каким ранее не знал. Пережитое ранее вновь и вновь возникало перед его глазами.
Огромная «Тюремная исповедь» или «De Profundis» словно обрамлена гирляндой других писем, также несущих в себе ту или иную долю исповедальности. Уайльду кажется, что весь мир страданий сосредоточился теперь в нем. Он – символ страданий человеческих.
В эпиграф статьи вынесены слова, обращенные к Бози, о «смысле Страдания и Красоте его». Что имел в виду Уайльд под красотой страдания и сочетаются ли вообще эти понятия? Он исходил из призыва Христа, выведенного им: «Живите ради других». Страдание и красота могли соприкоснуться лишь в том случае, если, страдая сам, человек тем более обостренно воспринимает мучения других людей. В том случае, когда он обретал способность сострадать. «Ничто в мире не бессмысленно», – утверждает Уайльд. «Страдание и все, чему оно может научить, – вот мой новый мир» – таков сделанный им вывод. Страдание – наивысшее из чувств, доступных человеку, оно одновременно предмет и признак великого Искусства, высшая ступень совершенства. Страдание – единственная истина. В тюрьме для всех, кто там находится, страдание – «способ существования, потому что это единственный способ осознать, что мы еще живы, и воспоминание о наших былых страданиях нам необходимо, как порука, как свидетельство того, что мы остались самими собой».
Особую боль вызывали у Уайльда дети, находящиеся в тюрьме. То обращение с детьми, с которыми он встретился в Рединге, Уайльд не мог назвать иначе, чем «вызовом человечности и здравому смыслу».
А встреча на прогулке с бывшим кавалеристом, убившим жену и приговоренным к смертной казни, легла в основу последнего поэтического произведения Уайльда – «Баллада Редингской тюрьмы». Сначала он был поражен легкостью походки арестанта, почти радостным взглядом, устремленным на клочок голубого неба, едва заметного над тюремным двором. Затем он узнал его историю. «Памяти К. Т. У., бывшего кавалериста Королевской Конной гвардии», была посвящена баллада с точным указанием даты смерти: «Скончался в тюрьме Ее Величества. Рединг, Беркшир, 7 июля 1896 г.». Недаром эта поэма привлекла внимание Валерия Брюсова, сделавшего перевод.
«Я сам страдал, но позабыл я
О бедствии своем», —
передает русский поэт-символист мысль и чувство, охватившее Уайльда, узнавшего о страшном приговоре:
«Он ту убил, кого любил он,
И вот за то умрет».
Атмосфера ожидания казни окутывает балладу – атмосфера, в которой царят Смерть, Ужас и Судьба. Спит приговоренный к смерти. Но не спят другие арестанты, потому что в их души грозно вполз страх за того, кому нельзя помочь. Они молятся за него, быть может, первый раз в жизни. И кажется им, что тени, привидения окружают их в этот момент:
«Недвижимы, немы были все мы,
Как камни горных стран,
Но сердце с силой било, словно
Безумец в барабан».
Уайльд в «Балладе Редингской тюрьмы» почти не пользуется местоимением «я», только – «мы». Он не отделяет себя от других арестантов. Письма, написанные в тюрьме, вовлекают нас в сложный духовный процесс, переживаемый Уайльдом. Противостоять безумию, во что бы то ни стало сохранить разум. Не сломаться! В «De Profundis» Уайльд убеждал самого себя, Бози и всех, кому доведется прочитать это сочинение, что, отправляясь в тюрьму, он сказал себе: «Любой ценой я должен сохранить в своем сердце Любовь. Если я пойду в тюрьму без Любви, что станется с моей Душой?» Там же он заверял, что постиг в своих мытарствах бесценное, что скрывалось в глубинах его души, словно клад в земле, – Смирение, «самую странную вещь на свете». Но давалось это с большим трудом и не удалось до конца.
И искушение смерти испытал Уайльд, и волны безумия захлестывали его. Он начал терять слух и зрение. Бывали моменты, когда весь мир представлялся ему тюрьмой. «Ужас смерти, который я здесь испытываю, меркнет перед ужасом жизни», – писал он Роберту Россу, ставшему ему в эти годы ближе всех. Еще за несколько месяцев до того, как покинуть Рединг, он делился с ним: «Даже, если я выберусь из этой отвратительной ямы, меня ждет жизнь парии – жизнь в бесчестье, нужде и всеобщем презрении». Он знал, что выброшен из английской литературы.
Из тюрьмы вышел больной, измученный человек. Это был другой Уайльд, чем тот, который получил известность в пору расцвета своего таланта. Он был способен писать только о тюрьме и Страданиях. «Балладу Редингской тюрьмы», опубликованную в 1898 г., Уайльд подписал своим тюремным номером – «С. 3. 3.». За первым изданием последовало второе, третье. Английские критики, не догадываясь, кто скрывается за подписью «С. 3. 3.», объявили, что баллада принадлежит к шедеврам английской литературы, что «уже много лет не появлялось ничего подобного». Фамилия Уайльда была указана лишь на седьмом издании в 1899 г. Больше ни одного художественного произведения он не написал. Его творческие силы иссякли.
Начались годы скитаний и нищеты. Последнее оказалось особенно унизительным. «Трагедия моей жизни стала безобразной, – писал он Андре Жиду. – Страдание можно, пожалуй, даже должно терпеть, но бедность, нищета – вот что страшно. Это пятнает душу». Замыслы новых произведений смутно мелькали и исчезали, не успев реализоваться. То на берегу Средиземного моря он задумывал балладу о Молодом Матросе, славящую свободу, веселье, то делился с другом, Фрэнком Харрисом, планом комедии, действие которой должно было протекать в сельском замке с бастионами времен Тюдоров, с павильонами в стиле королевы Анны, со стрельчатыми окнами и ветхими башнями, то вдруг сообщал озабоченным его судьбой друзьям, что давно подумывает о написании библейских драм и новелле об Иуде. Друзья собирали деньги, помогали Уайльду, как могли, и все ждали, что к нему вернется его дар писателя, способного за несколько недель или дней сочинить новую драму, роман. Увы, их ожидания не оправдались. Сменялись города, страны – Франция, Италия, Швейцария. Уайльд словно бежал от самого себя, чтобы вернуть привычные и надежные прежде источники вдохновения. Не помогали ни красоты Италии, ни солнце и море Лазурного берега, ни шумная толпа парижских улиц, в которой можно раствориться, не испытывая одиночества.
Вновь вошел в жизнь Уайльда Бози, отвергнутый и прощенный, приближенный, как еще одна попытка возродить в себе творца. «Быть с тобой – мой единственный шанс создать еще что-то прекрасное в литературе, – молил Уайльд. – Раньше все было иначе, но теперь это так, и я верю, что ты вдохнешь в меня ту энергию и ту радостную мощь, которыми питается искусство. Мое возвращение к тебе вызовет всеобщее бешенство, но что они понимают. Только с тобой я буду на что-то способен. Возроди же мою разрушенную жизнь, и весь смысл нашей дружбы и любви станет для мира совершенно иным». Но и эта попытка не увенчалась успехом, а новую волну бешенства в Англии она, как и предполагал Уайльд, вызвала. Умерла Констанс. Не было никакой надежды увидеться с сыновьями.
Все острее ощущал Уайльд свое положение изгоя. Горечь и беспросветное одиночество все более овладевали им. Когда рядом находился кто-либо из самых близких друзей, эти чувства притуплялись, стоило им уехать, как отчаяние, страх сковывали его душу. И вслед уехавшим летели письма, полные печали, тоски, безнадежности. Нет, он не забыл о «счастье благодарности». («Неблагодарному трудно идти по земле, ноги и сердце у него как свинцом налиты. Но если ты хоть в малой степени познал счастье благодарности, ноги твои легко ступают по песку и водам, и ты готов со странной, внезапно открывшейся тебе радостью вновь и вновь исчислять не владения свои, а долги. Их я коплю ныне в сокровищнице сердца, и, один золотой к другому, бережно перебираю на утренней и вечерней заре».) Проникнутые грустью и болью, письма оставались письмами поэта, художника с тонким вкусом, с великолепно развитым воображением, чуткого к любым проявлениям чувств. Многие из писем – Россу, Харрису, Ротенстайну, Максу Бирбому и другим – отправлялись в Англию, так близко расположенную и в то же время такую далекую и чужую.
Собственно Оскара Уайльда как бы уже вообще не существовало. В случайных отелях проживал некто – Себастьян Мельмот. Такой была последняя маска Уайльда, выбранная им самим. «Мельмот-скиталец» – название популярного в начале XIX века романа ирландского писателя Мэтьюрина, приходившегося к тому же двоюродным дедом Уайльду. Себастьян – возможно, в честь святого Себастьяна, пронзенного стрелами. Его изображения итальянскими художниками очень любил Уайльд, в особенности картину Гвидо Рени. Так слились романтические традиции и трагизм судьбы мученика-христианина в заключительном «театральном портрете» Уайльда.
Он подошел к своей последней черте. Его мысли еще раз обратились к богу, к Христу: «Христос умер не для того, чтобы спасти людей, а для того, чтобы научить их опасаться друг друга». Зная, что «Баллада Редингской тюрьмы» – его лебединая песня, Уайльд сожалел, что «кончает криком боли, стенанием Марсия, а не песнью Аполлона». Он все твердил, что «радость жизни» («la joie de vivre», – писал он по-французски) ушла из него, что Жизнь, которую он так любил – слишком любил, – «растерзала его, как хищный зверь».
Несколько раз Уайльд намеревался принять католичество, но по разным причинам этого не сделал. 20 ноября 1900 г. написано последнее письмо. 30 ноября его не стало. К постели умирающего Уайльда успели пригласить католического священника, который совершил крещение и предсмертное помазание.
Надгробный памятник скульптора Джейкоба Эпстайна на парижском кладбище Пер-Лашез изображает фантастическое существо, напоминающее Сфинкса. Загадочному, полному тайн Сфинксу, «молчаливому и прекрасному», Уайльд посвятил в молодости поэму. Огромные крылья Сфинкса приподняты и готовы к полету. У этого странного чудовища, соединившего в себе черты человека-пророка и вестника, зверя и птицы, такие же длинные руки, как и у Уайльда. Что-то общее можно угадать в разрезе глаз, видящих все, в очертании губ, складывающихся в надменную, ироническую усмешку. Каменный Сфинкс принадлежит вечности, равно как и покоящийся под ним поэт. Подобно Сфинксу, всю жизнь он загадывал загадки современникам. Часть из них помогают разгадать его письма. Но осталось еще немало нераскрытых тайн.
А. Образцова

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОКСФОРД 1875–1878

Описание
Оскар Уайльд появился на свет 16 октября 1854 года в Дублине, в доме 21 по Уэстленд-роу, и 26 апреля 1855 года был наречен при крещении в соседней церкви св. Марка Оскаром Фингалом О'Флаэрти. В юности он добавил к этим именам имя Уиллс, которое носил и его отец. В 1852 году у него родился брат Уилли, а в 1859 году – сестра Изола. В 1867 году она умерла.
Их отец, сэр Уильям Уайльд (родился в 1815 году), был выдающимся врачом, специалистом по глазным и ушным болезням; в Дублине он имел собственную клинику, которую построил и оборудовал на свои деньги. Из-под его пера вышли труды, посвященные ушной хирургии, топографии, декану собора св. Патрика Джонатану Свифту, а также пространный медицинский отчет о переписи 1851 года. В 1864 году он получил дворянское звание.
В 1851 году Уильям Уайльд женился на Джейн Франческе Элджи (родилась около 1824 года), которая в 40-е годы играла важную роль в движении «Молодая Ирландия», выступая в «Нейшн» с мятежными стихами и статьями под псевдонимом Сперанца. Она издала ряд прозаических и стихотворных книг, в том числе «Колдунью Сидонию» (1849), перевод с немецкого «Сидонии фон Борк» (1847) Вильгельма Мейнхольда (1797–1851); в 1893 году Уильям Моррис перепечатал эту книгу в своей типографии «Келмзкотт пресс».
В 1855 году семейство Уайльдов переселилось в дом 1 на Меррион-сквер Норт, а в 1864 году Оскара отдали в королевскую школу Портора в городе Эннискиллен, где он проучился до 1871 года. Из Порторы послано и первое сохранившееся его письмо (если бы Оскар и в дальнейшем столь же тщательно указывал время и место отправления своих писем, это очень облегчило бы задачу их издателя):
школа Портора
8 сентября 1868 г.
Дорогая мама, сегодня прибыла корзина, вот уж сюрприз так сюрприз, большое тебе спасибо, как ты добра, что подумала об этом. Не забудь, пожалуйста, прислать мне «Нэшнл ревью»… Обе фланелевых рубашки, которые ты положила в корзину, это рубашки Уилли; мои – одна алая, другая лиловая, но пока еще слишком жарко, чтобы носить их. Ты так и не рассказала мне об издателе в Глазго, что он говорит? И написала ли ты тетушке Уоррен на зеленой почтовой бумаге?
В 1871 году Оскар получил высшее отличие на выпускных экзаменах в школе Портора и право поступить стипендиатом в дублинский Тринити-колледж. За три года учебы в колледже он завоевал много призов на конкурсах сочинений по античной литературе, в том числе стипендию из фонда поощрения научных исследований и золотую медаль имени Беркли [2]2
Джордж Беркли (1685–1753) – английский философ. Был выпускником Тринити-колледжа.
[Закрыть]за работу о греческих классиках. Большое влияние оказывал на него в колледже преподобный Джон Пентленд Махэффи (1839–1919). Этот замечательный педагог (впоследствии он стал ректором колледжа и в 1918 году был удостоен дворянского звания) преподавал тогда древнюю историю. Его страстная увлеченность всем древнегреческим, его внимание к искусству беседы и его манера общения – все это наложило отпечаток на его ученика.
В 1874 году двадцатилетний Оскар Уайльд добился высшего академического успеха – стипендии в оксфордском колледже Магдалины. Стипендия составляла 95 фунтов стерлингов в год и выплачивалась в течение четырех лет. В октябре он поселился в Оксфорде. Во время первых своих летних каникул он совершил путешествие по Италии, с которого и начинается отсчет его писем.
1. Леди Уайльд {16}16
Титьен, Тереза (1831–1877) и Требелли, Дзели (1838–1892) – итальянские оперные певицы, регулярно выступавшие в Дублине в 1860-е и 1870-е годы. Отличались весьма внушительным телосложением. Беттини, Александр – певец, тенор, за которого Требелли вышла замуж.
«Библия с ирландскими глоссами», о которой пишет Уайльд, вовсе не была Библией, и в ней не было никаких ирландских глоссов. В действительности это был требник, известный как Бангорская книга антифонов, являющаяся самой древней из всех известных ирландских рукописных книг; Тодд, Джеймс Хенторн (1805–1869) и Стоукс, Уитли (1830–1909) – выпускники Тринити-колледжа, самые известные ирландские специалисты по древним рукописям.
Моррис, Уильям (1834–1896) – английский писатель, художник и общественный деятель. Студентом Оксфорда примкнул к кружку прерафаэлитов; Россетти, Данте Габриель (1828–1882) – английский живописец и поэт, основатель «Братства прерафаэлитов» (1848), сыгравшего огромную роль в развитии искусства и литературы в Англии последующих десятилетий XIX века, а также оказавшего влияние на умы многих знаменитых в будущем деятелей английского искусства.
Аутери-Мандзокки, Сальваторе (1845–1924) – итальянский композитор. Премьера оперы «Долорес» состоялась сначала во Флоренции, и лишь 24 июня она была исполнена в Театро даль Верме в Милане. Позже, в 1878 году, ее поставили в «Ла Скала».
«Юный Гулдинг» – возможно, Гулдинг, Уильям Джошуа (1856–1925), впоследствии директор многих ирландских фирм. Действительно был другом Махэффи, однако его потомкам ничего неизвестно об их совместном путешествии по Италии.
[Закрыть]
Милан
Четверг [и пятница, 24 и 25 июня 1875 г.]
Мне кажется, я расстался с тобой в последний раз, глядя на луну с площади св. Марка. С трудом оторвавшись, мы вернулись в гостиницу. Назавтра мы с утра отправились в гондоле в плавание по Большому каналу. По обе стороны – роскошные дворцы с широкими лестницами, спускающимися к самой воде, и повсюду кругом – высокие столбы для причаливания гондол с красочными родовыми гербами. Все вокруг изумительно живописно: желтые полосатые навесы над окнами, беломраморные своды и церкви, красные кирпичные звонницы, большие гондолы с грузом фруктов и овощей, направляющиеся к мосту Риальто, где находится рынок. Сделали остановку, чтобы осмотреть картинную галерею, помещающуюся, как обычно, в бывшем монастыре. Тициан и Тинторетто в расцвете творчества. Тициановское «Вознесение богоматери» безусловно лучшая картина в Италии. Посетили множество церквей, однако все они построены в экстравагантном «барочном» стиле: очень много металлических завитушек, полированного мрамора и мозаики, но, как правило, никакой художественной ценности. Помимо тицианов, в картинной галерее есть еще две великие картины: прекрасная «Мадонна» Беллини и «Богач и Лазарь» Бонифацио; на последней изображено единственное хорошенькое женское лицо, которое я видел в Италии.
День провел в гондолах и на рынках; вечером – большой оркестр и гулянье всех щеголей Венеции на площади св. Марка. Чуть ли не каждая женщина старше тридцати пудрит спереди волосы; большинство носит вуаль, но, как я заметил, шляпки теперь делают с очень высокой тульей и двумя венками: одним – под диадемой, а другим – вокруг тульи.
После замужества итальянки ужасно опускаются, но мальчики и девочки красивы. Среди замужних женщин типичны «Титьены» и некрасивые подобия «Требелли Беттини», дородные и с желтоватым цветом лица.
Утром завтракал на борту парохода «Барода», принадлежащего судоходной компании «Пенинсьюлар энд ориентал». Меня пригласил судовой врач, молодой дублинец по фамилии Фрейзер. В полдень отбыли в Падую. Поверь, красота архитектуры Венеции и ее колорит не поддаются описанию. Здесь византийское искусство встречается с итальянским – от Востока в этом городе не меньше, чем от Запада.
В Падую приехали в два часа. Посреди густого виноградника стоит капелла – великое творение Джотто; все фрески на стенах принадлежат его кисти; одна стена посвящена жизнеописанию девы Марии, другая – жизнеописанию Христа; потолок синий, с золотыми звездами и картинами в медальонах; на западной стене – большая фреска с изображением рая и ада; сюжет фрески подсказал ему Данте, которому, как говорит он сам, стали тяжелы ступени изгнанничества в Вероне Скалигеров [3]3
Итальянский феодальный род, к которому принадлежали правители Вероны.
[Закрыть], и он перебрался к Джотто в Падую, где жил с ним в доме, сохранившемся до сих пор. О красоте и чистоте чувства, ясном прозрачном цвете, таком же ярком, как в тот день, когда Джотто писал это, и гармонии всего здания я просто не способен рассказать тебе. Он – первый среди художников. Мы больше часа провели внутри капеллы, преисполненные изумления, благоговения и, главное, любви к изображенным им сценам.
Падуя – город своеобразный, с красивыми колоннадами вдоль каждой улицы, с университетом, похожим на казарму, с одной-единственной прелестной церковью (св. Анастасии) и множеством унылых, а также с лучшим рестораном в Италии, где мы и пообедали.
В Милан прибыли под проливным дождем; вечером отправились в театр и посмотрели хороший балет.
Сегодня утром – Собор. Снаружи он очень перегружен башенками и статуями, чудовищно несоразмерными со всем зданием. Внутри же крайне величествен благодаря своим огромным размерам и гигантским колоннам, поддерживающим крышу; есть хорошее старинное цветное стекло и множество отвратительных современных витражей. Эти современные художники не понимают, что назначение витража в церкви – сконцентрировать и гармонизировать цвет; у хорошего старинного витража узор богат, как у турецкого ковра. Фигуры играют совершенно второстепенную роль и лишь служат для обозначения чувства художника. Витраж современного фрескового стиля вынужден sua natura [4]4
По своей природе (лат.).
[Закрыть]конкурировать с живописью и конечно же выглядит безвкусно и театрально.
Собор ужасно бездарен. Снаружи его архитектура уродлива и нехудожественна. Сверхтщательно отделанные детали понатыканы высоко наверху, где их невозможно разглядеть; все в нем отдает безвкусицей; впрочем, даже и бездарный, он производит впечатление чего-то монументального из-за громадной величины и архитектурной сложности.
Из Падуи – забыл рассказать тебе – мы в шесть часов приехали в Верону и даже посмотрели в старинном римском амфитеатре (таком же совершенном внутри, как в древнеримские времена) «Гамлета» – играли, разумеется, без души, – но ты не можешь представить себе, до чего романтично было сидеть дивным лунным вечером в древнем амфитеатре! Утром осматривали усыпальницы рода Скалигеров – прекрасные образцы пышной «пламенеющей» готики и художественного литья, а также чудесный рынок, весь заполненный огромнейшими зонтами – я таких никогда не видывал, прямо-таки молодые пальмы, – под которыми восседали торговцы фруктами. О нашем приезде в Милан я тебе рассказывал.
Вчера (в четверг) сначала побывали в библиотеке св. Амброзия, где видели несколько знаменитых рукописных книг и два превосходных палимпсеста, а также библию с ирландскими глоссами не то шестого, не то седьмого века, которые были прочтены Тоддом, Уитли Стоуксом и другими исследователями; кроме того, там неплохое собрание картин, в частности коллекция рисунков и набросков мелом Рафаэля – по-моему, гораздо более интересных, чем его полотна, – хорошие работы Гольбейна и Альбрехта Дюрера.
Потом – в картинной галерее. Несколько хороших полотен Корреджо и Перуджино; жемчужина всей коллекции – прелестная «Мадонна» Бернардино, стоящая на фоне решетки, увитой розами, которые восхитили бы Морриса и Россетти; другую его «Мадонну», на фоне лилий, мы видели в библиотеке.
Милан – это второй Париж. Дивные аркады и галереи; весь город – сплошной белый камень и позолота. Превосходно пообедали в ресторане Биффи и запили обед отличным астийским вином, похожим на хороший сидр или на сладкое шампанское. Вечером слушали новую оперу, «Долорес», сочиненную молодым маэстро Аутери; местами это неплохая имитация Беллини, есть два-три изящных рондо, но общее впечатление – немелодичные вопли. Тем не менее неистовый восторг публики не знал границ. Каждые пять минут поднималась буря рукоплесканий и со всех сторон зала неслись крики «Браво!», после чего все исполнители в бурном порыве бросались звать композитора, который сидел в ближайшей ложе, готовый выскочить на сцену при малейшем намеке на одобрение. Этакий тщедушный субъект, который для выражения переполнявших его чувств прикладывал свою немытую руку к несвежего вида рубашке, бросался в экстазе на шею примадонне и посылал всем нам воздушные поцелуи. Выходил он не меньше девятнадцати раз, пока наконец на сцену не вынесли три венка, один из которых – зеленый лавровый венец с зелеными же лентами – и был водружен ему на голову, но так как голова у него очень узкая, венец спереди покоился на его длиннющем костистом носу, а сзади – на грязном вороте. Не видал ничего нелепее всей этой сцены. Опера, если не считать пары удачных мест, начисто лишена художественных достоинств. В театре была принцесса Маргарита, очень породистая и бледная.
Пишу я это в красивом месте – городке Арона на Лаго-Маджоре. Махэффи и юный Гулдинг остались в Милане и поедут оттуда в Геную. За неимением денег я вынужден был расстаться с ними и чувствую себя очень одиноким. Мы замечательно путешествовали.
Дилижанс отправляется сегодня в двенадцать. Мы поедем через Симплонский перевал почти до Лозанны – восемнадцать часов в дилижансе. Завтра вечером (в субботу) буду в Лозанне.
Твой Оскар