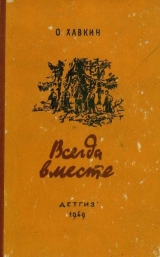
Текст книги "Всегда вместе"
Автор книги: Оскар Хавкин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
11. Зимовье
Шли гуськом: впереди Зубарев, следом за ним Малыш, а последним Астафьев. К спине Трофима были привязаны лыжи – для Зои. За спиной Захара висело ружье.
Самыми трудными были первые пять километров – по застылой ледяной Джалинде. Правда, поверх льда была свежая присыпь снега, но лыжи то и дело скользили, и часто приходилось обходить огромные, отливающие темной желтизной вздутия пустоледа.
Ветер, налетая порывами, вздымал колючую завируху.
Легче стало, когда выбрались на лесовозную дорогу. По ней летом, после пожара, возили сушник к зимовью, а оттуда в поселок. С тех пор лесовозкой никто не пользовался, дорога была не обкатана. Шли по яркой снежной целине, испещренной следами волков.
Раза три или четыре за день Зубарев втыкал палку в снег и присаживался на пенек, поджидая спутников.
– Места-то, граждане, глухариные, – поощрял Троша Захара во время короткого привала.
Астафьев щурил зеленоватые глаза и скрывался среди мохнатых лесин. Раздавался выстрел, и вскоре охотник возвращался с подбитой птицей.
– Когда токуют, – говорил Захар, – вот тогда хорошо их стрелять. Они поют свое «кичивря-кичиврить» и ничего не слышат. Близко подпускают.
– Знаю, знаю, – скептически сказал Троша, – испытал это. В ту весну с Борисом за Олекму уходили охотиться. Приметил я одного цветастого, в шесть красок, петуха. Вот уж он меня наказал! Поет-поет, да вдруг и оборвет свое «кичиврить». И стоишь, как чучело, врастопырку пять-десять минут, пока этот глухариный певец отдыхает. Закичиврякает – шагов пяток пойдешь, опять остановишься. Хорошо, если за что уцепишься, а то стоишь, руки и ноги на весу, будто в полет собрался, и холодным потом обливаешься…
Малыш и Захар посмеивались.
– Наша царевна придет к готовому ужину, – заметил Трофим, когда в сумку Захара были запрятаны три глухарки.
И вновь они двигались тем же порядком: Захар сзади, Малыш посредине, Зубарев прокладывал лыжню по тугой снежной целине лесовозки.
Синеватые, в золотых брызгах звезды рассыпались по чистому небу, когда лесовозная дорога вывела ребят на наезженный урюмский проселок. Лыжники понеслись с крутого спуска. Через четверть часа тайга слегка расступилась, и перед ребятами вырос темнобревенчатый сруб старого зимовья. Уж с полсотни лет, наверно, а то и более, стояло оно в Загочинской тайге, давая приют таежному люду; ползимы этого года оно пустовало из-за болезни зимовщика, и многие предпочитали доезжать до другого зимовья – у ключа Серый Камень.
– Что-то, ребята, неладно! – недоумевая, сказал Трофим. – Ведь уж сколько времени, как здесь нет зимовщика…
Было чему удивляться: в одном оконце помаргивал тусклый огонек.

– Потише, Граф, – насторожился Тиня. – Может, там бродяги какие? Вот дело будет! И утекать надо, и Зойку не оставишь.
С секунду они стояли в нерешительности, поглядывая друг на друга.
– Там Зоя, – сказал Астафьев, – а если не она…
Он, не договорив, снял ружье.
Они приткнули лыжи к стене и тихо, с замирающим сердцем, приоткрыли тяжелую дверь зимовья.
За дощатым столиком, на котором догорал огарок свечи, сидела в шубенке, подперев упрямую свою голову, Зоя Вихрева. Рядом на столе, стоял ее полосатенький сундучок. Дрожащий свет падал на тоскливое Зоино лицо, на округлившиеся в раздумье глаза, на тонкие косички, спадавшие на воротник шубенки.
Дверь скрипнула.
– Кто там? – спросила Зоя, испуганно приподнявшись со скамейки.
Тогда все трое, друг за другом, вошли в зимовье.
– Лыжный кросс Новые Ключи – Урюм, – учтиво ответил Троша, подходя к столу.
– Зойка, – сказал Малыш, вытирая ладошкой глаза, – мы же тебя любим, дура ты упрямая!
– Даже я, – подтвердил Трофим.
Зоя подняла на него насторожившиеся глаза, но встретила еще невиданный ею очень добрый, очень внимательный взгляд.
А Захар Астафьев сел рядом с нею на скамейку и молча положил теплую ладонь на покрасневшие, ледяные коротенькие ее пальцы.
– Вот что, – распоряжался между тем Трофим: – каждому своя работа. Захар тащит хворост и топит плиту. Малыш разделывает дичь и готовит ужин. А я утешаю Зою.
Скоро зимовье наполнилось дымом от давно не топленной печки. Затрещал, живо сгорая, сушник, и вкусно запахло из большого чугуна, расшумевшегося на плите.
Трофим разыскал в комнатке зимовщика большую миску, ложку, налил бульону, положил несколько кусков белой глухариной грудинки.
– Суп пейзан, как значится в меню нашей столовой, – сказал он, ставя миску перед Зоей. – Больше посуды нет, граждане, каждый ест своим методом.
Ребята пили бульон из кружек, а куски мяса разложили прямо на столе.
Зоя опустила ложку в бульон, и крупные слезы закапали в большую алюминиевую миску.
– Зоя, – строго сказал Трофим, – не солите, пожалуйста, бульон – Тиня уже солил.
Тогда Зоя подняла глаза и улыбнулась.
– Вот так-то лучше, – с удовлетворением сказал Троша. – А теперь спать. Завтра, – объявил он, – участники кросса возвращаются хотя и с полпути, но с призом.
12. Директор рудника
Дверь учительской раскрылась резким движением. В комнату стремительно вошел коротконогий, розовощекий юноша в костюме полувоенного образца.
Это был секретарь райкома комсомола Спиридон Горкин. С ним Хромов познакомился еще осенью в Загоче.
– Спиря! – обрадовался Геннадий Васильевич. – Вот молодец! Не забыл, выходит!
Горкин сразу же после окончания педагогического техникума попал на Новые Ключи, проработал в рудничной школе несколько лет и только с весны прошлого года оставил ее.
– Приехал, Геннадий Васильевич, приехал, – отвечал юноша. – А где Платон Сергеевич?
– У Владимирского.
Горкин поздоровался за руку с учителями и сразу же обрушился на всех.
– Наколбасили, – звонким, крепким тенорком выговаривал Горкин, – а теперь расхлебывай за вас!
– Горкин, – холодно заметила Гребцова, – может быть, мне лучше уйти? Или придется выслушивать грубости?
– Это он умеет, – спокойно вставил Геннадий Васильевич.
– Да поймите, Варвара Ивановна… – Горкин покраснел, для чего-то схватил линейку со стола и начал ударять ею по руке. – Поймите, не могу я быть равнодушным при таких происшествиях, да еще в моей родной школе.
– Значит, вы думаете, что я… что мы равнодушны! – Гребцова смотрела в окно. – Тогда снимайте, если не хотите разобраться.
– Ну вот! – поморщился Горкин, будто ему за ворот капнули холодной воды. – Я и прав-то таких не имею.
Он долго расспрашивал учителей обо всем: о здоровье Мити, о настроении Кеши и настроениях ребят. Заинтересовался занятиями с геологом и кружком Бурдинской.
Наконец он повернулся к Хромову:
– Вы член бюро комсомольской организации? Пойдемте вместе к Владимирскому. Кстати и Платон Сергеевич там.
Директор рудника взволнованно расхаживал по кабинету, останавливаясь то у окна, то у письменного стола, то у шкафа, машинально беря минералы и вновь кладя их на место. У стола, справа, уложив длинные руки на зеленом сукне, неподвижно сидел Кухтенков.
– Садитесь! – отрывисто пригласил Владимирский, будто вызвал на совещание.
Хромов и Горкин переглянулись. Первый чувствовал себя как-то связанно, неловко, но Горкина, видимо, трудно было смутить.
– Ну, чего панику навел, Владимир Афанасьевич? – прозвенел он своим тенорком, будто ничего особенного не случилось.
– Ты еще спрашиваешь! – возмутился Владимирский. – Сынишка третий день в постели!
– Отлежится – встанет.
– Отлежится? Взглянул бы ты на него: чуть не в кровоподтеках весь…
– Наука парню! Будет с уважением относиться к коллективу.
– Спиря!
– Был Спиря, а теперь Спиридон Гаврилович.
– Все равно. Мальчишкой был, мальчишкой остался, – махнул рукой Владимирский.
– Старо, Владимир Афанасьевич. Старо и неумно.
– Постой, Горкин. – Владимирский помолчал и, поморщившись, как от боли, сказал. – Давай говорить серьезно. Это не шуточка: из интерната убегают, драки между школьниками. Полный развал воспитательной работы.
– А я серьезно и говорю. Скажу то же самое, только другими словами. Я их не оправдываю, – кивнул Горкин в сторону учителей, – у них свои промахи… А вот товарищ Владимирский, – эти слова Горкин произнес с необыкновенной горячностью, – не хочет понять, что он оболтуса из своего сына выращивает, а не советского человека! За что ты ему в прошлом году велосипед подарил, а в этом году – ручные часики? За что? Третий год он без испытаний из класса в класс перекатывается. Под твоим нажимом это делается…
Все больше краснея и, видимо, от смущения приходя в ярость, Горкин продолжал наступать на Владимирского:
– Ты думаешь, Владимир Афанасьевич, это не удар по школе? В какое положение это ставит учителей! О Митеньке я и не говорю: ты, хотел или не хотел, но развил в нем высокомерие к товарищам, неуважение к труду учителей. Ведь ему все легко достается, без напряжения, без приложения собственных сил.
Владимирский слушал Горкина, опершись руками о край стола. Желваки бегали на скулах худощавого властного лица. Поглядывая на Кухтенкова, он сдерживал себя.
– В общем, Владимир Афанасьевич, не порадует тебя потом сынок. Плохой тебе будет из него помощник. И государству нахлебник!
– Какой он будет помощник, – начал Владимирский, – это не твоего ума дело…
Горкин досадливо махнул рукой и сел на диван рядом с Хромовым.
Кухтенков придвинул Владимирскому коробку «Северной Пальмиры»:
– Закурим. И успокойтесь… Вот что, Владимир Афанасьевич: вы спрашивали Митю, за что его Кеша?
– Да. Митя давно замечал, что Евсюкову не нравится его дружба с Линдой. И дневник он взял с целью осрамить Митю. Все ясно.
– Эта ясность от незнания, Владимир Афанасьевич, – сухо, но вежливо возразил Хромов. – Кеша избил Митю не за дружбу с Линдой, а за то, что он оскорбил коллектив. И его, Кешу, обидел.
– Выходит, Хромов, что вы лучше знаете Митю, чем его отец? – сердито оказал Владимирский.
– Не берусь это утверждать, но факт остается фактом. Да вы и сейчас говорите не как отец, а как директор рудника. Отец должен понять, что его сыну, советскому школьнику, не подобает наплевательски относиться к своим товарищам, которые требуют одного: чтобы он у шлея как следует! Что касается дневника, то я убежден, что Кеша его не брал. И ребята этому не верят.
– Выходит так, – оказал со спокойствием бешенства Владимирский, – выходит так, что сына моего избили, а виноват он. И я… Вы тоже так считаете, Платон Сергеевич?
– Как вы думаете, Владимир Афанасьевич, – заговорил Кухтенков тихим, ровным голосом, словно в раздумье, – если бы мы собрали ребят и спросили их, на чьей они стороне – на стороне вашего сына или на стороне Евсюкова, что бы они ответили?
Владимирский покосился на учителей:
– Ну, если их так дурно воспитали…
– Не упорствуйте. Пусть мы их еще плохо воспитываем, но это честные, хорошие советские дети. Наши дети. И они будут за того, кто выступил защитником коллектива. Евсюков, конечно, должен быть наказан. За самоуправство. И это сделают педагоги и сами комсомольцы. Но худо будет для школы, если Евсюков поймет, в чем он виноват, а Митя и его отец не поймут.
Кухтенков помолчал.
– Владимир Афанасьевич, – добавил он, – я честно окажу: и школа виновата. Давайте вместе исправлять общую вину.
Владимирский откинулся за спинку кресла. Он будто сразу постарел. Глаза его были закрыты, Кухтенков молча встал, налил из графина воду и поставил стакан перед Владимирским. Горкин даже с некоторым сожалением посматривал на директора рудника.
– Владимир Афанасьевич, – мягко сказал секретарь райкома, – пойми, тебя целыми днями не бывает дома: то ты на строительстве гидравлики, то выезжаешь в район, то тебя вызывают в Читу. Воспитывает его старая бабка… Часто ли ты с ним разговариваешь вообще, и не только о школе, об учебе? Вот и прозевал…
– Нехорошо, – тихо сказал Владимирский, открыв глаза, – нехорошо, товарищи… Если я директор рудника, значит можно мне позволить заблуждаться? Не-хо-рошо! – в третий раз произнес он.
– Что же, товарищи, – директор школы встал и обратился ко всем, – давайте исправлять и исправляться.
13. За честь класса
Интернатцы были взбудоражены событиями последних дней.
Разобраться в ребячьей разноголосице чувств и мнений было нелегко.
Сеня Мишарин жалел Зою и осуждал Кешу.
Борис Зырянов принял сторону Кеши: «Я бы за такое дело не то что Митьку – я бы по господу богу прямой наводкой грохнул!» А приятеля своего, Антона, Борис обещал вздуть, если тот не оставит Зою Вихреву в покое.
Ваня Гладких обвинял всех: и Зою, и Антона, и Кешу, и Митеньку, и особенно Полю Бирюлину: «секретарь комсомольской организации, умная девочка, а твердости никакой».
Толя Чернобородов два дня ходил, углубившись в свои мысли, и наконец прочитал вслух стихотворение:
Зрей наша дружба,
Как колос ржи,
Цени нашу дружбу,
Ей дорожи!
Робкое замечание Сени Мишарина, что правильнее было бы не «ей дорожи», а «ею дорожи», Чернобородов опроверг тем, что Сеня отстал на столетие и что «у Маяковского еще смелее встречаются выражения».
Предположение Трофима Зубарева, будто Толя хотел сказать «ей-ей дорожи», было с негодованием отвергнуто поэтом.
Между тем, возвращению Зои были рады все: и те, кто сочувствовал ей, и те, кто осуждал.
Вернулись лыжники около полуночи, но интернатцы еще не спали.
– Получайте ваш багаж, – сказал Трофим, задвигая под Зоину койку полосатенький сундучок. – Квитанции не нужно. Благодарностей тоже… Почтенный кроссмен, – обратился он к Тине, – пойдемте умываться и спать.
Поля Бирюлина села на Зоину койку, а Линда устроилась на полу рядом с подругой, положив руки на ее колени. Они стали наперебой рассказывать о драке между Кешей и Митей, о новом комсомольском собрании.

– Учителя все пришли, и дед Боровиков, и Владимир Афанасьевич, и Семен Степанович… – сообщала Линда.
– А Семен Степанович зачем?
– А он в самом начале собрания встал и говорит: «Сейчас мой сын Сережа внесет ясность в историю с дневником». И Сережа признался, что Митин дневник он взял на день почитать, хотел с Митей поговорить, и духу нехватило. Рассказал про дневник Кеше, а Кеша, без всякого умысла, – Платону Сергеевичу…
– А Платон Сергеевич какой строгий оказался. А мы-то его все «тихоней» звали.
– Митя пришел весь перевязанный, охал, охал, а потом признался, что нехорошо поступил… Владимир Афанасьевич его при всех отчитал: «Для нас, для коммунистов, – говорил, – коллектив – все!»
– Кеша бледный-бледный, едва говорит…
Зоя слушала все это, не спорила, по обыкновению, и улыбалась каким-то своим мыслям. Ее подруги переглядывались: «Да Зоя ли это?»
– Тебя, девочка, – материнским тоном сказала Поля Бирюлина, – тоже надо отругать. Романов начиталась. Обиделась, что поругали! Весь рудник перевернула… Ну, зачем убежала?
Линда испуганно взглянула на Полю: «Молчи, зачем затеваешь разговор!»
Но Зоя не вспыхнула, как обычно. Она сладко зевнула и сонно пробормотала:
– Хоть бы кто Антошку за меня отчитал, вот спасибо бы сказала! – Она положила голову на Полино плечо и добавила совсем тихо: – А у Троши какие глаза… добрые-добрые!.. Ох, как я устала, девочки…
И заснула.
Поля Бирюлина все еще что-то доказывала подруге, а грудь Зои уже мерно вздымалась, и Линда, глядя на нее снизу вверх, загадочно улыбалась.
– Ты бы хоть сегодня не улыбалась, – наставительно сказала Поля. – Ты-то усвоила что-нибудь? Будешь на Митю влиять как комсомолка?
– Усвоила, – кротко ответила Линда. – Буду. А вот Зоинька уже давно спит.
Девочки осторожно раздели подругу и уложили ее спать.
Троше Зубареву и Тине Ойкину не пришлось так скоро заснуть.
В мальчишеской комнате спорили бурно, азартно, словно продолжалось сегодняшнее, второе на этой неделе, комсомольское собрание.
– Правильно сказал Платон Сергеевич, – говорил Сеня Мишарин. – Нечего силу показывать на своих товарищах.
– А ты вдумайся, – не уступал Зырянов, – из-за чего его Кеша! Кеша зря не дерется! Если бы тебя так обозвали…
– Тоже мне рыцари большого кулака! – возмутился Сеня. – Моральное воздействие нужно, а не расправа кулаком!
– На кого что действует! – глубокомысленно заметил Антон.
– Это верно, – с невинным видом подхватывает Ванюша Гладких. – Если Антон начнет пилить, то не то что до Урюма – до Байкала рад без оглядки бежать. Ты хоть раз по-товарищески поговорил с Зоей? Все насмешками!
Раздетые до пояса, растирая себя докрасна белыми вафельными полотенцами, вошли Ойкин и Зубарев.
Им рассказали о событиях и собрании со всеми подробностями.
– Знаете, ребята, – сказал Толя, – очень меня затронули слова Варвары Ивановны. «Плохо, – спрашивает, – когда читают чужие дневники?» – «Плохо», отвечает. «Плохо, – опять спрашивает, – когда в этом боятся признаться? Плохо. Плохо, когда одни не уважают коллектив, а другие прибегают к драке как к спасительному средству? Безусловно плохо». Мы сидим, и всем, наверное, стало грустно и обидно. Все плохо да плохо… А я смотрю – лицо у Варвары Ивановны строгое, а глаза не то чтобы веселые, но со светом каким-то особенным…
– Она в душе добрая, – перебил Ваня, – только не любит показывать доброту.
– Что же Варвара Ивановна еще сказала? – нетерпеливо спросил Трофим.
– Она, значит, говорит: «А теперь о хорошем. Хорошо, что вы все знаете, что Кеша не брал дневника. Хорошо, что Сережа нашел в себе мужество признаться в своей ошибке. Хорошо, что Митя недоволен собой и стремится исправиться. Хорошо, что мы, коллектив советских школьников, прямо говорим друг другу о своих ошибках».
Тиня слушал разговор, и его серые глаза перебегали с одного на другого.
– Люблю Варвару Ивановну, – сказал он: – строгая она, но справедливая.
– Вот Поля наша не годится в секретари, – заметил Борис. – Нет у нее строгости.
– Борис тоскует по узде, – сострил Зубарев.
Тиня Ойкин, сидевший в задумчивости на скамейке, вдруг встрепенулся.
– Троша, – сказал он, – по-моему, ты глупо сострил… Ребята, знаете, о чем я думаю? Вот мы учимся вместе четыре месяца. Пришли из разных мест: Ваня – из Первомайского, Захар – из Ковыхты, Антон – из Озерков, Кеша здесь учился… Нам три года вместе учиться… А кто из нас думает о чести класса? Ведь это главное!
И тут, словно Тиня высказал мысли каждого, заговорили все.
– Надо, чтобы стыдно было за каждую плохую отметку, – сказал Толя.
– Я еще в пятом классе, – вспомнил Борис, – вместо «Христофор Колумб» сказал «Светофор Колумб». До сих пор краснею, как вспомню.
– Ага! – заметил Зубарев. – А Толя в позапрошлом году изрек: «Море со всех сторон окружено водой». Вот это поэзия! Половину урока сорвал – всё никак не могли успокоиться.
Ребята расхохотались.
– Давайте предложим всему классу, – сказал Тиня, – чтобы с плохими отметками в геологический поход никого не брать!
– Сеня уже впереди всех! – Трофим, застегивая рубашку, подошел к Мишарину. – Ты что, собираешься к весне стать академиком?
Сеня обложился книгами. Он заглядывал то в одну, то в другую и заносил что то в записную книжку.
Зубарев перелистывал книги.
– «Определитель растений», «Как составлять гербарий», «Следопыт-охотник», – читал Трофим названия книг. – Ого, товарищ уже готовится к геологическому походу!
Он взял одну из книг, пристроился рядом с Мишариным и начал читать..
– А что ж такого удивительного! – отозвался Гладких. – Я уже маршрут придумал. Вот посмотрите.
Ваня достал из тумбочки тетрадку. На последней странице обложки был чертеж.
Ребята склонились над Ванюшиной тетрадной. Трофим привстал со стула и заглянул через плечо Сени Мишарина:
– Зря старался!
– Почему? – ожидая подвоха, спросил Ваня.
– Тебя в поход не возьмут, – бесстрастно ответил Трофим. Он уже опять уткнулся в книгу.
– Меня? – возмутился Ваня. – Меня?! Самого выносливого?! Я Олекму туда и обратно без отдыха переплываю.
– Ну да, тебя, – подтвердил Трофим, перелистывая книги, – самого ленивого… Олекму переплываешь, это верно. И по математике плаваешь…
– В самом деле, – вмешался Борис, – Ванюша, ты слышал: у кого с учебой плохо, тот в поход не пойдет.
Ванюша тихо присвистнул, молча свернул тетрадь в трубочку и пошел к своей койке.
– А ты не свисти, – сказал Сеня. – Кузьма Савельевич прямо сказал: «Кто химии и физики не знает, тот будет на минералы смотреть, как баран на новые ворота». И еще: «Мне работники нужны, а не туристы».
– Вот когда придется переправу на Олекме строить, тогда посмотрим, кто работник, кто турист. – Ваня Гладких нырнул под одеяло.
Это было в тот же вечер.
Хромов и Кеша прошли весь поселок, пересекли Джалинду и углубились в Заречье. За спиной остались кочкарник, нежилые желтые срубы, больница, огни которой просвечивали сквозь кедровник. Шли молча. Пятидесятиградусный мороз, словно бритвой, резал лицо.
– Летом здесь голубицы много, – сказал Кеша только для того, чтобы прервать тягостное молчание.
Хромов не ответил.
– А на кочкарнике той весной хотели стадион строить, – с отчаянием сказал Кеша.
Учитель о чем-то думал.
– Не молчите, Андрей Аркадьевич! – не выдержал Кеша. – Я все понял, еще до сегодняшнего педсовета и до комсомольского собрания. Неправ я. Поделом мне. Вот увидите, увидите, что… – Голос его прервался.
– Знаю, Кеша, – ответил учитель. – Конечно, увижу. Увижу и тебя и Митю хорошими товарищами.
Они остановились. Хромов положил руку на Кешино плечо, а глядел мимо него, куда-то вдаль.
– Главное, Кеша: ты защищал себя и товарищей, а забыл про коллектив, не сумел опереться на него. А коллектив – это сила… Так вот, товарищ адмирал Тихоокеанского флота, давай поговорим…
Поздно вернулись в этот вечер учитель и ученик.








