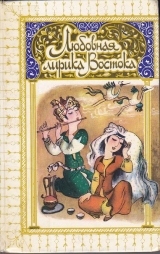
Текст книги "Любовная лирика классических поэтов Востока"
Автор книги: Омар Хайям
Соавторы: Муслихиддин Саади,Абдуррахман Джами,Абульхасан Рудаки,Шамсиддин Мухаммад Хафиз,Абу Нувас,Афзаладдин Хакани,Амир Дехлеви,Пир Султан Абдал,Омар ибн Аби Рабиа,Башшар ибн Бурд
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Есть в нашем отношении к Хафизу нечто большее, чем, скажем, интерес к обстоятельствам его жизни (небогатой событиями) или к поэтической технике газели (весьма изощренной). Хафиз привлекает нас жизненной правдой и обаянием всего высказанного в стихах. В нравственно-психологическом обиходе современного человека совсем не лишними оказываются и бескорыстная самоотдача, и всепроникающая нежность, и сердечная открытость, и отвращение к фальши и ханжеству, столь откровенно и сильно выраженные Хафизом. Неизменно привлекателен образ хафизовского вольнолюбца-ринда – лирического героя, от имени которого развертывается монолог во многих газелях. Ринд – не столько «гуляка праздный», коротающий ночи в тайных кабачках – харабатах, сколько самозабвенный поклонник и защитник красоты, хорошо знающий, какой возвышенной и очищающей силой наделена подлинная любовь. Ринд умеет быть насмешливым и язвительным, он проницателен и зорок, он с отвращением встречает любую низменную и злую гримасу повседневного бытия, и одновременно он уязвим и беспомощен перед ошеломляющей властью красоты и любви.
Нам дорога человечность персидского лирика, жившего в жестокую и безжалостную эпоху; нам понятна его вера в то, что никогда не поздно спасти и преобразить этот мир постоянными усилиями чистых душ и любящих сердец. Нам близок Хафиз, боготворящий все живое, зачарованный зеленью трав и садов, шумом потоков, ароматом роз, соловьиным пением, мерцанием звездного небосклона, красками утренней зари. Нашим заветным мыслям созвучны и раздумья поэта о том, что человеку должны быть чужды фанатичная узость и нетерпимость, душевная глухота, мелочные расчеты, все фальшиво-показное и ритуально-бездушное.
И прав оказался Гете, когда на страницах своего «Западно-восточного дивана» в стихотворении «Гафизу» обращался к старинному персидскому лирику, как к живому и мудрому собеседнику и другу:
А ты – ты обнял все вокруг,
Что есть в душе и мире,
Кивнув мыслителю, как друг,
Чья мысль и чувство шире…
Рожденный все и знать, и петь,
На свадьбе ли, на тризне,
Веди нас до могилы впредь
По горькой, сладкой жизни.
Поэтами, обнимающими своим творческим даром «все вокруг, что есть в душе и мире», были все великие мастера классической лирики персов. Их перечень замыкает Абдуррахман Джами(1414–1492), большая часть жизни которого прошла в старинном городе Герате, на земле нынешнего Афганистана.
Это был скромный, худощавый, немногословный хорасанец, глубоко почитаемый жителями Герата. Он носил простую одежду, избегал обильных пиров, громогласных почестей, а богатые дары и подношения почитателей отдавал на строительство приютов и школ. Единственным ценным имуществом в его доме были книги.
Всю жизнь Джами неустанно трудился. Его жажда знаний была безгранична. Круг интересов поэта охватывал все области тогдашней науки. Среди трудов Джами мы находим научные трактаты по вопросам поэтического искусства, руководства по различным стихотворным жанрам, работы по истории литературы, музыковедению, философии, грамматике…
Многое из того, что им было написано, сегодня представляет интерес лишь для узкого круга историков средневековой культуры. Но стихи Джами – его семь эпических поэм, его лирика принадлежат к числу творений, над которыми время не властно.
Джами проникновенно писал о любви. Нравственная цельность любящего, полнота душевных порывов, жажда безраздельной сердечной близости к любимой – все это мы находим в многочисленных газелях Джами:
Всё, что в сердце моем наболело, – пойми!
Почему я в слезах то и дело – пойми!
Муки долгой разлуки, терпения боль,
Всё, что скрыто в душе моей, – смело пойми!
Подводя итог рассказу о персидских строках любви и о тех, кто их создал, я хотел бы привести свидетельство выдающегося русского лирика Афанасия Фета, который много поработал над переложениями стихов Хафиза, перевел одно из стихотворений Саади. В небольшом введении к своему «хафизовскому» циклу Фет писал: стихи великого перса подтверждают, «что цветы истинной поэзии неувядаемы, независимо от эпохи и почвы, их производившей». Это верно не только по отношению к Хафизу. Старинная любовная лирика Ирана по-прежнему полна очарования и свежести, она донесла до наших дней свое живое дыхание, свой аромат и цвет.
4
Письменная лирическая поэзия на языке тюркских кочевых племен, с XI века населивших Малую Азию и составивших ядро турецкого народа, возникла сравнительно поздно – к XIII столетию. Ей предшествовали богатейшие традиции эпического фольклора, народной песенной лирики. Турецкая литература долгое время испытывала сильное арабское и персидское влияние, формировалась под глубоким воздействием суфийской мистики и символики, особенно прочно запечатлевшихся в поэтическом творчестве.
Суфием был и выдающийся лирик Юнус Эмре(ок. 1240–1320), о жизни которого сохранилось крайне мало достоверных сведений. Он был поэтом-дервишем, нищим одиноким странником, лишенным постоянного пристанища и неутомимо ищущим духовного просветления и истины. Его лирические стихи, по признанию самого поэта, порождены чтением единственной книги – «книги собственного сердца». Говоря о любви, поэт развенчивает ее главного врага – смерть, восстает против несправедливой гибели всего живого и прекрасного. Юнус Эмре выносит приговор «черным делам» смерти, он принимает на себя все бремя любви, славит ее, как самое совершенное воплощение той воли, которая управляет миром.
Поразительны испепеляющая страстность лирики Юнуса, его огненный темперамент, присущая ему предельная глубина самораскрытия, бездонная искренность, экстатическая напряженность слова и строки. Главное в его стихах – самоотверженное, неодолимое стремление поэта к объекту своей страсти. Объект суфийски многозначен – это возлюбленная, и вместе с тем единственный Друг, вселенная, божество. В своем устремлении к предмету любви поэт не признает никаких границ – он готов жертвовать собой, обратиться в ничто ради полного взаимопроникновения, безраздельного слияния, абсолютного саморастворения в любимом существе. Он обретает себя в другом, воспринимая этого другого как высший предел собственных представлений о совершенстве, как вожделенный идеал истины, красоты, добра.
Стихи Юнуса – первоистоки турецкой поэтической классики. Питают они и поэзию двадцатого столетия, что подчеркивал крупнейший ее мастер – Назым Хикмет.
Лирика Юнуса Эмре положила начало ашыкской поэзии, и вплоть до наших дней ашыки – народные певцы Анатолии, стихотворцы и музыканты, еретики и бунтари – слагают стихи о влюбленном скитальце-поэте, о расставаниях и встречах, о радостях и трагедиях любви, продолжая высокую традицию, идущую от Юнуса Эмре.
Литература Турции османского периода развивалась в атмосфере военно-феодального деспотического режима, не слишком благоприятной для лирической поэзии. И все же в XV веке на поэтическом горизонте появляется жизнелюбец и гуманист, неизменный почитатель Хафиза, «певец любви» Ахмед-паша(1420–1497). Он был родовитым придворным, дослужился до министра при султане, впал в немилость, побывал и в тюрьме, и в ссылке.
Ахмед-паша – великолепный мастер стихов о любви. В них он на практике доказал, что турецкий поэтический язык обладает способностью детально воспроизводить всю сложность и многогранность внутреннего мира человека, психологическую глубину и цельность его чувств и помыслов. Он нашел художественные средства, которыми может быть в турецком стихе творчески использован богатейший опыт персидской средневековой поэзии, ее метр и ритм, образность и звукопись.
Газели Ахмеда-паши, его обращения к возлюбленной, то восторженные, то печальные, отличаются ясностью и музыкальностью, идущими от песенного фольклора средневековых турецких городов с их неформализованной, вольнолюбивой, тайно-свободной жизнью.
Это одна из особенностей всей старой турецкой лирики – постоянная связь поэзии письменной с непрекращающимся потоком народного песнетворчества, с языком караван-сарая и базара, с живой речью земледельцев и горожан.
Из турецкой народной среды выходили не только странствующие безымянные певцы. Выросший в бедняцкой семье Махмуд Абдул Бакы(1526–1600) проявил смолоду исключительные поэтические способности, сумел получить серьезное по тем временам образование и даже сделать неплохую придворную карьеру. Современники называли его «султаном поэтов». Великолепны любовные газели Бакы – в них уже нет налета мистики и символики, это стихи мирские, земные, человечески сердечные. Традиционная тематика «любви и вина» согрета здесь живым чувством, светлым мироощущением. Возлюбленная в стихах Бакы не условная литературная маска, взятая напрокат из арабо-персидского старопоэтического реквизита, а наделенная жизненной силой «женщина земная», источник вполне реальных радостей и наслаждений, предмет желаний – откровенных и страстных.
У Пир Султана Абдала(XVI век) – поэта-мятежника, участника народных антифеодальных восстаний – немало стихов, полных справедливого гнева, призывов к борьбе против султанской тирании. Полная опасностей жизнь повстанца отразилась и в его любовных стихах, многие из которых стали ашыкскими песнями. Да и сам Пир Султан Абдал был вольнодумным ашыком. Наиболее характерный мотив его лирики – прощание с любимой навсегда, последняя встреча перед неизбежной гибелью. Во многих стихах поражает острота пророческого видения своей кончины (Пир Султан Абдал был схвачен и казнен за участие в восстании) и столь же острое, пронзительное переживание выпадавших на долю певца кратких часов счастья:
Смертью казни Пир Султана, палач!
Крепко он любит, не знает удач.
Милая, мы расстаемся, не плачь,
Ты меня помни, а я не забуду!
Замечательный южноанатолийский ашык XVII века Караджаоглан(1606–1679) славился своими любовными похождениями и о них слагал песни, подлинно народные, непосредственные и озорные. Героиня стихов Караджаоглана – деревенская красавица родом из простой семьи, живущей крестьянским трудом. Нехитрый быт, хорошо знакомая поэту природная и житейская среда – вот естественный фон, на котором развертываются рассказы о свиданиях и разлуке, об удачах и разочарованиях, о наслаждениях и невзгодах, выпадающих на долю влюбленных.
К XVII веку Османское государство, как это случается рано или поздно с деспотическими империями, стало приходить в упадок. Потеря былого могущества, медленное, но неуклонное загнивание огромного феодально-милитаристского организма отозвались и в поэзии – обесценением официозных панегириков, расцветом стихотворной сатиры. Изменилась и любовная лирика: Юсуф Наби(1642–1712) создал стихи, в которых отказался от традиционно утрированного изображения чувств, от чрезмерной идеализации лирических героев, от всякой интимной риторики. Поэтическая речь Наби подчеркнуто ясна и слегка насмешлива, насыщена тонкими наблюдениями над собой, серьезными раздумьями о любимой, страстью откровенной и глубоко личной.
Место действия любовных песен Ахмеда Недима(1681–1730) – родина поэта, Стамбул. Недим изображает столицу Турции, как рай для гедонистов, город весельчаков, прожигающих жизнь в садах загородного дворца, «золотого Садабада». Цветение жизни, весна, предвещающая удачу в любви, – излюбленный мотив поэта. Мажорна тональность лирики Недима, его стихи – призывы наслаждаться молодостью и любовью, обращенные к стамбульским красавицам, – легки и музыкальны, они естественно вошли в песенно-романсовую стихию турецких городов XVIII века.
* * *
«Говорите только о любви, все остальное – преступление» – этот призыв Луи Арагона вновь припомнился мне. Старые восточные поэты так и поступали – душа их была чиста, и совесть незапятнанна. Зачастую для них говорить о любви значило совершать подвиг.
Тысячу триста лет назад Маджнун писал: «Только любящий достоин человеком называться». Так оно и осталось вопреки любым попыткам лишить человека любви, отобрать у него человеческую суть, превратить его в зверя или в робота, в муравья или в винтик – в существо без памяти и воли, без достоинства и прав.
Несмотря ни на что, по-прежнему на языках мира, новых и старых, продолжают звучать речи влюбленных, увековеченные поэтами. И «обидный призрак нелюбви», от которого предостерегал Пастернак, рассеивается и исчезает, как и положено призраку.
Истинная любовь побеждает страх, сказал древний мудрец. Настоящие стихи о любви, старинные и современные, восточные и западные, помогают нам жить смело, чувствовать и мыслить свободно, верить искренне, смотреть в будущее с надеждой.
Михаил Курганцев
С арабского


Имруулькайс
(ок. 500–540)
1—4. Переводы Н. Стефановича; 5–6. Переводы А. Ревича; 7–9. Переводы В. Гончарова
1
Узнал я сегодня так много печали и зла —
Я вспомнил о милой, о той, что навеки ушла.
Сулейма сказала: «В разлуке суровой и длинной
Ты стал стариком – голова совершенно бела.
Теперь с бахромой я сравнила бы эти седины,
Что серыми клочьями мрачно свисают с чела…».
А прежде когда-то мне гор покорялись вершины,
Доступные только могучей отваге орла.
2
Нам быть соседями – друзьями стать могли б:
Мне тоже здесь лежать, пока стоит Асиб.
Я в мире одинок, как ты – во мраке гроба…
Соседка милая, мы здесь чужие оба.
Соседка, не вернуть промчавшееся мимо,
И надвигается конец неотвратимо.
Всю землю родиной считает человек —
Изгнанник только тот, кто в ней зарыт навек.
3
Нет, больше не могу, терпенье истощилось,
В душе моей тоска и горькая унылость.
Бессмысленные дни, безрадостные ночи,
А счастье – что еще случайней и короче?
О край, где был укрыт я от беды и бури, —
Те ночи у пруда прекрасней, чем Укури.
У нежных девушек вино я утром пью, —
Но разве не они сгубили жизнь мою?
И все ж от влажных губ никак не оторвусь —
В них терпкого вина неповторимый вкус.
О, этот аромат медовый, горьковатый!
О, стройность антилоп, величье древних статуй!
Как будто ветерка дыханье молодое
Внезапно принесло душистый дым алоэ.
Как будто пряное я пью вино из чаши,
Что из далеких стран привозят в земли наши.
Но в чаше я с водой вино свое смешал,
С потоком, что течет с крутых, высоких скал,
Со струями, с ничем не замутненной
Прозрачной влагою, душистой и студеной.
4
Прохладу уст ее, жемчужин светлый ряд
Овеял диких трав и меда аромат —
Так ночь весенняя порой благоухает,
Когда на небесах узоры звезд горят…
5
Друзья, мимо дома прекрасной Умм Джýндаб пройдем,
Молю – утолите страдание в сердце моем.
Ну, сделайте милость, немного меня обождите,
И час проведу я с прекрасной Умм Джундаб вдвоем.
Вы знаете сами, не надобно ей благовоний,
К жилью приближаясь, ее аромат узнаем.
Она всех красавиц затмила и ласкова нравом….
Вы знаете сами, к чему тосковать вам о нем?
Когда же увижу ее? Если б знать мне в разлуке
О том, что верна, что о суженом помнит своем!
Быть может, Умм Джундаб наслушалась вздорных наветов
И нашу любовь мы уже никогда не вернем?
Испытано мною, что значит с ней год не встречаться:
Расстанься на месяц – и то пожалеешь потом.
Она мне сказала: «Ну чем ты еще недоволен?
Ведь я, не переча, тебе потакаю во всем».
Себе говорю я: ты видишь цепочку верблюдов,
Идущих меж скалами йеменским горным путем?
Сидят в паланкинах красавицы в алых одеждах,
Их плечи прикрыты зеленым, как пальма, плащом.
Ты видишь те два каравана в долине близ Мекки?
Другому отсюда их не различить нипочем.
К оазису первый свернул, а второй устремился
К нагорию Кабкаб, а дальше уже окоем.
Из глаз моих слезы текут, так вода из колодца
По желобу льется, по камню струится ручьем.
А ведь предо мной никогда не бахвалился слабый,
Не мог побежденный ко мне прикоснуться мечом.
Влюбленному весть принесет о далекой любимой
Лишь странник бывалый, кочующий ночью и днем
На белой верблюдице, схожей, и цветом и нравом,
И резвостью ног с молодым белошерстным ослом,
Пустынником диким, который вопит на рассвете,
Совсем как певец, голосящий вовсю под хмельком.
Она, словно вольный осел, в глухомани пасется,
Потом к водопою бежит без тропы напролом,
Туда, где долина цветет, где высоки деревья,
Где скот не пасут, где легко повстречаться с врагом.
Испытанный странник пускается в путь до рассвета,
Когда еще росы блестят на ковре луговом.
6
Слезы льются по равнинам щек,
Словно не глаза – речной исток,
Ключ подземный, осененный пальмой,
Руслом прорезающий песок.
Лейла, Лейла! Где она сегодня?
Ну какой в мечтах бесплодных прок?
По земле безжизненной скитаюсь,
По пескам кочую без дорог.
Мой верблюд, мой спутник неизменный,
Жилист, крутогорб и быстроног.
Как джейран, пасущийся под древом,
Волен мой верблюд и одинок.
Он подобен горестной газели,
У которой сгинул сосунок,
Мчится вдаль, тропы не разбирая,
Так бежит, что не увидишь ног.
Не одну пустынную долину
Я с тревогой в сердце пересек!
Орошал их ливень плодоносный,
Заливал узорчатый поток.
В поводу веду я кобылицу,
Ветер бы догнать ее не мог,
С нею не сравнится даже ворон,
Чей полет стремительный высок,
Ворон, что несет в железном клюве
Для птенца голодного кусок.
7
И Калиба степи, и Хасбы долины и кручи
Дождем окропили нежданно пришедшие тучи.
Тех туч караван проплывал над землею Унейзы,
Повис над горами, спустился к низине белесой;
И тучка одна, что от грома и молний устала,
Отстала от всех – и слезами на землю упала.
8
Ты перестал мечтать о Сельме: так далеко любовь твоя!
Не попытаешься, не хочешь и шагу сделать в те края.
О, сколько гор, долин, ущелий, песков бесплодных, злых людей
И караванных троп кремнистых теперь нас разделяют с ней.
Увидел я ее когда-то в краю Унейзы голубой,
Когда откочевать пришлось ей на пастбища земли другой.
Увидел я тугие косы, черней, чем ночь, вкруг головы.
И зубы белые – белее, чем млечный сок степной травы,
А губы улыбались мило улыбкой алых ягод мне,
И было это все как небыль или как поцелуй во сне.
О крепкокостная – к успеху неси, верблюдица, меня!
Седло мое, моя поклажа в огне, и сам я из огня!
Я, словно страус, караулю яйцо, прикрытое песком,
Всегда готовый на защиту бесстрашным кинуться броском.
Моя верблюдица, ты тоже, как страус, головой крутя,
Вдруг мчишь стремительней, чем ветер, спасая от врагов дитя.
9
Клянусь я жизнью, что Суад ушла, чтобы казниться мукой.
Она хотела испугать влюбленного в нее разлукой.
Увидев, услыхав Суад: «Явись еще!» – земля попросит.
Там, где ее шатер разбит, – земля обильней плодоносит.
Увидишь ты ее жилье – входи, проси приюта смело,
И вот уже в глазах ее слезинка ярко заблестела.
Маджнун
(Кайс ибн аль-Мулаввах)
(VII в.)
1—20. Переводы С. Липкина; 21–30. Переводы М. Курганова
1
«Если б ты захотел, то забыл бы ее», – мне сказали.
«Ваша правда, но я не хочу, – я ответил в печали. —
Да и как мне хотеть, если сердце мучительно бьется,
А привязано к ней, как ведерко к веревке колодца,
И в груди моей страсть укрепилась так твердо и прочно,
Что не знаю, чья власть уничтожить ее правомочна.
О, зачем же на сердце мое ты обрушил упреки, —
Горе мне от упреков твоих, собеседник жестокий!»
Ты спросил: «Кто она? Иль живет она в крае безвестном?».
Я ответил: «Заря, чья обитель – на своде небесном».
Мне сказали: «Пойми, что влюбиться в зарю – безрассудно».
Я ответил: «Таков мой удел, оттого мне и трудно.
Так решила судьба, а судьбе ведь никто не прикажет:
Если с кем-нибудь свяжет она, то сама и развяжет».
2
Клянусь Аллахом, я настойчив, – ты мне сказать должна:
За что меня ты разлюбила и в чем моя вина?
Клянусь Аллахом, я не знаю, любовь к тебе храня, —
Как быть с тобою? Почему ты покинула меня?
Как быть? Порвать с тобой? Но лучше я умер бы давно!
Иль чашу горькую испить мне из рук твоих дано?
В безлюдной провести пустыне остаток жалких дней?
Всем о любви своей поведать или забыть о ней?
Что делать, Лейла, посоветуй: кричать иль ждать наград?
Но терпеливого бросают, болтливого – бранят.
Пусть будет здесь моя могила, твоя – в другом краю,
Но если после смерти вспомнит твоя душа – мою,
Желала б на моей могиле моя душа – сова
Услышать из далекой дали твоей совы слова,
И если б запретил я плакать моим глазам сейчас,
То все же слез поток кровавый струился бы из глаз.
3
Одичавший, позабытый, не скитаюсь по чужбине,
Но с возлюбленною Лейлой разлучился я отныне.
Ту любовь, что в сердце прячу, сразу выдаст вздох мой грустный
Иль слеза, с которой вряд ли знахарь справится искусный.
О мой дом, к тебе дорога мне, страдальцу, незнакома,
А ведь это грех ужасный – бегство из родного дома!
Мне запретны встречи с Лейлой, но, тревогою объятый,
К ней иду: следит за мною неусыпный соглядатай.
Мир шатру, в который больше не вступлю, – чужак, прохожий, —
Хоть нашел бы в том жилище ту, что мне всего дороже!
4
О, сколько раз мне говорили: «Забудь ее, ступай к другой!»,
Но я внимаю злоязычным и с удивленьем и с тоской.
Я отвечаю им, – а слезы текут все жарче, все сильней,
И сердце в те края стремится, где дом возлюбленной моей, —
«Пусть даст, чтоб полюбить другую, другое сердце мне творец.
Но может ли у человека забиться несколько сердец?»
О Лейла, будь щедра и встречей мою судьбу ты обнови,
Ведь я скорблю в тенетах страсти, ведь я томлюсь в тюрьме любви!
Ты, может быть, пригубишь чашу, хоть замутилась в ней любовь?
Со мной, хоть приношу я горе, ты свидишься, быть может, вновь?
Быть может, свидевшись со мною, почувствуешь ты, какова
Любовь, что и в силках не гаснет, что и разбитая – жива?
Быть может, в сердце ты заглянешь, что – как песок в степи сухой —
Все сожжено неистребимой, испепеляющей тоской.
5
Слушать северный ветер – желание друга,
Для себя же избрал я дыхание юга.
Надоели хулители мне… Неужели
Рассудительных нет среди них, в самом деле!
Мне кричат: «Образумь свое сердце больное!»
Отвечаю: «Где сердце найду я другое?»
Лишь веселые птицы запели на зорьке,
Страсть меня позвала в путь нелегкий и горький.
Счастья хочется всем, как бы ни было хрупко.
Внемлет голубь, как издали стонет голубка.
Я спросил у нее: «Отчего твои муки?
Друг обидел тебя иль страдаешь в разлуке?»
Мне сказала голубка: «Тяжка моя участь,
Разлюбил меня друг, оттого я и мучусь».
Та голубка на Лейлу похожа отчасти,
Но кто Лейлу увидит, – погибнет от страсти.
От любви безответной лишился я света, —
А когда-то звала, ожидая ответа.
Был я стойким – и вот я в плену у газели,
Но газель оказалась далеко отселе.
Ты пойми: лишь она исцелит от недуга,
Но помочь мне как лекарь не хочет подруга.
6
В груди моей сердце чужое стучит,
Подругу зовет, но подруга молчит.
Его истерзали сомненье и страсть, —
Откуда такая беда и напасть?
С тех пор как я Лейлу увидел, – в беде,
В беде мое сердце всегда и везде!
У всех ли сердца таковы? О творец,
Тогда пусть останется мир без сердец!
7
Бранить меня ты можешь, Лейла, мои дела, мои слова, —
И на здоровье! Но поверь мне: ты не права, ты не права!
Не потому, что ненавижу, бегу от твоего огня, —
Я просто понял, что не любишь и не любила ты меня.
К тому же и от самых добрых, когда иду в пыли степной, —
«Смотрите, вот ее любовник!» – я слышу за своей спиной.
Я радовался каждой встрече, и встретиться мечтал я вновь.
Тебя порочащие речи усилили мою любовь.
Советовали мне: «Покайся!». Но мне какая в том нужда?
В своей любви – клянусь я жизнью – я не раскаюсь никогда!
8
Я страстью пламенной к ее шатру гоним,
На пламя жалобу пишу песком степным.
Соленый, теплый дождь из глаз моих течет,
А сердце хмурится, как в тучах небосвод.
Долинам жалуюсь я на любовь свою,
Чье пламя и дождем из глаз я не залью.
Возлюбленной черты рисую на песке,
Как будто может внять земля моей тоске,
Как будто внемлет мне любимая сама,
Но собеседница-земля – нема, нема!
Никто не слушает, никто меня не ждет,
Никто не упрекнет за поздний мой приход,
И я иду назад печальною стезей,
А спутницы мои – слеза с другой слезой.
Я знаю, что любовь – безумие мое,
Что станет бытие угрюмее мое.
9
Ночной пастух, что будет со мною утром рано?
Что принесет мне солнце, горящее багряно?
Что будет с той, чью прелесть во всем я обнаружу?
Ее оставят дома или отправят к мужу?
Что будет со звездою, внезапно удаленной,
Которая не гаснет в моей душе влюбленной?
В ту ночь, когда услышал в случайном разговоре,
Что Лейлу на чужбину должны отправить вскоре,
Мое забилось сердце, как птица, что в бессилье
Дрожит в тенетах, бьется, свои запутав крылья,
А у нее в долине птенцов осталось двое,
К гнезду все ближе, ближе дыханье ветровое!
Шум ветра утешенье семье доставил птичьей.
Сказали: «Наконец-то вернулась мать с добычей!».
Но мать в тенетах бьется, всю ночь крича от боли,
Не обретет и утром она желанной воли.
Ночной пастух, останься в степи, а я, гонимый
Тоскою и любовью, отправлюсь за любимой.
10
Кто меня ради Лейлы позвал, – я тому говорю,
Притворясь терпеливым: «Иль завтра увижу зарю?
Иль ко мне возвратится дыхание жизни опять?
Иль не знал ты, как щедро умел я себя расточать?»
Пусть гремящее облако влагу приносит шатру
В час, когда засыпает любимая, и поутру.
Далека ли, близка ли, – всегда она мне дорога:
Я влюбленный, плененный, покорный и верный слуга.
Нет мне счастья вблизи от нее, нет покоя вдали,
Эти долгие ночи бессонницу мне принесли.
Наблюдая за мной, злоязычные мне говорят, —
Я всегда на себе осуждающий чувствую взгляд:
«Разлученный с одной, утешается каждый с другой,
Только ты без любимой утратил и ум и покой».
Ах, оставьте меня под господством жестокой любви,
Пусть и сам я сгорю, и недуг мой, и вздохи мои!
Я почти не дышу – как же мне свою боль побороть?
Понемногу мой дух покидает бессильную плоть.
11
Как в это утро от меня ты, Лейла, далека!
В измученной груди – любовь, в больной душе – тоска!
Я плачу, не могу уснуть, я звездам счет веду,
А сердце бедное дрожит в пылающем бреду.
Я гибну от любви к тебе, блуждаю, как слепой,
Душа с отчаяньем дружна, а веко – со слезой.
Как полночь, слез моих поток не кончится вовек,
Меня сжигает страсть, а дождь струится из-под век.
Я в одиночестве горю, тоскую и терплю.
Я понял: встречи не дождусь, хотя я так люблю!
Но сколько я могу терпеть? От горя и огня,
От одиночества спаси безумного меня!
Кто утешенье принесет горящему в огне?
Кто будет бодрствовать со мной, когда весь мир – во сне?
Иль образ твой примчится вдруг – усну я на часок:
И призрак может счастье дать тому, кто одинок!
Всегда нова моя печаль, всегда нова любовь:
О, умереть бы, чтоб со мной исчезла эта новь!
Но помни, я еще живу и, кажется, дышу,
И время смерти подошло, и смерти я прошу.
12
Если скрылась луна – вспыхни там, где она отблистала.
Стань свечением солнечным, если заря запоздала.
Ты владеешь, как солнце, живительной силой чудесной,
Только солнце, как ты, нам не дарит улыбки прелестной.
Ты, подобно луне, красотою сверкаешь высокой,
Но незряча луна, не сравнится с тобой, черноокой.
Засияет луна, – ты при ней засияешь нежнее,
Ибо нет у луны черных кос и пленительной шеи.
Светит солнце желанное близкой земле и далекой,
Но светлей твои очи, подернутые поволокой.
Солнцу ль спорить с тобою, когда ты глазами поводишь
И когда ты на лань в обаятельном страхе походишь?
Улыбается Лейла – как чудно уста обнажили
Ряд зубов, что белей жемчугов и проснувшихся лилий!
До чего же изнежено тело подруги, о боже:
Проползет ли по ней муравей – след оставит на коже!
О, как мелки шаги, как слабеет она при движенье,
Чуть немного пройдет – остановится в изнеможенье!
Как лоза, она гнется, при этом чаруя улыбкой, —
И боишься: а вдруг переломится стан ее гибкий?
Вот газель на лугу с газеленком пасется в веселье, —
Милой Лейлы моей не счастливей ли дети газельи?
Их приют на земле, где цветут благодатные весны,
Из густых облаков посылая свой дождь плодоносный…
На верблюдицах сильных мы поздно достигли стоянки,
Но, увы, от стоянки увидели только останки.
По развалинам утренний дождик шумел беспрерывный,
А когда он замолк, загремели вечерние ливни.
И на луг прилетел ветерок от нее долгожданный,
И, познав ее свет, увлажнились росою тюльпаны,
И ушел по траве тихий вечер неспешной стопою,
И цветы свои черные ночь подняла пред собою.
13
Куропаток летела беспечная стая,
И взмолился я к ним, сострадания желая:
«Мне из вас кто-нибудь не одолжит ли крылья,
Чтобы к Лейле взлететь, – от меня ее скрыли».
Куропатки, усевшись на ветке араки,
Мне сказали: «Спасем, не погибнешь во мраке».
Но погибнет, как я – ей заря не забрезжит, —
Если крылья свои куропатка обрежет!
Кто подруге письмо принесет, кто заслужит
Благодарность, что вечно с влюбленностью дружит?
Так я мучим огнем и безумием страсти,
Что хочу лишь от бога увидеть участье.
Разве мог я стерпеть, что все беды приспели,
И что Лейла с другим уезжает отселе?
Но хотя я не умер еще от кручины,
Тяжко плачет душа моя, жаждет кончины.
Если родичи Лейлы за трапезой вместе
Соберутся, – хотят моей смерти и мести.
Это копья сейчас надо мной заблистали
Иль горят головни из пронзающей стали?
Блещут синие вестники смерти – булаты,
Свищут стрелы, и яростью луки объяты:
Как натянут их – звон раздается тревожно,
Их возможно согнуть, а сломать невозможно.
На верблюдах – погоня за мной средь безводья.
Истираются седла, и рвутся поводья…
Мне сказала подруга: «Боюсь на чужбине
Умереть без тебя». Но боюсь я, что ныне
Сам сгорю я от этого страха любимой!
Как поможет мне Лейла в беде нестерпимой?
Вы спросите ее: даст ли пленнику волю?
Исцелит ли она изнуренного болью?
Приютит ли того, кто гоним отовсюду?
Ну, а я-то ей верным защитником буду!..
Сердце, полное горя, сильнее тоскует,
Если слышу, как утром голубка воркует.
Мне сочувствуя, томно и сладостно стонет,
Но тоску мою песня ее не прогонит…
Но потом, чтоб утешить меня, все голубки
Так запели, как будто хрустальные кубки
Нежно, весело передавали друг другу —
Там, где льется вода по широкому лугу,
Где верховья реки, где высокие травы,
Где густые деревья и птичьи забавы,
Где газели резвятся на светлой поляне,
Где, людей не пугаясь, проносятся лани.
14
За ту отдам я душу, кого покину вскоре,
За ту, кого я помню и в радости и в горе,
За ту, кому велели, чтобы со мной рассталась.
За ту, кто, убоявшись, ко мне забыла жалость.
Из-за нее мне стали тесны степные дали,
Из-за нее противны все близкие мне стали.
Уйти мне иль стремиться к ее жилью всечасно,
Где страсть ее бессильна, а злость врагов опасна?
О, как любви господство я свергну, как разрушу
Единственное счастье, возвысившее душу!
Любовь дает мне силы, я связан с ней одною,
И если я скончаюсь, любовь умрет со мною.
Ткань скромности, казалось, мне сердце облекала,
Но вдруг любовь пробилась сквозь это покрывало.
Стеснителен я, буйства своих страстей мне стыдно,
Врагов мне видно много, зато ее не видно.
15
Ты видишь, как разлука высекла, подняв свое кресало,
В моей груди огонь отчаянья, чтоб сердце запылало.
Судьба решила, чтоб немедленно расстались мы с тобою, —
А где любовь такая сыщется, чтоб спорила с судьбою?
Должна ты запастись терпеньем: судьба и камни ранит,
И с прахом кряжи гор сравняются, когда беда нагрянет.
Дождем недаром плачет облако, судьбы услышав грозы;
Его своим печальным спутником мои избрали слезы!
Клянусь, тебя не позабуду я, пока восточный ветер
Несет прохладу мне и голуби воркуют на рассвете,
Пока мне куропатки горные дарят слова ночные,
Пока – зари багряной вестники – кричат ослы степные,
Пока на небе звезды мирные справляют новоселье,
Пока голубка стонет юная в нарядном ожерелье,
Пока для мира солнце доброе восходит на востоке,
Пока шумят ключей живительных и родников истоки,
Пока на землю опускается полночный мрак угрюмый, —
Пребудешь ты моим дыханием, желанием и думой!
Пока детей родят верблюдицы, пока проворны кони,
Пока морские волны пенятся на необъятном лоне,
Пока несут на седлах всадников верблюдицы в пустыне,
Пока изгнанники о родине мечтают на чужбине, —
Тебя, подруга, не забуду я, хоть места нет надежде…
А ты-то обо мне тоскуешь ли и думаешь, как прежде?
Рыдает голубь о возлюбленной, но обретет другую.
Так почему же я так мучаюсь, так о тебе тоскую?
Тебя, о Лейла, не забуду я, пока кружусь в скитанье,
Пока в пустыне блещет марева обманное блистанье.
Какую принесет бессонницу мне ночь в безлюдном поле,
Пока заря не вспыхнет новая для новой, трудной воли?
Безжалостной судьбою загнанный, такой скачу тропою,
Где не найду я утешения, а конь мой – водопоя.
16
Сказал я спутникам, когда разжечь костер хотели дружно:
«Возьмите у меня огонь! От холода спастись вам нужно?
Смотрите – у меня в груди пылает пламя преисподней.
Оно – лишь Лейлу назову – взовьется жарче и свободней!».
Они спросили: «Где вода? Как быть коням, верблюдам, людям?».
А я ответил: «Из реки немало ведер мы добудем».
Они спросили: «Где река?». А я: «Не лучше ль два колодца?
Смотрите: влага чистых слез из глаз моих все время льется!».
Они спросили: «Отчего?». А я ответил им: «От страсти».
Они: «Позор тебе!» А я: «О нет, – мой свет, мое несчастье!
Поймите: Лейла – светоч мой, моя печаль, моя отрада,
Как только Лейлы вспыхнет лик, – мне солнца и луны не надо.
Одно лишь горе у меня, один недуг неисцелимый:
Тоска во взоре у меня, когда не вижу я любимой!
О, как она нежна! Когда сравню с луною лик прелестный,
Поймите, что она милей своей соперницы небесной,
Затем, что черные, как ночь, душисты косы у подруги,
И два колышутся бедра, и гибок стан ее упругий.
Она легка, тонка, стройна и белозуба, белокожа,
И, крепконогая, она на розу свежую похожа.
Благоуханию ее завидуют, наверно, весны,
Блестят жемчужины зубов и лепестками рдеют десны…»
Спросили: «Ты сошел с ума?». А я: «Меня околдовали.
Кружусь я по лицу земли, от стойбищ я бегу подале.
Успокоитель, – обо мне забыл, как видно, ангел смерти,
Я больше не могу терпеть и жить не в силах я, поверьте!».
С густо-зеленого ствола, в конце ночного разговора,
Голубка прокричала мне, что с милой разлучусь я скоро.
Голубка на ветвях поет, а под глубокими корнями
Безгрешной чистоты родник бежит, беседуя с камнями.
Есть у голубки молодой монисто яркое на шее,
Черна у клюва, на груди полоска тонкая чернее.
Поет голубка о любви, не зная, что огнем созвучий
Она меня сжигает вновь, сожженного любовью жгучей!
Я вспомнил Лейлу, услыхав голубки этой песнопенье.
«Вернись!» – так к Лейле я воззвал в отчаянье и в нетерпенье.
Забилось сердце у меня, когда она ушла отселе:
Так бьются ворона крыла, когда взлетает он без цели.
Я с ней простился навсегда, в огонь мое низверглось тело:
Разлука с нею – это зло, и злу такому нет предела!
Когда в последний раз пришли ее сородичей верблюды
На водопой, а я смотрел, в траве скрываясь у запруды, —
Змеиной крови я испил, смертельным ядом был отравлен,
Разлукою раздавлен был, несчастной страстью окровавлен!
Из лука заблужденья вдруг судьба в меня метнула стрелы.
Они пронзили сердце мне, и вот я гасну, ослабелый,
Отравленные две стрелы в меня вонзились, и со мною
Навеки распростилась та, что любит косы красить хною.
А я взываю: «О, позволь тебя любить, как не любили!
Уже скончался я, но кто направится к моей могиле?
О, если, Лейла, ты – вода, тогда ты облачная влага,
А если, Лейла, ты – мой сон, тогда ты мне даруешь благо,
А если ты – степная ночь, тогда ты – ночь желанной встречи,
А если, Лейла, ты – звезда, тогда сияй мне издалече!
Да ниспошлет тебе аллах свою защиту и охрану.
А я до Страшного суда, тобой убитый, не воспряну».
17
Если на мою могилу не прольются слезы милой,
То моя могила будет самой нищею могилой.
Если я утешусь, если обрету успокоенье, —
Успокоюсь не от счастья, а от горечи постылой.
Если Лейлу я забуду, если буду стойким, сильным —
Назовут ли бедность духа люди стойкостью и силой?
18
Клянусь я тем, кто дал тебе власть надо мной и силу,
Тем, кто решил, чтоб я познал бессилье, униженье,
Тем, кто в моей любви к тебе собрал всю страсть вселенной
И в сердце мне вложил, изгнав обман и обольщенье, —
Любовь живет во мне одном, сердца других покинув,
Когда умру – умрет любовь, со мной найдя забвенье.
У ночи, Лейла, ты спроси, – могу ль заснуть я ночью?
Спроси у ложа, нахожу ль на нем успокоенье?
19
К опустевшей стоянке опять привели тебя ноги.
Миновало два года, и снова стоишь ты в тревоге.
Вспоминаешь с волненьем, как были навьючены вьюки,
И разжег в твоем сердце огонь черный ворон разлуки.
Как на шайку воров, как вожак антилопьего стада,
Ворон клюв свой раскрыл и кричал, что расстаться нам надо.
Ты сказал ему: «Прочь улетай, весть твоя запоздала.
Я узнал без тебя, что разлука с любимой настала.
Понял я до того, как со мной опустился ты рядом,
Что за весть у тебя, – так умри же отравленный ядом!
Иль тебе не понять, что бранить я подругу не смею,
Что другой мне не надо, что счастье мое – только с нею?
Улетай, чтоб не видеть, как я умираю от боли,
Как я ранен, как слезы струятся из глаз поневоле!»
Племя двинулось в путь, опустели жилища кочевья,
И пески устремились к холмам, засыпая деревья.
С другом друг расстается – и дружба сменилась разладом.
Разделил и влюбленных разлучник пугающим взглядом.
Сколько раз я встречался на этой стоянке с любимой —
Не слыхал о разлуке, ужасной и непоправимой.
Но в то утро почувствовал я, будто смерть у порога,
Будто пить я хочу, но отрезана к речке дорога,
У подруги прошу я воды бытия из кувшина,
Но я слышу отказ; в горле жажда, а в сердце – кручина…
20
«Ты найдешь ли, упрямое сердце, свой правильный путь?
Образумься, опомнись, красавицу эту забудь.
Посмотри: кто любил, от любви отказался давно,
Только ты, как и прежде, неверной надежды полно».
Мне ответило сердце мое: «Ни к чему руготня.
Не меня ты брани, не меня упрекай, не меня,
Упрекай свои очи, – опомниться их приневоль,
Ибо сердце они обрекли на тягчайшую боль.
Кто подруги другой возжелал, тот от века презрен!».
Я воскликнул: «Храни тебя бог от подобных измен!».
А подруге сказал я: «Путем не иду я кривым,
Целомудренный, верен обетам и клятвам своим.
За собою не знаю вины. Если знаешь мой грех,
То пойми, что прощенье – деяний достойнее всех.
Если хочешь – меня ненавидь, если хочешь – убей,
Ибо ты справедливее самых высоких судей.
Долго дни мои трудные длятся, мне в тягость они,
А бессонные ночи еще тяжелее, чем дни…
На голодного волка походишь ты, Лейла, теперь,
Он увидел ягненка и крикнул, рассерженный зверь:
„Ты зачем поносил меня, подлый, у всех на виду?“
Тот спросил: „Но когда?“. Волк ответствовал: „В прошлом году“.
А ягненок: „Обман! Я лишь этого года приплод!
Ешь меня, но пусть пища на пользу тебе не пойдет!..“.
Лейла, Лейла, иль ты – птицелов? Убивает он птиц,
А в душе его жалость к бедняжкам не знает границ.
Не смотри на глаза и на слезы, что льются с ресниц,
А на руки смотри, задушившие маленьких птиц».
21
Целую след любимой на земле.
Безумец он! – толкуют обо мне.
Целую землю – глину и песок, —
Где разглядел следы любимых ног.
Целую землю – уголок следа.
Безумец я, не ведаю стыда.
Живу в пустыне, гибну от любви.
Лишь звери – собеседники мои.
22
Любовь меня поймала, увела
Как пленника, что заарканен с хода,
Туда, где нет ни крова, ни тепла,
Ни племени, ни стойбища, ни рода.
Ни тьмы, ни света, ни добра, ни зла
И мукам нет конца и нет исхода.
Горю, сгораю – медленно, дотла.
Люблю – и все безумней год от года!
23
Всевышний, падаю во прах перед каабой в Мекке.
В твоей нуждаюсь доброте, защите и опеке.
Ты правишь небом. Ты царишь над всей земною твердью.
Надеюсь только на тебя, взываю к милосердью.
Любимую не отнимай, яви такую милость!
Ведь без нее душа пуста, вселенная затмилась.
Она – единый мой удел, не ведаю иного.
Твой раб любовью заболел – не исцеляй больного!
Ты можешь все. Не отступай от воли неизменной.
Любимую не отнимай. Она – твой дар бесценный.
Она – моих бессонных мук причина и основа.
Она – безумный мой недуг. Не исцеляй больного!
Я все забуду – племя, род, заветный дым кочевья.
Любимую не отнимай, не требуй отреченья.
Ты сам, всесильный, повелел любить, не зная меры.
Зачем от верного слуги ты требуешь измены?
Ты пожелаешь – я уйду от искушений милых,
Но от любимой даже здесь отречься я не в силах.
В любви не каюсь даже здесь, безумец, грешник слабый,
В священном городе твоем, в пыли перед каабой.
24
В мире нездешнем, в раю, где повсюду покой,
Души влюбленных томятся ли здешней тоской?
Прах – наша плоть, но дано ли нетленному духу
Вечно пылая, терзаться любовью людской?
Очи усопших не плачут, но в мире нездешнем
Слезы влюбленных – бессмертные! – льются рекой!
25
Я болен любовью, моя неизбывна тоска.
Беда моя – рядом, любимая так далека,
Теряю надежду, живу, привыкая к разлуке.
Молчит моя милая, видит во мне чужака.
Я словно птенец, угодивший нечаянно в сети.
В плену его держит незримая злая рука.
Как будто играет дитя, но для пойманной птицы
Игра обернется погибелью наверняка.
На волю бы выйти! Да стоит ли – право, не знаю.
Ведь сердце приковано к милой, а цепь коротка.
26
Ворон, что ты пророчишь? С любимой разлуку?
Сам попробуй, как я, испытай эту муку.
Что еще ты сулишь одинокому, ворон?
Бедняку угрожаешь каким приговором?
Ты не каркай, не трать понапрасну усилья —
Потеряешь ты голос и перья, и крылья.
Будешь ты, как и я, истомленный недугом,
Жить один, без надежды, покинутый другом!
27
Что я делаю, безумец,
в этот вечер темно-синий?
На песке тебя рисую
и беседую с пустыней.
Крики ворона услышу —
наземь падаю в тоске.
Ветер горя заметает
мой рисунок на песке.
28
Люблю – в пустыне жажда слабей моей любви.
Люблю – иссякли слезы бессонные мои.
Люблю – молиться бросил, безумьем обуян.
Люблю – не вспоминаю каабу и коран.
29
Исполни лишь одно желанье мое – иного нет:
Спаси любимую от горя, убереги от бед.
Мне блага большего не надо, ты щедро одарил
Меня любовью – в ней отрада, спасение и свет.
Пока живу – люблю и верю, надеюсь и терплю, —
Служу единственному богу, храню его завет…
30
Только любящий достоин человеком называться.
Кто живет, любви не зная, совершает святотатство.
Мне любимая сказала: «Ничего не пожалею,
Лишь бы милого увидеть, лишь бы мне тебя дождаться».
Только любящим завидуй – им на долю выпадает
Невозможное блаженство, неразменное богатство.








