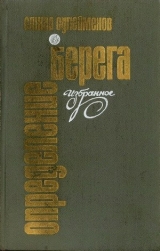
Текст книги "Определение берега"
Автор книги: Олжас Сулейменов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
1970-1973
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО АКЫНА СМЕТА(19 век)
Смет украл красивую молодую жену акына Азербая. Говорят, что до этого между ними была любовь. Их догнали. Азербай должен был решить их судьбу.
Спеленатого арканом Смета сбросили у двери юрты. Он с трудом поднялся на ноги. Ухмыляющийся Алибек в двух местах рванул ножом, и аркан кольцами упал на землю. Смет поглядел вниз на аркан и отшвырнул ногой.
Мокрые от пота кони, всхрапывая, выискивали остатки травы возле юрты.
Смет, потирая затекшие руки, глядел на черный прямоугольник двери. И тихо пел последние слова:
«…Что гляделся в озеро
рябое
от ветров холодных,—
не жалею.
Что не избегал любой работы,
засыпал голодным,—
не жалею.
Что делился с добрым
полной чашей,
а с недобрым —
чаще,
не жалею.
Что утрами умывался сажей,
а ночами – снегом,
не жалею.
Масла мне в дорогу не сбивала
тихая подруга,
не жалею.
Что мечта о друге не сбывалась
долгими ночами,
не жалею.
Не качал я сына на колене,
не ласкал ладонью,
не жалею.
Говорят, что счастье мчит оленем,
не догнать на чалом,
не жалею.
У любой скалы меня встречала
смерть кривым кинжалом,
не жалею.
Об одном я только пожалею,
что судьбу не повторить сначала.
Об одном я только пожалею,
что уйду, как ветерок по лицам,
что уже ничем не заболею,
что уже тоске не повториться.
Об одном я только пожалею,
сном последним в травах засыпая,
что не знал я никого милее
женщины
поэта Азербая».
Он пропел это одним дыханием, не напрягаясь и не торопясь. Его плечи и голова еще отчетливо печатались на мрачнеющем небе.
Днем он был некрасив, его образу не хватало голоса.
И я вспомнил, что во всех встречах с ним мы видели, но ни разу не слышали его. Резко отошел полог, вышел маленький седой Азербай.
– Алибек! – позвал он сына.
– Я здесь, отец.
– Дай двух коней, пусть уходят.
– Отец!.. " …
– Пусть уходят с миром.
Из-за спины Азербая выскользнула, закрывая лицо шалью, Баян. Смет схватил узду своего чалого, подсадил Баян. Поймал коня Алибека, вскочил и, ударив каблуками, они ушли в черную степь.
– Отец!– Алибек яростно плакал, опустившись на корточки.
– Тогда слушай, сын. И вы слушайте. Мужчина Смет опозорил меня. Но поэт Смет продолжит славу Азербая. Мясо готово?
– Уже поспело, ата! – звонко откликнулась молодка в белом жаулыке.
– Кто голоден, пусть войдет,– и великий старик скрылся в юрте…
ВНАЧАЛЕ БЕ СЛОВО…АЗ, БУКИ, ВЕДИ…
На заборе начертано—
СНЕГ.
Тот же почерк
и тот же мел,
что вчера выдавать умел
не такое!
Вдруг просто —
СНЕГ.
Покоробил текст новизной,
вырождением простоты,
не повеяло ни весной,
ни зимой,
нет, писал не ты.
Это творческое бессилье!
Вкус творца —
в соблюдении стиля,
есть бумага,
а есть заплот —
слова искреннего оплот!
…Был горячий июльский день,
арычок не давал прохлады,
шелковицы узорная тень —
драгоценней старинного клада.
А директор бюро прогнозов,
человек пожилой,
курносый,
отвечая на наши вопросы,
трубно кашляя,
обещал:
«В третьем квартале —
дождь и росы,
а в четвертом
два-три озноба,
дрожь и насморки
по ночам».
Вдруг
непонятое свершилось —
СНЕГ упал на бока инжира,
он ложился нетающим жиром
на горячую жижу —
СНЕГ.
А директор кричал:
«Ей-богу!
Я такого июля не помню,
в два столетия раз бывает,
а точней —
один раз в эпоху!»
Нас не балуют перемены.
Я обычаям изменю —
одобряю проект пельменной,
струганина и спирт
в меню!
В чайхане
не играют в нарды,
арбы – в сторону,
ишаки
на постромках волочат нарты,
песьи вывалив языки.
Рады люди —
и млад, и старый:
мы так жаждали перемен.
…СНЕГ попадал,
устал,
растаял.
Вроде кончился эксперимент.
СНЕГ исчез,
затоптанный нами.
Но теперь,
разрешая спор,
мы божимся забором.
жарко молимся
на забор.
Глаголь: Добро есть. Живете зело.
Земля иже и дервь како люди мыслете.
Наш он – покой. Рцы слово твердо.
Кирилл
CREDO
Чем в куче скучать —
в одиночку сучить
нить живую,
свежий свет повстречать,
Справа – Киев,
Одесса – ошую.
На росстанях торчать,
на омегах читать
черты – резы.
Добрый воин иль тать
о гранит потупил свои лезы?
А направо пойдешь —
воскресенье найдешь
и свободу.
А налево пойдешь —
фарисейство найдешь и субботу.
Если прямо пойдешь —
ничего не найдешь,
это, правда.
Почесался Кирилл,
повздыхал, покурил
и обрадовал.
Прямо
в небо взлетел,
и растаял, как дым,
стал угодником
и причислен к святым
в назиданье земным
греховодникам.
Те туда и сюда!
Обошли круглый свет,
снова встретились.
Кто-то прямо ушел,
где-то бродит еще,
это – третий.
То ли зрением слаб,
то ли вправду велик
этот мирик,
погрязая в грехах,
обрастая стыдом,
бродит лирик.
Не вернуться ему,
а спроси – почему?
Не отвечу.
Если прямо пойду,
ничего не найду,
может,
третьего встречу.
В лето 6488. И нача княжити Володимир в Киеве единъ и постави кумиры на холму: Перуна древена, а главоу ему серебрену, а усъ злат и иныя многы кумиры. И жряху им, яко богом, и оскверняху всю землю Рускую требами своими скверными.
РЕПЛИКА НЕХРИСТЯ И – БО, ИДЕАЛИСТА
Пахарь
Крики, кличи, не битва —
а брань,
ругань рук, визг окованных плеч,
я орал мечом твою бронь,
брови вились, как стая вран,
чтоб на глаз, как на падло,
лечь.
Вой над полем
я пропадал;
он броню мою прободал,
исклевал меня, изрубал,
словно ложкой, клинком
вынимая
плоть мою из железных рубах.
Его боги сильнее, рыбак…
Рыбак
Бурый ветер людей взволновал,
вижу, ходят они вал на вал,
захватило меня, понесло,
щит – ладья,
и копье – весло.
Сам в кольчуге, как рыба в сети,
Князь Владимир, дай чудо!..
Прости…
ПЛАЧ КРАСНОЙ ГЛЕБОВНЫ
I
– Сеют в землю тело,
веют дух от плоти,
увязаю в плаче,
в туге, как в болоте.
Уцелей, мой пахарь,
возвращайся с битвы,
не ходи на поле
без моей молитвы.
А кому молиться?
Тихо в чистом поле,
подает убийца
чашу истой боли.
…Волны, ходят кругом,
я, как берег дальний,
поднимаю руку —
доплыви, рыбарь мой,
проплыви проливы,
окунись в ладони,
будешь ты счастливым,
если не утонешь.
Но круги на волнах
расцвели багровы,
опустели челны,
рвут тебя баграми.
II
Все мне было мало,
мир не мной загадан,
мое солнце пало,
мнут его закаты.
Скачут угров рати,
Украину крадут,
печенегов братья
забирают грады,
кормят коней диких
бологом отборным,
почернели лики
на стенах соборных,
плачет полонянка,
мнет железно тело,
не такого мужа
гладить бы хотела,
не такого воя
забавлять собою,
не такую силу
у небес просила.
На кошме на белой
пусть меня позорят,
на кошме на белой —
красные узоры.
Побелеют груди
лик законопатит,
породить урода
приползу на паперть.
Грех ты мой нелюбый,
ни ночной, ни денный,
сын ты мой угрюмый,
отроче мой темный.
Ты мне не явился,
я – тебя искала,
ты нам народился,
как трава из камня.
Будешь мерить время
роком и годиной,
мир измеришь долом,
а тоску кручиной,
а веселье будешь
измерять ендовой,
будешь мерить долю
не верстой —
аршином.
Пахарем – по праху!
Рыбаком – по грязи,
воином – по страху,
вороном – по глазу,
будут твоей памятью
и кошма и паперть,
будет твоей руганью —
бого-
матерь.
Раздамся – всем!
Раздамся вширь!
Я земь – паши!
Я пашня – сей!
Всю распаши!
Пожаром ржи
до края ветра распахнусь.
Вселенна – рыжая, как Русь,
и ни полоски
для межи…
III
…Облетели стязи,
рухнули хоругви,
и тоска на князя
наложила руки.
Право славы
Владимир Святой (поначалу – Великий)
для древней Руси выбирал из религий
одну —
кто же богом нечаянным будет —
Яхве, Аллах, Иисус или Будда?
– Много богов у меня в пантеоне,
Волос – скотов и стихов покровитель.
Хорс огнеликий, славный Даждь-бог,
ветрами правит унылый Стри-бог,
много их, всех не упомнишь, пожалуй.
Чем на Руси заправляет Сварог?
Мокош какой-то лохматый и ржавый,
Тор никудышный, бессовестный Один,
Гот – новобранный,
Перун только годен.
Требы ему совершать мы согласны,
жертвы приносим, хорошие, дня нет,
чтоб не кормили девицею красной.
Но на Спасителя он не потянет…
Хазарин поднялся, под мышкою – Тора,
и рек: «Удивляйся, все то, что из Торы
я прочитаю, и будет историей,
а все остальное – поганьски которы.
Забудем раздоры, Изиду, Иштору,
я предскажу – это станет не дорого,
будут – москвы, петрограды, рязани,
если славяне пройдут обрезанье.
Будут рабы у тебя, а свободу
ты им даруешь только в субботу.
Пить эту самую, ты понимаешь,
непозволительно. Пей только воду.»
– Э-э,– покачав головою седой,
так отвечает Владимир святой:
– Питие на Руси есть веселие.
. . . . . . . . . . . . .
– Верно!– вскричал, выделяясь чалмой,
тощий булгарин.—
Разве водой?..
Теплой бузой услаждают желудок
люди аллаха.
Это же люди!..
Ты посмотри на меня—
я ль не весел!
В этом коране – тысяча песен,
то, что тебе обещал иудей, -
не для людей. -
Разве суббота – это свобода?!
Сколько перстов у ладони?
Шесть?
Пятница – день твоего народа!
А пятниц в неделе не перечесть!
Четыре жены доведут до Адема[39]39
А д е м – рай.
[Закрыть].
Молись, достигай наслажденьем высот,
четыре красавицы!..
Нравится тема?
Четыре жены!..
– У меня их семьсот…
IV
А черный кушан ничего не сказал,
он глотку не драл,
не вытаскивал чтива,
он идола медного показал —
танцует на тельце младенца
Шива.
Что можно душой принять—
то приятно,
то неприятно, что непонятно.
Зло – под ногами,
пляшет Добро.
Это не ново и не старо.
Дьяволы Запада и Востока,
демоны Юга, Севера звери:
стою перед вами —
во что же мне верить,
если Добро мое так жестоко?
Хватаясь за небо, за клочья сини,
гляньте под ноги —
топчете Сына.
Под ноги! Топчете душу живу
и не оправдывайтесь,
вы – Шива!
Будда, которого не принимаю
(я же невежда, иначе не выражу),
я твоих жестов не понимаю,
приподними свою пятку,
я вылезу.
Будя.
Владимир Святой опрокинул ендову
синего меда. Семь ендов.
«Не охмурите, злыдни; я – добрый!..»
Рвал на груди кольчугу. Готов.
Но христианин не торопился,
вращал византиец очами в углу.
Старый Владимир в доску упился,
глухо упился, пошел ко дну.
Встал византиец, погладил плеча —
левое, правое. Лоб, живот.
Прикосновением леча,
пьяного князя к дощине ведет.
Эту дощину на черных ладьях
морем Понтийским на княжий двор
через пороги не зря припер
трезвый апостол – софийский дьяк.
Старый Владимир глаза протер,
вперился в доску, дик и кудлат,
видит: смола закипает в котлах,
торой растапливают костер.
Свитки корана в огне ревут,
голые злыдни хазарина рвут
и басурманина!
И Его!..
Старого, пьяного.
– Что это?!
– Суд.
…Вот уже десять веков подряд
книги монахов так говорят:
Грешник вскричал, не владея собой,
жен раскидал и построил собор,
в Днепр хлыстами Киев загнал,
сбросил Перуна,
волхвов загнул.
Стал причащаться только водой
князь по словутному реклу —
Святой[40]40
В лето 6496 Владимиръ повеле креститися.
[Закрыть].
РАССУЖДЕНИЕ КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК О КРАСОТЕ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ КОСТЕЛА
Не верь летописцу:
солгал монах.
Не той доской
обращен монарх.
Вовсе не адовым гореньем – жженьем
пугал его византийский сексот,
ведь понимал, что князь – многоженец,
в его гареме —
семьсот,
а кто любит плоть,
тот и духом крепок,
не убоится картин свирепых.
Учел византиец промашки своих конкурентов:
Муслим обещал загробную ренту
за воздержание —
райских пери.
Сытому мясом – обещать репу!
Лишней женщиной не склонить к вере
такого парня.
Еще нелепей
манить его идолом,
танцующим на младенце,
ибо
напомнилось прошлое,
от которого никуда не деться —
топча потомства князей-соперников,
Владимир Гулящий стал
Владимиром Первым.
Не хватало, чтобы в Киеве
в каждом углу
торчало по бронзовому топтуну-кумиру.
Владимир Жестокий был не глуп,
чтоб допустить такую сатиру.
Но все же реликвия —
формула всякой религии,
какой же старинной вещью
стронуть Владимира Вещего?
Чем тускнее от времени краски,
тем прекрасней они для рассудка,
мутнеют от лет очи,
и удлиняются ночи в сутках,
а ночи у стариков очень чуткие —
то печень шалит,
то почки,
а в промежутках
память являет время,
когда был молод,—
не лежало на веждах власти бремя,
члены не сковывал годов холод.
Не веришь? – завидев ее, пылал до озноба,
она неприступной была (не веришь?),
дева – зазноба.
Потом, как потоп,
толпы тел
прокатились волнами огня
по его постели.
Как тени по стенам,
но те ли?
Владимир Седой холодел
в неверье.
Не огня бояться адового,
холода страшиться надо нам,
невежды.
Чем всегда занималось искусство?
Являло нам форму тайного чувства.
Искусство – это способ выражения
отчаянной надежды
Возрождения.
Не судом стращай,
но стыдом обращай,
возвышая, прощай,
унижая, прельщай.
…В нездешние одежды
закутана она,
последняя надежда,
вселикая жена.
Святая Мария!
Седая Мария!
Жар до озноба
(не малярия!)
Дразнит, манит,
глядит с холста
бесстрастная,
глазастая
красота.
Валишься в ноги мечте,
постылый,
кусаешь в бессилии руки,
не стыдно.
«Она способна зачать от духа,
эта древняя девочка, '
эта старуха».
Дева Мария!
Последняя жена,
крест —
на гареме:
мера нужна.
Знак отрицания – символ меры,
с него начинают
революционеры.
Перечеркнуть вгорячах
с плеча
обычаи «бити», «лгати», «красти».
Крест – это огненная печать,
клеймо на крупе блуда
и на челе власти.
Если ты унижал детей,
подлой силой спрягал людей,
если сам уверился в том —
осени и себя
крестом.
Крест на грудь свою положить,
значит
жизни себя лишить.
Страшный суд —
он в тебе самом,
ежли честен ты
и с умом.
Страшный суд – не огонь,
не дым,
суть страшна—
поседенье ликом.
Был гулящим, жестоким, седым,
все отринул и стал
Великим.
Так Владимир сказал: «Прости…»
Лоб и сердце перекрестил.
Не забылся суровый жест,
подражатели были,
есть;
знак оделся в чугун и жесть,
позолотой покрылся крест,
и, увлекшись трудом позлащенья,
позабыли креста значенье.
Крест над храмом
и над горою,
крест – наградой
на груди героя,
на невинность, на совесть,
честь,
на само отрицанье —
крест.
Зло выходит из-под креста,
как убийца из-под куста,
покрывая себя знаменьем
непонятного назначенья.
БОЛЕ
Согласен,
к вере привлекают красотой —
витражами, майоликой,
купола высотой,
минаретами голубой,
несмываемой акварели.
Священные войны не принесли мусульманству
столько побед,
сколько дала им одна несравненная
Айя-София.
Мечу поклоняют голову,
Айя-Софии душу,
жестокости уступают,
покоряются лишь красоте.
Мечеть, внушающая страх,
и меч, вводящий в восхищенье, ах—
вот идеал воинствующей веры.
Гармония мечети и меча,
объединив Светило и Очаг,
мирит небесные, земные сферы.
Согласен.
Но символы культа устаревают,
их давно бы – под пресс.
Застревают в вещах,
в сознании застревают!
Разве не бесят
вознесенные в небеси Рукоять—
крест
и Лезвие кривое – полумесяц?
Век Атома, а символы религий
похожи на реликты
века Адама.
Я сравниваю абрис минарета
с фигурой баллистической ракеты,
в ней – сочетанье красоты и мощи,
вот это – знак,
а не святые мощи.
Ракета – храм,
в ней – круглолицый бог,
набитый мышцами с хорошей кровью.
Сегодня богом может стать любой —
как говорится, было бы здоровье.
А эти боги бродят по луне,
по лику,
как мурашки по спине.
Светило тяжкими шагами месят.
Увы, кафиры топчут полумесяц!
Мы поклонялись символам отчаянья
и подчинялись знакам отрицанья,
молились (лживо) духам изможденным,
ночами (искренне) стучались к женам.
Валились в ноги хрипом и напевом
творениям живым,
жеманным евам.
Мы называли женщину иисусом,
аллахом, буддой —
термином искусства.
Станцует жрец – поверишь в пляску эту
и будешь поклоняться Пируэту.
Поверили, что кружится Земля,
абстракциями глаз обезоружили,
искусственную правоту суля,
естественную истину порушили.
На голове ученого – парша,
над лысиной ученого – праща;
вращается в петле-орбите шар,
и под давленьем центробежной силы
с земли слетает волшебство.
Прощай,
великое невежество травы,
талантливая темнота снежинок,
прекрасное неведенье тропы,
минующей округлые вершины.
Невежественны мрачные леса,
наивны наши войлочные вежи,
безграмотны виденья, чудеса.
(Ученые изобрели невежду).
Где верх, где низ в космической дали?
Эй, невесомый бог, определи!
Печатный вал истории – в разнос!
Где прошлого страница?
Где анонс?
Апостол с нимбом?
Летчик в гермошлеме? —
Шумерский снимок
с предисловьем Лема?
Незнание – вот гениальный дар,
тьма обеспечивает небу звездность,
я сохраню в себе не бога —
даль,
мир, упирающийся в неизвестность.
В убитом дереве
бушует лес берез,
его листвой шумит
убитый ветер,
и чащи полумрак от бересты белес —
так срез осины
в полуночи светел.
Не отвращает идол простотой,
звездой смуглей на ложе, луноликая.
Всей подлостью земной
и высотой
я верую,
любовь – моя религия!
Пройдут, как пыль,
века, эпохи, эры,
но эта вера будет бесконечна,
пока опасен силуэт Венеры!
(Вот старики, прищурясь от махры,
глядят ей вслед и думают: «Конечно,
она естественна и человечна,
в особенности —
млечные бугры…»)
И все же не ходите по костелам,
где солнце сквозь узорчатые стекла
стекает по худой груди Христа,
и – тишина,
как в пагоде вечерней,
и – высота,
как в утренней мечети!
Лишает веры эта красота.
«На озерах Кургальджино…»
I
В феврале (да, кажется, в феврале) пустыни
превращаются в красное море. Маки.
В марте пески покрываются травами,
даже верблюжья колючка еще не колючка —
мягка, зелена, и мясистые листья росой
на изломах исходят.
В мае зной выжигает траву до песка,
и виднее овечий помет в раскаленной
пыли.
И лишь зеленый чай
на донышке пиал
напоминает мне,
чтоб я не вспоминал,
и черная вода
на дне сухих колодцев,
напоминает мне,
что мир и желт
и ал.
II
Парит коричневый орел,
приветливо качая клювом.
Я возвращен, я приобрел
вновь мир, который меня любит.
Оцепенев, глядит змея,
стесняется.
Здорово, поле!
Любой тушканчик за меня
и жизнь готов отдать
и боле.
Нет лишних в драме,
все – на сцене,
и знает доже воробей,
мир без него неполноценен.
Поддакивает скарабей.
Он ходит задом наперед,
мой жук навозный,
его любят,
его никто не упрекнет,
случайно разве что
наступят.
Спокойно здесь и без вина,
без отрицания былого.
Встречаются, как слух и слово,
сливаясь в вечность, времена.
В песках поспешности закон
увековечен черепами,
здесь понимаешь:
прав Зенон —
мы не догоним черепахи.
И потому живи и спи,
не торопи заботой вечность,
прямая – это только Пи,
направленная в бесконечность.
И не пытайся измерять
круг
суммой абсолютных чисел,
и не пытайся все понять,
иначе все теряет смысл.
Слезами лет орошены,
овеяны столетий пылью,
мы плохо выучены былью,
легендами развращены.
А за Отаром – поезда,
один из них – мое отчаянье,
не дай мне. Боле,
опоздать,
закономерно
и случайно.
Ну дай мне, Боле,
все понять,
а если это невозможно,
и если это в вашей воле,
простите,
Боле.
«Опаздывают поезда…»
На озерах Кургальджино
августовская кутерьма —
солнце Африки зажжено
тайным образом
в птичьих умах.
Улетят, не удержит
ничто;
дав круги над родным гнездом,
откочуют в далекий край
вереницы гусиных стай.
Гуси белые,
бедные гуси,
не отпустим вас,
не отпустят
дорогие поля и кущи
паутинные петли грусти.
Не отпустит, задержит
родина,
возвратит на озера
Дробью.
Осень
ветви ломает в саду.
Гусь расстрелянный бьется
в пруду.
Не ударили в телеграммы,
ведь потеря не велика —
не фламинго, не пеликан,
просто гусь
на три килограмма,
«Ну, убили, и что такого?
Ну, протянешь в стихах,
и что?
Ведь единственного —
не сто,
и стихи ведь не протоколы.
Опиши добрым словом
«родинки»—
его раны —
следы дробин.
Это озеро – его родину».
К черту вотчину,
где убит!
Осень.
Снег опускается первый —
его белые страшные перья.
Он весну приносил,
упросим:
«Улетай».
Не отпустит осень.
«Это кажется мне…»
Опаздывают поезда.
Опасен семафор зеленый,
упала серая звезда —
опаздывают самолеты.
Прищурил бровью карий свет
мыслитель доброго столетья —
всего на расстоянье плети
опаздывает твой совет.
Тень будущего на портрет
навалится,
ломая краски,
любимая,
на сколько лет
опаздывают твои ласки!
По клавишам и – закричат!
На выручку быстрее Листа
из эпоса джигиты мчат,
опаздывая
лет на триста…
Андрею Вознесенскому
«Что такое лишние?..»
Это кажется мне —
Махамбет, как стрела
в китайской стене,
головою – в кирпич,
а штаны с бахромой —
оперенье;
грозный мой Махамбет,
ты давно —
персонаж в оперетте,
я тебе не завидовал,
не позавидуй мне.
Ты не пытайся понять
нашу странную речь,
вылезай из проклятой стены:
уже сделана брешь,
тебе будет не просто —
жить в царствии прозы
поэзией,
исправляя метафорой мир,
как Европу —
Азией.
Только в сравнении с прошлым
живет настоящее,
твой угрюмый верблюд
мне напомнил третичного ящура.
Есть бревно баобаба —
потому существует нить,
нет материи вовсе,
если не с чем ее сравнить.
Андрей! Мы – кочевники,
нас разделяют пространства
культур и эпох,
мы кочуем по разным
маршрутам,
как бог и религия.
Я хочу испытать
своим знанием
страсти великие,
о которых он, гордый номад,
и ведать не мог.
Я пишу по-этрусски
о будущем
ты расшифруй
голоса и значенья
на камне исполненных рун,
невегласам ученым доверь
истолкованный бред,
да мудреют они,
узнавая познания вред.
Я брожу по степям, уставая;
как указательный палец —
направление пути
указуют железным дрюком.
Это кажется мне —
Аз и Я – Азия,
ошибаюсь.
Мы кочуем навстречу себе,
узнаваясь
в другом.
Что такое лишние?
Попробуйте
постоять на кромке
горной пропасти.
Каждому из нас
дано быть ближним,
не оценишь,
если не был лишним.
Каждому из нас придется это
испытать,
на то мы и поэты,
чтобы мерить мир единой мерой —
образом своим,
как время – эрой.
(Час или минуту —
только эрой,
словно правду слов ничтожных —
верой!)
Мы бываем часто чудаками.
«Ах!» Сказать не просто.
Вы посмейтесь —
человек ударился о камень,
чтоб ногой проверить междометье.
Право восклицаний,
право слога
заслужить – вот исполненье долга
человеческого. Не спеши,
пусть смеется тот,
кто сам смешит.
Право жить. А надо ль это право?
Моя мама – благородней правды.
Кто нас наделяет правом жить?
Те, кто слева,
спереди,
иль справа?
Удивляюсь и сопротивляюсь
каждому, кто разрешает мне
пить из родника
и видеть стаю
дальних птиц в прозрачной вышине…








