Определение берега
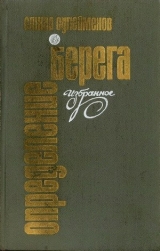
Текст книги "Определение берега"
Автор книги: Олжас Сулейменов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
«Волхов, волхвы…»
Когда расцветет, сверкая,
Звезда Сумбуле,
Косяки кобылиц
Отдадут свое белое молоко,
Тонкодлинные гуси над степью моей
пролетят,
И печально-печально в ночи прокричат
Мои бедные, белые гуси.
Это значит – трава постарела
на пастбищах.
Поднимайся, кипчак…
Пусть умрет у меня на руках,
Сверкая, звезда Сумбуле.
ПЕСНЯ КУМАНА[10]10
Волхов,
Волхвы,
Варяжские конунги[9]9
К о н у н г и – вожди варягов.
[Закрыть] —
Волоком лодки,
Серые локоны,
Русые бороды воеводские.
Всполохи колоколов новгородских.
…А на Волхове палят костры,
Сам Баян предлагает ладу,
А глаза быстры,
А мечи остры,
Шалаши в лесу —
Не палаты.
Тонкорукую Леду хватает Вадим,
Крутоплечий, льняной, высокий,
Он ведет ее в лес,
Он уже невидим,
Золоченый пояс расстегивает.
Белотелая Леда из темноты
Гладит кудри его, горюя,
И ложатся в траву,
Шевельнулись кусты,
Из седла,
Из кустов смотрю я…
Новгородское бурное вече,
Теплый, тихий багряный вечер,
Ночь тревожная, дикая, дивная,
Над рекой проливные ливни…
К у м а н ы – византийское название половцев. (О.С.)
[Закрыть]
САМУМ
Предки,
В бою поддержите меня под мышки.
Одинокое дерево не обойду.
Я повешу аркан
На кривом суку.
Я не первым
В последнем бою упаду.
Кто не знает мою золотую саку?
Вон звезда сорвалась,
Голова моя клонится ниже,
Клятву верности женщине дав,
Я целую ладонь.
Ни сову, ни ворону, ни лебедя
Не обижу,
Аруах!
Укажи мне дорогу на Балатон.
Проскачу навсегда, навсегда
Неизвестно откуда.
Только следы я оставлю глубокие
Людям,
Чтобы после дождей
Весь мой путь представлялся врагам
Вереницей пиал.
Чтоб они не сгорели от жажды,
Как я.
ПЕСНЯ НАД ПЕСКОМ
Засыпает кишлак песком,
засыпает, мне страшно
очень —
ни бежать, ни уйти пешком,
с минарета кричать
до ночи.
В этом веке последний крик,
век плывет над пустыней вихрем,
он несет в себе сто коряг,
сто стволов из оазиса вырвав.
Укрывая ладонью рот,
укрывая глаза ладонью,
я оплакиваю свой род,
это поле и сад плодовый.
Плач по горло заносит песком,
он выходит, идет,
проваливаясь,
выползая,
ползет ползком,
по песку
следом – след кровавый.
Минарет над пустыней торчит,
воет
длинно мордой собачьей.
Засыпает кишлак таранчи[11]11
Т а р а н ч и (тюрк.) – земледелец.
[Закрыть],
засыпает и засыпает.
НОЧНЫЕ СРАВНЕНИЯ
Над пустыней стоят одинокие соколы»
Над пустыней застыли мохнатые беркуты,
Над пустыней парит августовское солнце —
Одинокие образы человеческой веры.
Я к скале подойду
И ножом, как язычник,
Заклинанья шепча,
Что-то вырежу я.
О прости меня, Солнце,
Я шепчу неприличное,
Пусть услышит пустыня
Рыжая.
А потом?
А потом
Топот скроет молчанье.
Ты меня, вороной,
назови подлецом!
Кони ноги ломают
Вот такими ночами,
Когда всадник о гриву
Утирает лицо…
Над пустыней стоит одинокое небо.
Успокойся, скакун. Это всходит, луна.
Ах, такую прохладу и спокойствие мне бы.
До свиданья, пустыня
Рыжая.
АЙТЫС[12]12
Ты как мед,
как вспомню – зубы ноют,
ты как шутка,
от которой воют,
я ничтожен, кто меня обидит!
Видел ад, теперь бы рай увидеть.
Ах, зачем тебя другие любят,
Не люби, да разве это люди…
Они ржут, собаки, до икоты,
Это же не люди, это – кони!
А когда язык ломает зубы?
А когда глаза сжигают
Веки?
Как, скажи, мне брови не насупить,
глянуть —
и остаться человеком?
И лягушкой ночью не заплакать,
я люблю тебя,
как любят квакать,
как вдова – кричать,
как рыба – плакать,
я люблю тебя, как слабый —
славу,
как осел – траву,
как солнце – небо.
Ты скупа, тебе прожить легко,
даже нищий дал мне ломоть хлеба,
как дают ребенку молоко.
Если б звался я, дурак, Хайямом,
если б я, проклятый, был Хафизом,
если б был я Махамбетом, я бы!..
Только все стихи уже написаны.
Так в горах любили и в степях,
так любили – и смеясь и плача,
Разве можно полюбить иначе?..
Я люблю тебя, как
я – тебя…
Этот айтыс впервые записал Чокан Вапиханов в XIX в.
[Закрыть]
Войско выбирало себе в предводители того батыра, который побеждал соперника в споре. Народ сохранил в памяти несколько батырских айтысов. Наиболее известен айтыс (спор) Кара-батыра и Урак-батыра из Среднего жуза, рода караул.
Если хочешь, скажу я тебе, Урак,
о маньчжурах, ногайцах
хохлатоголовых,
о башкирцах, о русских мохнаторотых,
о туркменах, грузинах
в далеких горах,
о китайцах, не знающих
вдохновенья,
о великих народах, умеющих
плакать,—
всех, подобно
овцам после доенья,
заставил я блеять во имя аллаха.
Если ты мусульманин,
братайся со мной,
а неверный —
из вен твоих выпущу гной,
мое имя ураном клокочет в степи,
сотни тысяч джигитов
водил я в бой.
Меня знают сайгак, и орел, и змея!
Меня знают на небе
и выше!
Сын Алия, Урак,
кто не знает меня!
Только я о тебе не слышал?
Что ж, скажу, если хочешь. Кара-батыр.
Я прошел по дороге великой твоей:
у туркмен я спросил,
у грузин я спросил,
я в далеких лесах у башкир
побывал, -
я у русских в прекрасной Москве
побывал,
у поляков я в тесных полях
побывал,
я с маньчжурами дикими
воевал,
у Литвы я спросил,
у болгар я спросил,
у племен я признания вырывал.
Кто не знает тебя?
Кто не знает, что ты—
сын раба!
Внук раба!
И отец рабов!
Ты презренный, ты землю когда-то
пахал.
Жеребец Карабул похудел подо мной.
Жеребец Карабул благородней тебя.
Хочешь, я оседлаю тебя на бой!
Нет кобылы такой!
в степях!
Оседлаю, ударю тебя по бокам,
повалю, опозорю, как жирную
бабу!
Сын волка, хоть и тощ,
но похож на волка,
сын собаки, хоть толст,
но похож на собаку!
С отрезанными ушами.
Предание говорит, что в этом споре победил Урак-батыр…
СЛОВО ДУРАКАРАСКОПКИ В ЗОНЕ ШАРДАРИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Если с материнским молоком
это зло в тебя вошло здоровьем,
добрым тебя сделать нелегко
всем земным, вселенским всем коровам.
Если бы земля была чужая,
если бы жена была слепая,
я бы мог нарушить свои клятвы
и к тебе направить свои взгляды.
Я боюсь сегодня только страха.
Горше всех лекарств мое участье —
стариком иду к любой старухе,
я осколок, если ты – на части.
Тигром я бываю среди тигров,
в доме обезьян я – обезьяна,
в тишине я проплываю тишью,
на луне
ночной луной сияю.
Растопырь, мудрец, большие уши,
щедрость лучше скрытых кладов.
Правильно.
Даже дурака, мудрец, послушай,
если он, дурак, расскажет правду.
ЧЕРНЫЙ ЖАВОРОНОК
Глины.
Глины пятицветной – залежь,
кустики джусана, тамариск,
и барханы желтые, как зависть,
к Сырдарье, качаясь, прорвались.
Задавили город Шардару,
поделили ханские наделы
и глядят, глядят на Сырдарью,
на твою последнюю надежду.
…Били бубны, и звенел курай,
в стены клали свежую дерницу,
бог луны благословил твой край,
я нашел в кувшине горсть пшеницы.
Вот на камне выбита строка,
звенья глиняных водопроводов,
изменила городу река,
и ушли бродяжничать народы.
А в другом кувшине —
вот оно!
Зря мои ребята лезут с кружками,
режу на квадратики вино,
крепкое, увесистое, хрусткое.
Старики, я получил дары,
возбужден тысячелетним градусом.
Океаны в глине Шардары!
Режь лопатой, находи и радуйся.
…Радость захоронена в степях,
может, глубоко,
а может, рядом,
мы живем и познаем себя
по закону сохраненья
радости!
Может, был я посохом хаджи,
может, был я суслом
для наливки,
может, на губах я не улыбку —
женщину таразскую ношу.
Может,– первым зернышком
маиса,
первым клином
первого письма,
Родины мы были просто
мыслью,
помогавшей вам
сходить с ума.
О, всегда мы возникали вовремя!
Морем —
в самых неморских местах,
ради родин забывая родину,
родину, утопшую в песках.
Мы вернемся,
если не забудем,
гордостью, чинарой,
чем еще?
Может, просто ветерком
попутным —
парусником моря Мырза-щель?
Не задумано мое хотенье.
По закону сохраненья
дум
я в тенистый Мырза-щель не тенью,
ясностью осознанной приду.
Сантиметры в полотне найдутся.
Грустной охрой улыбнись, маляр.
Мырза-щель, смущенная натурщица,
родина последняя моя…
ФЕВРАЛЬСКИЙ ЯГНЕНОК
Эдуард Багрицкий птиц любил.
В кабинете маленьком орали
попугаи, кенары, ульбилы,
чижики…
Молчал —
караторгай.
Жаворонок из Тургайской области,
он степям своим давно наскучил.
Мы ему: «Лети на юг!»
Не хочет.
Прячется,
дрожит в Тургайской области.
Ежится.
Зимою там бураны.
Неприятные,
по десять баллов.
В шерсть (как в сено] на спине барана
закопается и дрыхнет, баловень.
А чабан поймал полузамерзшего
и отдал проезжему газетчику.
Тот продал караторгая летчику,
летчик – подарил.
Поэт поморщился.
Но подарок принял,
сунул в клетку,
в дальний угол, на пол.
Чай распили.
Гость поправил синюю пилотку.
Улыбнулся. Улетел.
Разбился.
И Багрицкий в телеграмму плакал.
Кенары кричали, попугаи
равнодушно брякали:
«Дурак».
На полу молчал караторгай.
Он молчал, мой жаворонок черный,
О, молчанье —
это тоже голос.
Он молчал.
Он потерял еще раз
свой Тургай,
заснеженную область.
Улыбаюсь жизнелюбым гениям!
Договоры с жизнью расторгая,
человек припас на случай кенара
и навечно взял караторгая.
И когда я приезжаю в область,
я подолгу слушаю ночами:
жаворонок под огромным облаком
голосит о летчике молчаньем.
КОЛОДЦЕКОПАТЕЛЬ КАЗБЕК
У Карабаса
(простится мне это сравнение)
лицо красное, как поросенок,
от свежего воздуха.
Он смущен своим ростом высоким.
Четыре ранения.
Он рубался, наверное, здорово
в моем возрасте.
Полным ходом – окот.
Горы сена! А в сене – норы.
Там ягнята двухдневные блеют —
чабанья радость.
Белолобый еще не обсох,
он дрожит и ноет.
Волкодав забирается в нору,
ложится рядом.
Я глажу ягнят. Щекочут ладонь.
– Искусственные?
– Да нет,– по-девичьи смущен Карабас,—
От любви.
Шофер мой гогочет, дурак:
– Различим по вкусу.
Чабан усмехнулся.
Другой бы уже залепил.
Шофер – тоже гость.
Ну, ладно. Садимся в юрте.
Разлили джамбулский «сучок»
в тостаганы[13]13
Т о с т а г а н – деревянная чашка вроде пиалы (к а з.).
[Закрыть]. Пьем.
Закусываем кусками жирного
курта.
Молчим.
Карабас, развлекая гостей, поет.
Ноет ягненок. Собака его не спасет.
За юртой в норе умирает
двухдневная жизнь.
Чабан Карабас возвышает
смущенный басок.
Домбра на коленях залатанных
полулежит.
Домбра.
Ни отца, ни жены, ни детей,
только сам.
Вся семья его – это отара
и куча ягнят,
волкодав, на начальство не лающий,—
его зам.
И слова – изо рта,
словно голые – из огня.
Это истый степняк:
он поет о березах и кленах…
«Карагач одинокий в пустыне
тоскует о роще».
Опускает глаза на кошму
шофер мой обросший.
Тишина. Тишина.
Это умер в норе ягненок.
««Волга» вьется аварской дорогой…»
Загорелый, худой,
подпоясанный красным платком,
в тюбетейке с чалмой,
бородатый, усатый —
хороший.
Волосатый кадык
провожает глоток за глотком,
на цветном сундуке
горделиво сияют галоши.
Я сижу в эпицентре великой
Голодной степи.
Мой хозяин Казбек – величав,
монотонен, как эпос,
он барана последнего
в черной крови утопил
и с подъемом большим
повествует весь вечер об этом…
О, Казбек не уверен,
что дальше райцентра
есть другая Земля,
он не верит,
что кроме персидских и русских,
есть другие поля,
он достойного сына отдал
Испагани[14]14
И с ф а г а н – город в Иране.
[Закрыть] в высокий час.
Мой старик деловито крошит на ладони
кирпичный чай.
Его первого сына звали Надеждой[15]15
А р м а н – мужское имя, в переводе: надежда.
[Закрыть].
Мускулистый и добрый, с глазами архара,
в этом тридцать шестом
он в красивой одежде
пал с седла при набеге
На Гвадалахару.
Дед Казбек убежден, что опять
воевали с персами.
Я смеюсь,
но старик на своем:
«Сын погиб в Испагани…»
Ханы и шахиншахи давно перестали
соперничать,
в этом тридцать шестом сыновья
погибали в Испании.
Ночь уже в середине.
Юрта дырами ловит, звезды,
Рядом строят плотину.
Там возится сын Бахыт.
Говорят,
вода в Мырза-щели
дороже воздуха,
говорят,
много разных колодцев,
да нет плохих.
Пал спиною на войлок, мудрый
колодцекопатель.
Ему снятся любимый баран
и персидские войны.
У порога светлеют седло
и большая лопата,
с Шардары,
со строительства моря
доносится вой —
МАЗы.
ГЛИНЯНАЯ КРУЖКА МОПРа
«Волга» вьется аварской дорогой,
над горами аварское небо,
и могильники однорогие
за аулами, за Гунибом.
Ишаки, как везде, невеселые,
старики, как везде, особые,
проезжаю угрюмые села,
белостенные села усопших.
Тот, кто жив, кто еще в аулах,
кто еще не ушел за речку,
говорит, наслаждаясь гулом,
легким клекотом отчей речи.
(Рассказ)
КРАСНЫЙ ГОНЕЦ И ЧЕРНЫЙ ГОНЕЦ
Двадцать какой-то год.
В каком-то зеленом городе.
Желтое лето. Пыль. Верблюды и дыни.
А по утрам находят людей
С перерезанным горлом.
Мусульманам внушает городская газетка
О бедах Румынии.
На базарах,
Везде, где толкаются с деньгами,
Ходят сборщики МОПРа с крупными
кружками.
– В Руре гибнут рабочие…
– Брысь от меня, бездельники!
Разве с кружками просят золото!
Надо с оружием!
Хо-хо-хо!
Ходят сборщики МОПРа,
Злые, в рваных халатах,
И, намаявшись, тащат в райкомы
Нищую медь.
Младший сын Бек-Назара,
Подумав, сказал:
– Ну, ладно,
Я – секретарь.
Мне надо уметь.
«Мусульмане!
Сегодня над миром аллаха идет курбан-айт —
Великий мертвенный праздник.
Сегодня готов аллах простить нам
Грехи великие за щедрость великую нашу!»
У дувала мечети хаджи Бек-Назара
Ярмарка нищих!
Каждый тащится на собственном ишаке.
Сидят и стоят разноцветные,
Сотни, если не тыщи,
Восток мой велик и в богатстве и в нищете!
Бывшие аломаны рисуют на лицах грусть!
в драных мехах!
Пыль горячая, как на пожарище!
Митька в грязной чалме тянет солдатский
картуз!
– Подайте на горькую, ради аллаха,
товарищи!
Гордо верблюды проходят, пыля,
В кости под сенью урючин режутся,
Улочка – узенькая Земля,
Воины, встретившись, не разъедутся.
В чоновских бутсах из кожи свиньи,
В куртке, с наганом сын Бек-Назара
В шеренге нищих кружкой звенит,
Смотрит прищуренными глазами.
– О-о! Люди! Чтоб я ослеп!
Он собирает таньгу на калым!
– У Советов нет золота, чтоб заплатить
За красавицу Гюль!
– У хаджи Бек-Назара не хватит волос,
Чтоб сединой за позор расплатиться!
– Сын Бек-Назара стал нищим,
Поможем ему, правоверные!
И под халатами ищут
Потные револьверы.
– На!
Как в лицо.
Первый пятак
В кружку летит плевком.
– На!—
Это счастье – бросить медяк
Сыну хаджи Бек-Назара.
Богатые мстят от души:
– Да помянет тебя ревком!
Бедные мстят торопливо ему
За отца, подлеца Бек-Назара.
Бухарское золото и советское серебро!
Срывают тугие перстни с жирных пальцев!
– На!—
И халаты хивинского шелка.
– Ох, и добро!
Нищие злобно встают и завистливо пялятся,
И, подражая, швыряют
С презрением ветошь,
Смачно плюются,
Отходят, искусно дрожа.
Солнце, зачем ты так весело светишь!
Каждый твой луч на щеке,
Словно отблеск ножа.
Почернело лицо у дувала отца,
Глаза, как две черные раны,
Над их головами горят.
– На!—
Так полосуют мясо лица.
Так в последнем бою обреченные
– На!—
Говорят.
«Тот может плеваться,– пока богат.
А ты почему засучил ногами!
В лицо мне метишь!
Не страшно, гад.
Им рай уготовлен моим наганом.
Твой сын на базаре
С такой же кружкой
Бегает, просит в твоем старье.
Он завтра подастся учиться к русским
На узком каике по Сырдарье.
И там, в протоке,
Из зарослей чия
Ударят залпом вот эти псы.
А ты хохочешь е убийцами сына
Ага-Мусы!
Смейтесь, я знаю, в улыбках – яд.
Плюйтесь, я верю – это не ложь,
в бою обреченные:
– На!—
Говорят.
Я обречен, но скажу:
– Даешь!..
Я пойду. Надоели старые лица.
Я посплю, и пускай, кому нужно,—
Молятся,
Забастовщики Рура мне будут сниться,
Гюль и румынские комсомольцы.
Но сон оборвут – На!– ударят в постели
Железом, каким забивают корову.
Дорежут, поставят около тела
Кружку МОПРа, набитую кровью.
А кто убийца?
Отец Назара?
Или проклятый лентяй Мусы?..
Дело милиции».
«Кто-то медленно скачет и скачет во сне…»
Перелески, холмы, задыхается конь,
без дорог, напрямик
мчит веселый гонец, -
пот соленой корою застыл на лице,
он сменил пять коней,
пять коней, пять коней.
Сбросил кованый шлем,
бросил кожаный щит,
меч остался в полыни,
копье —
в ковылях,
лук бухарский в песках Муюнкумов
лежит.
И ржавеет кольчуга в хлопковых полях.
Только знамя в руке!
Полуголый гонец
знак победы – багровое знамя —
не бросил.
Это знамя дало ему
семь коней,
семь коней,
семь коней
тонконогих и рослых.
Это знамя поило айраном его,
на привалах валило под ноги баранов,
беки жарко дарили ему —
ого-го!—
лучших девушек, плачущих,
но не упрямых!
Но упрямый гонец на привалах не спал,
«Славься, город, прославленный арыками!..
Поздравляю с победой!..»
Тогда он упал,
закрывая скуластую морду
руками…
Ваша радость, народ,—
это слава его!
Пусть о нем говорят на орлиных охотах.
Слава!
Слава гонца
громче славы бойца,
где-то павшего без вести за свободу.
Подарили ему арабчат и рабынь,
если хочешь любую, а хочешь – троих?..
Он молчал, обнимая свою рябую
И детей босоногих, чумазых своих.
…Тише, люди?
Хрипит, задыхается конь.
Без дорог, без сапог, огибая кишлак,
Мчит угрюмый гонец,
он ушел от погонь.
На копье раздувается
черный флаг.
Флаг жалеет его– не спеши,
не спеши
головой отвечать за бесславный конец!
За измену аргынов!
За трусость паши!
Разве ты виноват,
что ты черный гонец?
Разве ты виноват?..
Враг идет в Бесшатыр.
Он стотысячным топом линчует аулы,
пот съедает глаза, конь хрипит.
О батыр,
лучше б ты под копьем умирал
ясаулом!..
Ты хотел,
так хотелось быть красным гонцом!
Перед женами, матерью, перед отцом
ползать, плача от счастья,
дары принимать!..
Прячься, глиняный город!.. Умри, моя мать!..
Дед, кончай свою долгую жизнь, не тяни,
пока честен, влетай в свое небо стрелой.
Жены, жены, бросайте детей со стены!
Пейте яд! Обливайтесь кипящей смолой!
ШАШКА
Кто-то медленно скачет и скачет во сне,
издалека, на светлом усталом коне.
Все молчит. Осторожно копыта стучат.
Скачешь ты
или тихо крадешься ко мне?
Почему не взлетает над крупом камча?
Почему ты являешься мне по ночам?
Я поверю,
я знаю – ты добрый гонец!
Почему же так тихо копыта стучат?
ОКРАИНА
На! Доверяю. Точи.
Она в сундуке помялась.
Так отточи, чтоб не рубить,
а делить,
чтобы рана на теле тонкой была,
как нить!
Чтобы кровь не чернела обиженно,
а смеялась!
Точильщик – мужчина грубый,—
и тот растревожен звездами,
грудой у ног—
тупые ножи домашние,
полдень зачеркнут звездами.
В синих кристаллах – воздух,
мясник раздувает ноздри —
в городе пахнет Дамаском.
Жми на педаль истертую,
плюй на лезвие,
пусть поглядят уныло
кухонные ножи.
Сыплются синие искры,
словно глаза Олеси,
к черному кругу жмется
жизнь, жизнь!..
«Загнали кондуктора под потолок…»
Тот час, когда тепло
до теплоты.
И фонари сгибаются под ношей,
и слабым отрицаньем темноты
свет верно служит азиатской ночи.
Иду туда, где точки папирос,
где фонари разбиты женихами,
где в мае по спине моей – мороз,
где жизнь – копейка, если не нахален.
Здесь сладко пахнет древним воровством,
на седла брошенным девичьим вскриком.
Окраиной души горжусь родством
с негромкой, дикой слободскою кликой.
Темно. Движенья белые видны,
скамейка занята, на ней колдуют.
Ух, женщина мужчине в ворот дует,
сорочку отдирая от спины.
Взошла луна.
В тиши журчит вода.
Собака спит. Спит сторож с алебардой.
Окраина. Под яблоней – лопата.
И овощной ларек, закрытый навсегда.
ПЕЙЗАЖ
Загнали кондуктора под потолок.
Троллейбус везет к стадиону
болельщиков.
Ужасное чувство локтя,
в каждом боку – по локтю.
Я уважаю общество, но
полегче!
Я охраняю девочку
с тонкой теплой спиною.
На каждой стоянке в троллейбус
влезают восстания.
Кости мои,
да здравствуйте!
Плечи и ноги – к бою!
Что мне проклятый футбол,
когда ей на свидание!
Я не знаком,
я за нее отвечаю,
кондуктор кричит,
раздавленный безбилетными.
Не бойся,
тронут хоть словом,
клянусь – одичаю!
Сестренка,
твоя остановка,
сходи, отвечай за себя…
НА ПЛОЩАДИ ПУШКИНА
Развешаны, картины Левитана
в лесах;
река холодная горит;
неторопливый грохот Левитана
о молнии потухшей говорит.
На фоне свежекрашенных холмов
стоят столбы,
как скважины в разрезе,
и воздух после молнии разрежен,
так дышится в тени степных колков.
О, лиственных лесов остолбененье,
какая-то полуденная тьма,
она бывает перед наводненьем,
когда земля в невидимых дымах.
Брожу травой,
которую не косят;
великая, табунная трава;
в ограде лесника жируют козы;
я помогаю складывать дрова.
Гляжу на облако,
оно на ветке молнии,
как яблоко багровое, висит…
УЩЕЛЬЕ
Поэт красивым должен быть, как бог.
Кто видел бога! Тот, кто видел Пушкина.
Бог низкоросл, черен, как сапог,
с тяжелыми арапскими губами.
Зато Дантес был дьявольски высок,
и белолиц, и бледен, словно память.
Жена поэта – дивная Наталья.
Ее никто не называл Наташей.
Она на имени его стояла,
как на блистающем паркете зала,
вокруг легко скользили кавалеры,
а он, как раб, глядел из-за портьеры,
сжимая потно рукоять ножа.
«Скажи, мой господин,
чего ты медлишь?..
Не то и я влюблюсь, о, ты не веришь!..
Она дурманит нас, как анаша!..»
Эх, это горло белое и плечи,
Ох, грудь высокая, как эшафот!
И вышел раб на снег в январский вечер,
и умер бог,
схватившись за живот…
Он отомстил, так отомстить не смог бы
ни дуэлянт, ни царь и не бандит,
он отомстил по-божески:
умолк он,
умолк, и все. А пуля та летит.
В ее инерции вся злая сила,
ей мало Пушкина, она нашла…
Мишеней было много по России,
мы их не знали, но она – нашла.
На той, Конюшенной, стояли толпы
в квадратах желтых окон на снегу,
и через век стояли их потомки
под окнами другими на снегу,
чтоб говорить высокие слова
и называть любимым или милым,
толпа хранит хорошие слова,
чтобы прочесть их с чувством над могилой.
А он стоит, угрюмый и сутулый,
цилиндр сняв, разглядывает вас.
Несдержанные голоса мужчин…
В одном объеме – и мираж, и зимы.
О, ритмы гор – туманности вершин
и солнечная простота низины!
А трещины, как змеи на камнях…
Корнями расколов порфир —
береза…
Кочевники проходят на конях
по скалам, еле тронутым коррозией.
А за верблюдами
лениво, немо
собаки караванные бегут,
оглядываясь на пустое небо,
вынюхивая признаки погод…
Куда ты, караван? В какой шабул[16]16
Ш а б у л – набег (каз.)
[Закрыть]?
В чье желтое лицо бура твой плюнет?
О, гнется тропка,
гнется, как шампур,
под тяжестью нагруженных верблюдов.
В Такла-Макане пыльный ураган.
Э, осторожнее на перевалах!..
Возьми меня с собою, караван,
В седло пустое, вместе под обвалы!..








