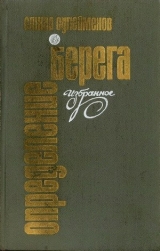
Текст книги "Определение берега"
Автор книги: Олжас Сулейменов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
ЯМБОМ О ВЕРЛИБРЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ – УТРО
Как в мелочах мы громогласны!..
Возможности черновика
потрачены,
чтоб сделать Главным
перипетии пустяка.
И в дебрях слов
потерян бой,
мы простоту вогнали
в сложность,
так прячет рукоятка в ножнах
обломок лезвия
тупой.
Все несвободнее свобода,
она сегодня нарасхват –
кинозвезда,
словечко, мода,
цветастый задник для эстрад,
жизнь превращается
в живот,
фронт – в безобидное
фрондерство,
свобода —
это не позерство,
а, как и прежде,—
эшафот,
где ни приятельства,
ни дружбы,
великая до униженья
Свобода требует не службы,—
Служенья.
И правду пробуя вещами,
слезой увязывая речь,
вещали мы,
как обещали,
клялись
себя не уберечь.
И колеся и куролеся,
мешая спады и подъем,
мы превращали мелколесье
в пропахший кровью бурелом.
И в этом пьяном исступленье,
сметая ребрами бугры,
насаживаясь на углы,
мы находили искупленье.
Как мы не дорожим годами,
мы понимали в этот миг,
как мы не дорожим листами
своих
всегда последних книг.
Как мы боимся в них
крушений.
Словес крутые виражи —
замедленное выраженье
смущенья нашего
и лжи.
Свободой головы мороча,
мы долго говорим о том,
что надо бы сказать короче
о самом главном
и простом:
строчи, поэт, любым калибром,
сади слова любой обоймой,
стих может быть
и не верлибром,
поэзия была б
свободной.
Из-за этого умереть?
И ради этого жить?
Оставь, оставь этот спор.
Исикава Токубоку
ЧЕРНОЕ И КРАСНОЕ
Всем, всем, всем!
…Взвод поднимают в семь.
Взвод через рощу идет.
Взвод его песню поет:
«Добрая родина-мать».
Взвод продолжает спать.
Солнце над краем земли,
целиться в солнце!
Пли!
Изрешетили солнце Севильи,
за спины закинули карабины.
Никто не палач,
когда все – палачи.
Всем душу отдал —
за всех получил.
(Простится ему банальная гибель,
слишком красивая —
вся в апельсинах,
синее небо,
что-то еще…
Очень общо.)
У крайнего мятый китель.
«А чо?»
Карманы плодами набиты,
как ранец.
И надо добавить —
у ЭТОГО крайнего
от жуткой отдачи болело плечо,
и ЭТОТ схватил от капрала наряд –
клозеты.
Газеты о том говорят,
уборную драит,
обидой горит,
и мать вспоминает —
капрала корит.
Руки разъела проклятая хлорка.
Лучше – расстрелы,
чем эта уборка!
Язвы ноют,
конвойный плачет,
слезы те
ничего не значат
для истории человечества.
Ну, а если взглянуть
иначе?
Плачет ЭТОТ,
не продохнуть.
Палачи, задыхаясь,
плачут:
«Расстреляли бы лучше
хлорку,
чем этого симпатичного
парня,
Лорку, кажется…»
крикну: «ЛОРКУ!..»
Всем! Всем! Всем!
Снова пробило семь!
Снова над краем земли
солнце.
Свети, пали!
Ать, два, ать —
солнце мешает спать.
БЕЗЫМЯННАЯ ВЫСОТА
Fas– высшее право в римском
законодательстве.
Fas est —«Все дозволено».
Римские полководцы посылали солдат
на варварские города, вооружив легионы правом: фас!
Fas – погружайте клыки:
мир для вас.
Fas – на чужую жизнь и имущество
нет запрета.
Fas – это блеск суженых злобой
глаз,
рас —
человеченье
это.
И вспыхнули в Риме XX века
скрещенные молнии фразы – Fasist.
Да, первый философ в черной рубашке
был – лингвист.
В наследство от предков ему достался
варварский мир
(он был историк),
он – в черной рубахе,
он – против черных
(он был истерик).
Нам
все дозволено!
Даже логика и аналогия,
и право помнить —
волчицей вскормлены
Ромул и Рем,
и повторяются из века
в вечность
лбы их пологие
и волчья серость,
овечья бледность
и бедный Рим.
В любви не признаются
на латыни,
не ссорятся, не спорят
на латыни,
когда здоровы были,
молодыми,
о нас не говорили
на латыни.
Латинским звуком нас не отпевали,
латинским словом нас не обрекали,
пощупав пульс, врачи не говорили
той фразы, что пугала
в старом Риме:
Fas est!
А это значит – тело бренное,
ешь напоследок
жирное и пряное,
пей коньяки,
не обращай —
что больно,
ты обречен,
и значит,—
все дозволено!
Жизнь коротка,
пока живешь – Fas est,
пока не ляжешь,
на груди скрестив
худые кисти,
облачайся в черное,
гуляй, фашист!
…Но есть под Брестом,
есть один окоп…
Избитый пулями
багровый бруствер…
Залитый кровью фас
веселых пруссий…
И мой не защищенный
каской лоб.
Нерв обнажен,
открыто сердце там,
туда мои пути, дороги, тропы.
И где б я ни был,
я – в окопе том.
Последний мой рубеж
меня торопит.
Хроника
Памяти Курбана Бадельбаева.
– От полка осталось 32 штыка —
шли из окружения от самого Бреста.
Всего-то начальства – писарь полка,
последняя позиция – холм безымянный,
что стал для альпийских стрелков Эверестом.
Взрывом гранаты мне порубило глаза:
командир наш, писарь полка Соломин,
снял с себя мокрый бинт, завязал мне глаза
и сипло сказал: «Посмотрим,
нас еще двое,
мы им дадим рукопашную,
меня узнаешь по голосу,
остальные – не наши…»
Я бежал рядом с Соломиным,
упираясь штыком в темноту.
Спотыкался и падал,
вставал,
воздух прикладом круша.
У ног моих бился, хрипел, умирал Соломин.
Они гоготали, меня окружа,
не знал я,
что гибнуть придется в таких условиях…
Сержант Соломин вел боевой дневник:
«Выйдем к своим – говорил,—
для отчетности пригодится».
Кто дезертировал,
кто геройство в боях проявил,
кто где похоронен —
всему вел учет полковой писарь Соломин.
Когда на кордоне лесном
погиб пулеметчик Корнилов,
и не осталось больше в полку коммунистов,
писарь Соломин, раненым горлом сипя,
клялся со всеми и, нарушая устав,
принял в партию
весь наличный состав
полка. В том числе и себя.
Все заявления, сколотые ржавой булавкой,
сохранились в сыром планшете.
«Я, рядовой Семенов Петр Ильич, из Саратова, улица Кровельная, 17, имею четыре класса образования, грамотный. Соцпроисхождение – бондарь. Прошу считать членом ВКП(б). Имею жену Марию и пятерых деток. Машенька, если что – возвращайся к отцу в деревню…»
И приписано рукой Соломина: «Пал коммунистом за Родину у моста через реку Серень, 20 августа 1941 года. Достоин Ордена Красной Звезды».
«Я, рядовой Садыков Хамит из аила № 5 около города Ош, неграмотный по-русски и по-киргизски. Соцпроисхождение – трудовой пастух. Имею мать и отца, убитых басмачами. Тяжело ранен в бою за Родину, умирая, прошу принять в партию ВКП(б), записано с моих слов сержантом Соломиным».
Вместо подписи – кровавый отпечаток пальца.
И ниже – тем же округлым писарским почерком:
«Принял смерть коммунистом на высоте 230 у деревни Голенькой 25 августа 1941 года. Достоин Ордена Красной Звезды».
ЖДЕМ ПАРОМА ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ
Через тридцать лет
пионеры отроют планшет,
документам размытым поверят райкомы
и военкоматы —
всех, кого принял в партию,
кого представил к награде
сержант Соломин —
примут и наградят,
посмертно.
Высота 230 на старенькой карте-трехверстке
обозначена цилиндрическими неправильными овалами,
будто отпечаток папиллярных узоров.
Высоты, которые мы держали,
похожи на кровавые отпечатки
солдатских пальцев!..
Безымянная высота.
Почему – безымянная?
Тридцать – отдали ей навсегда свои имена:
четыре Ивана, три Петра, два Ахмета,
Хамит и Саша,
Кирилл, Владимир, Исаак
и маленький санинструктор
Агаша —
без вести павшие солдаты наши.
…Над могилой обелиск
крашеной фанеры.
По тропинке поднялись
молча пионеры.
Ветер галстуки качнув,
шевельнул знамена,
стал почетный караул
тридцатиименный.
Над могилою года —
как высокий полдень.
Яркокрасная звезда
словно общий орден.
Родиною звали мы
край, где рождены,
там кизячные дымы,
тополь у стены.
Как назвать страну берез,
где мы встали в рост,
не скрывая от огня
ни крови, ни слез?..
Деревенские мальчишки ловят плотву на удочку. Безногий бородач на телеге с сеном. В моем блокноте – зарисовки, первое, что пришло на ум.
СЕВЕР
Избы вздыбились на косогоре,
как плоты на речном повороте
при заторе.
Между ними,
словно льдинка,
в белой блузке и косынке
вдоль заборов
по тропинке,
до колен подняв подол,
к мутным водам —
к перевозу,
из былины
с ходу – в прозу,
забежала,
а потом —
отдышалась,
улыбнулась,
встав на колесо телеги,
посмотрела через реку —
не покажется ль паром!
На губах ее помада.
Грудь под блузкою —
что надо!
Не везло, видать, калеке,
взял и приобрел телегу.
И теперь она
в телеге
уминает задом сено,
а старик
глядит елейно.
Впечатляющая сцена.
Оглянулась на мальчишек
(не посмотришь —
не уважишь)
ей бы нужен мужичище —
из плотвы плота не свяжешь.
Он, наверное, не знает,
тот, который подошел бы.
Он уверена, не с нами —
грудь спокойная под шелком.
Он, неверное, в Норильске, -
иль плывет по Енисею,
или вовсе
на Карельском —
броситься б ему на шею.
Может, этот подошел бы
со своей судьбой
тяжелой?
Тот, что рядом
на телеге.
Может, было б ему легче?
Запоздалые свиданья,
бесталанные любови,
сколько было опозданий,
бесконечна эта повесть.
Все так медленно и емко —
избы, удочка, береза
(как замедленная съемка),
женщина у перевоза.
Борода глядит нелепо
на обтянутые икры.
Нескончаемая лента,
непридуманные игры.
«Вы меня любите, горы…»
Смотри,
памирские седые яки
уходят на Чукотку по горам —
растолковал им,
что такое ягель,
трава из северного серебра.
Они, сутулые, прошли Алтаем,
не торопясь, к Саянскому хребту, .
о, страсть – не суета,
не понимаем,
как далеко мы ищем красоту.
Уйду в прикосновение руки,
кандальником в неласковую нежность,
ссылает красота в сибирский
Нежинск,
туда,
в серебряные рудники.
Холодный, благородный мой металл,
в краю морозном ты рожден,
мой белый,
я в золоте жары тебя искал,
прохладный мой,
победный.
Сияет матово лицо в углу,
вхожу в него, крича,
как стог в иглу,
нет, эта женщина
не из ребра,
сибирская, она —
из серебра.
Озон серебряный в бору звенит,
не обжигает кору зенит,
игла сосны,
карагача кора
чуть улыбнешься ты —
из серебра.
В былинах бычьих серебрится ягель,
и запахи его нам ноздри рвут.
Идут по тундре молодые яки
и топчут легендарную траву…
НЕДЕЛЯ
Вы меня любите, горы,
любите, ели,
в голубое и белое одетые
годы
надо мной пролетели,
унося названия трав,
дорогих чрезвычайно,
в свои шумные краски
вобрав
все оттенки молчанья.
Горным рейсфедером
правлю равнинную быль —
я прошел по лавинному склону,
и снежная пыль
опустилась на длинный
извилистый след
моих лет.
Росчерком метеоров —
годы иллюзий.
Вы меня любите, горы?
Любите,
люди?
Вас не исправить,
не превратить в плоскость,
ваши изломы,
горы,—
неизгладимы.
Вы так неправильны,
горы,
правильна – пошлость,
вас не сравнять, горы,
вы – несравнимы.
ДЖОМОЛУНГМА И КОЛОДЕЦ
Много веку досталось эпитетов
добрых,
недобрых.
Век сложили в архивы,
упрятали в сейфы:
удобно.
Затолкали в карманы героев
детали событий громадных,
что не влезло – на свалку истории,
для сплетен и для романов.
Собирает поэт-старьевщик
осколки истин,
напевая под нос,
поднимает обрывки канатов мысли,
извлекает из груды гниющей
огрызки фантазии,
рукавом оттирает до блеска
лавровые листья лести.
Потускневшие зеркальца правд
в голубой оправе,
оловянные слитки —
оплывы великих дат,
потрепанные переплеты недавней славы,
ржавые мины, круглые,
как циферблат.
Время войны и мира
вываливается на стол;
на каждой минуте —
минувшее
проступает пятном, как соль;
в каждой минуте —
мина
с хронометром на века,
тикает время мира
в мотивчике чудака.
«Таянья облик зимний,
серое счастье потерь,
звук непроизносимый
В знаке весеннем Эрь,
синь в очертанье сугроба,
жар на изломе льда,
в южных ночах – сурово
западная звезда».
В поисках неделимого
(что это – старь? новь?)
мы копошились в былинах
явей,
в легендах снов,
мы собирали толпы,
выявить символ – тол,
мы накопили злато —
выделить корень зла,
мы разлагали атом;
вываливали на стоп
единые, неделимые
империи – крошева стран,
не верили, но проверили
библию и коран.
«Новость волнует древностью,
старость – своей новизной,
в хламе скрываю с ревностью
истину хлада —
зной».
Где оно, неделимое
ни стенами и ни рвами?
Не краткое и не длинное?
Временем не взрываемое?
Где, на каком расстоянии
целое
состояние?
Может, оно в нирване,
в радости,
в сострадании!..
«Слушай, если меня перед Страшным судом допросят: «Назови поэта», я не вспомню ни тебя, ни сотого.
Лишь колодцекопателя Мадамара.
Там, в Эмбенской пустыне на дне черного колодце,– сырое пятно лица.
Я никогда не видел его близко, и потому смогу узнать в тысячной толпе.
Человеческое лицо – не глаза, не нос, оно не состоит из частностей.
Тебя я знаю по множеству встреч. Ночью – ты ночной, в полдень – полуденный. Ты еще не нашел своего единственного лица, одного на всего себя.
Я тогда наклонился над саксаульным срубом, и он посмотрел на меня со дна прохлады.
Его нельзя представить сидящим среди нас, идущим по оживленной улице. Он всегда таскает за собой свою яму.
Вспомни, был жаркий день. Мы пили шубат у богатыря Маке. В тени юрты дремали желтые верблюжата.
Я наклонился над срубом и заслонил звезды.
С тех пор осторожен в поступках.
С ним, наверное, скучно быть долго, но мне нужно знать, что на этой земле, кроме болтунов, клятвопреступников и подлецов, кроме великих и невеликих героев, есть и Мадамар».
Садык говорил, глядя вверх, спокойно и негромко, и ладони его, свисавшие с колен, стали еще длиннее и почти касались земли.
«Выродков тенгрианцы почитали вождями.
Человек глухой или лысый мог смело рассчитывать на лишний голос.
А если к тому же он был бельмастым, кривоногим и горбатым – ему было обеспечено место в кабинете святых.
Культ калек определил и землю для вечного жития – плоскую, лысую, с паршою высохших озер, зобами курганов.
Вера – это сознание. Люди и земля подражали калекам.
Сейчас в каждом трамвае найдется с десяток плешивых.
В скором времени выродком будет считаться абсолютно здоровый человек с сильным голосом и пышной шевелюрой». (Оживление в зале.)
Из стенограммы выступления Садыка на совещании работников автомобильного транспорта.
«Любая влага, влитая в кувшин…»
С а д ы к:
Я недавно читал в колхозе,
в душном клубе,
перед кино,
стихи о пальме и о кокосе.
Пастухам было все равно,
что слушать.
Волосатые чабаны,
пот на полы чапанов капал,
поливальщики, шептуны,
усмехальщики, кашлюны
и харкатели на пол.
Я читаю о Джомолунгме,
восхищаюсь Килиманджаро,
всеми горбами земного шара!..
В зале дышат жареным луком.
Тогда послушайте, эй, кащей!
Цикл «Кривые» – басня о косом.
«Шел человек косой,
как дождь»,
безногий в первом ряду —
в ладоши!
Косому понравилось,
когда я прочел
стихи о горбатом.
Горбатая братия
гремела, когда я по лысым прошел
чеканной строфой амфибрахия.
Хромые, косые, горбатые,
лысые
ржали, когда я кричал о немом.
А в третьем ряду в малахае лисьем
молчала и улыбалась,
улыбалась и молчала
прекрасная девушка Майя,
глухонемая.
…Красота как презренье,
уродство – прозренье.
Обитаем в красивой, песчаной степи,
красота нашей родины безголосой,
не оглуши,
так – ослепи.
Оскопи нас, пустыня,
доведи наготой до предела
постылых,
узнаем, что делать,
когда будет стыдно.
А мадамары сидят в колодце,
в глубоком, гулком, как резонатор.
И, заслоняя звезду Жель-Майя,
случайно солнце
влезает в кадр.
СИНИЕ ОСТРОВА
Любая влага,
влитая в кувшин,
спешит принять
его литую форму,
а слово,
проникая в глубь души,
ей сообщает
собственную форму.
Тьму искажает образами
НОЧЬ,
в КОНЯХ отстали
борзые комони…
Всегда,
повсюду —
горлом превозмочь
границы ужасающих гармоний.
Так, в мир входя,
мы изменяем мир,
он – оболочка,
мы – его основа,
мой мир
рябясь, морщинясь,
как эфир,
приобретает очертанье СЛОВА.
Искрится дым —
сгорел последний том…
Но
вечен знак над легким пеплом
букв,
над кошмами,
над каменной плитой
изогнутый лекалом мысли
ЗВУК.
Несколько лет назад, двадцатилетним, я побывал в этих местах. Сохранился блокнот.
«Почва: пески и солончаки. Деревья наперечет. Около обвалившегося колодца нашли пенек – то ли пустынная ива, то ли карагач. Распространен саксаул. Пресмыкающиеся: змеи, черепахи, ящерицы (сосущие спящих коз. Портят сосцы). Насекомые: жуки-скарабеи. Скорпионов и фаланг – множество. Из пернатых видел коршуна, ястреба-мышатника, куропаток.
Залетает иногда, неведомо откуда, чайка…»
Местность эта лежала в какой-нибудь сотне километров от самого зеленого, самого тенистого горного города Алма-Аты. Разительный, обжигающий контраст и вызвал заметки начинающего землепроходца.
Прошлым летом мне снова пришлось проехать по этому району. Не скажу, что край уже закудрявился садами, но первое, что я увидел,– чайки над барханами. Их стало больше.
…Мурат-ага, как истый степняк, рад каждому новому собеседнику, кто согласен выслушать повести о его младшей дочери Медине, У него живое, часто вспыхивающее вдохновением лицо рассказчика и тяжелые, малоподвижные руки профессионального рабочего.
Обычная биография. Родился в пустыне Кызылкум. Мальчишкой пас овец. В семнадцать ушел добровольцем на фронт. Стал сапером. Помнит, какой была почва под Москвой, на Карпатах, в Румынии… За войну вынул несколько тысяч кубометров земли лопатой. «Сложить – хороший канал получился бы». Может быть, поэтому и выучился на экскаваторщика.
В его трудовой книжке значится канал Иртыш – Караганда. Есть Бухтарминское и Шардаринское водохранилища. А теперь вот – Капчагайское море.
Простая, современная биография сына пустыни.
Во время одной из последних встреч Мурат-ага сказал: «Понижаешь, одни объясняют мир, а мы его переделываем!»
«Бешеной пеной прибоя…»
I
«…Дочь у меня увлеклась географией,
этой науки нет в программе
(Мадина ходит в четвертый класс!,
но что поделаешь – увлеклась!
В спорте, кажется, это – фальстарт,
ну, а пример подаем не мы ли!
Добыла пачку контурных карт,
их называют еще – немыми,
и —
раскрашивать карандашами!
Море – синим,
пустыни – желтыми,
сидит за столом, шевелит ушами,
будто цветы вышивает шелком.
Спросила как-то:
«А что – вот это?»
А я, понимаешь, статью читал,
отвлекся, глянул:
«А, это Арал[41]41
А р а л – Аральское море. На казахском языке слово «арал» означает буквально – остров.
[Закрыть]…»
Сказал, не подумав,—
и снова в газету.
Дочь карандаш заточила остро,
заштриховала круглый Арал
коричневым цветом, как гору,
как остров!..
А все, что вокруг – знойную степь,
глину, покрытую солью,
как инеем,
дочка спокойно закрасила
синим…»
II
«…Мой дед знаменит был в ауле
и в селах окрестных —
ходил за три моря соленых,
как значится в песнях,
три моря соленых он видел,
а внук его скромный
своими руками отгрохал
три моря огромных.
И пресных.
Сияют в былинах протяжных
моря легендарные,
(мой дед их названья забыл,
это было – Вчера).
Мои —
Бухтарминское море и Шардара —
пока что звучат неуклюже
под громы гитарные.
Слова не окатаны в песнях,
как галька морская,
в поэмах не петы,
в мечтах побывать не успели,
в них ревы моторов еще не остыли,
в них скалы
налетом мазута покрыты,
но мы их запели.
В песках отрывали
и вам открывали, как темы,
пускай Бухтарминское —
не Средиземное, где нам!..
Не Аравийское,
но Шардаринское – все же!
Мы карту немую озвучили,—
это дороже.
В степи раскаленной, где проклинали
солнце,
молились прохладе ночной
и полыни сочной,
в ударах ветра звенел черепаший остов,
в пустыне желтой возникло, как синий
остров,
море.
В степях Баканаса, в пыльной Долине
смерчей,
не богом, а нами
по плану, по смете
созданное
встает Капчагайское море,
да, синее море подножья барханов
моет,
да, первые волны песок, подминая,
прессуют,
да, сказано – сделано,
слов не бросаем на ветер,
оно еще темное —
дочь его синим рисует
на контурной карте.
Оно будет синим, поверьте.
…А завтра в дорогу,
на новое место покатим,
мы же кочевники,
наши привалы – на карте.
всего три моря (пока что)
в моей анкете,
я молод —
двенадцать пустынь
у меня на примете.
Когда-нибудь
(мы доживем и до этого счастья!),
посовещавшись, поспорив,
оставят народы
как заповедник
пустыню гектаров на сто,
а может, на двести,
в целях охраны природы.
И будет
на картах желтеть одинокий остров,
и будут съезжаться туристы
глазеть на историю,
и, может, поэты напомнят,
как было непросто!
А все-таки
мир переделывать – это здорово!..»
СИЛЬНЕЕ «ФАУСТА»
Бешеной пеной прибоя
в губах моряка – истерика,
вспузырилось воем
определение берега —
эврика!
Темной полоской материка —
эврика!
То ли Африка?
Европа или Америка?
Глинистый берег Евфрата?
Не знаю,
все равно эврикой
называются берега бесконечного рая
(иль ада).
В океане созвучий
эврикой —
Илиада.
В буреломе подъемов
эврикой —
время спада.
Берега тишины —
Герника, Хиросима…
Запах кожи твоей —
эврика керосина.
В песчаной пустыне паломник,
бархан излазив,
дрожащую синь фантазии
определил:
– О Азия!
Марево синего берега
желтой пустыни
(эврика!)
в сахарах вселенной звучит безнадежно:
– Оазис…
В Кара-Кумах у полусоленого колодца Кыз-Кудук (что значит «Колодец Девушек») обитал в саманном дворце косой старик с тихой старушкой. Семь дочерей – в разных концах области. Восьмая ушла в другие пустыни с гидрогеологом Шайтан-беком. Моим другом. Наша партия работала неподалеку – мы с ним часто заезжали на Кыз-Кудук попить соленого чаю. Помню местное поверье: напьешься из колодца Кыз-Кудук, конец, сыновей не будет. Родятся у тебя одни дочери, но зато много. Мы тогда ничего не боялись. Старик шепелявил. Я допытывался, как он относится к этим слухам.
– Шлюхам?– переспросил он свирепо.
…Бог требует внятности
и простоты изложенья,
точнее – не просьбы о милости,
но предложенья.
К примеру,
селянин безумствует:
– Боже, хочу орать!
– Ну и ори!– разрешает бог,
не понимая древнее рекло.
– Косить хочу! Пошли мне литовку!
– Ну и коси. И литовку можно.
Окосел крестьянин.
Явилась литовская женщина.
То ли богом посланная,
то ли кем-то сосланная,
не то чудь,
не то жмудь,
но красивая —
жуть!
А земля сохнет,
коса – без дела.
Старик злобно щерится:
– Ниспошли дождь!
Всевышний опять не расслышал,
расщедрился —
послал ему (боже!)
восьмую дочь.
Посеешь просо – пожнешь вопросы,
такова поэзия,
в вот – проза:
восьмая дочь произросла в пустыне,
коса – ручьем,
в глазах озера стынут,
и льется речь,
как речка,
по губам.
Заметь еще и море
обаянья,
души разливы!
Девочка Баяна
такую жажду источала там.
Ох, раскосая литовка
расцвела в песках,
и слова мои,
как слуги,
ходят на носках,
кланяются ее слуху.
А Шайтан не так,—
он кричит, как на старуху,
и она
как мак.
А селянин смотрит косо,
а старик орет —
дочка дьяволу вопросы
скромно задает.
Рвутся ситцевые сети,
кожа – смуглый лен.
Сатана готов ответить —
до того влюблен.
А вопросы не простые,
но ответы—
да!
Убегает из пустыни
дочка навсегда.
– Помнишь, где-то в Ханаане
в старые года,
посохом бурили камни
и пошла вода.
Но тогда бурили боги,
нынче – сатана,
безо всякой ласки,
с бою
достает до дна,
мимо альба до карбона
скважина —
а там!..
Вырос высотой
до бога
над песком фонтан.
Высотою в двадцать метров,
толщиной – в обхват,
как береза,
белым смерчем —
в небо
водопад!
…Дед просил тогда у бога
не восьмую дочь,
для земли своей убогой
благодатный дождь.
Чтоб росло на соре[42]42
С о р – солончак (к а з.).
[Закрыть] просо —
как же без пшена!
Но услышал его просьбу
смуглый сатана.
Ввел в пески,
как в промокашку,
гул подземных рек,
он исправил ту промашку
хитрый Шайтан-бек.
Поменял слова местами —
дал пустыне дождь,
и забрал, смеясь, у старых
их восьмую дочь.








