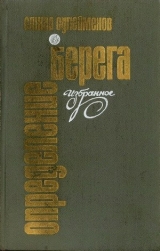
Текст книги "Определение берега"
Автор книги: Олжас Сулейменов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
1967-1969
ТРИ ПОКЛОНА«Традиция ислама запрещала…»
Я вычитал в одном угрюмом доме,
где и сейчас живут мои знакомые,
слова готической старинной саги
на серой стали аламанской сабли.
Горбатое зазубренное лезвие
в крутой резне истерлось,
буквы слиплись,
но кровь не смыла смысла рифмы
«лебен —
либен».
Поэты древние,
не забывайте нас,
я ухожу по городам и саклям
за доброй рифмой
на избитой сабле,
на хрупких горлах
потемневших ваз.
Уже рифмуют «ливень —
Кара-кум»,
пусть это непонятно дураку!
Уже созвучья «белое» и «черное»
встречаются на дальнем берегу.
Луна моя, не гасни,
освети,
я разберу,
прочту, чужие знаки,
поэму неба —
черную бумагу,
копирку
в строчках Млечного Пути.
Восход или Закат над человеком?
Мой век разбит на сутки и часы.
Но помню —
миг бывает равен веку,
когда взойдет созвездие Весы.
И в этот миг —
удар, удача, визги!
До дна опустошенная обойма.
Мгновенная,
слепая слава воина
доступней мне
бессмертья летописца.
Восходы алые иль вечера?
Грань благородства
или благородия?
Смешеньем красок Завтра и Вчера
мы рождены,
пределы – наша родина.
Есть мысли, не доступные
для мозга,
и рань такая, что граничит
с поздно,
есть в каждом звуке
тишина, как праздник,
как свет бесцветный,
сплавленный из красок,
И это что-то, не смеясь,
не плача,
не объясняя и не торжествуя,
живет в природе, ничего
не знача,
я счастлив —
значит, Это
существует.
Все больше нас выходит
из раствора
обидой взбаламученных племен,
идем землей,
проходим сквозь заборы
величественных родовых имен.
Весы торчали в этом небе
разно,
светящим колоколом
и столбом,
они – знамения беды
и праздника,
Весы опять восходят над тобой.
Земля,
такою я тебя увидел,
Земля, неощутимая на вес,
меня никто пока что не обидел,
несчастлив?
Да, пока не надоест.
Рождается еще один высокий
Миг
В мире нашем, ждущем перемен,
Ты чувствуешь —
от запада к востоку
мир человечий привстает с колен!
Ты чувствуешь,
вновь шевельнулся разум,
залило книги краскою стыда?
Не говори, что мы идем туда,
где сбудутся проклятья черноглазых.
НЕ ЖДИ
Традиция ислама запрещала
описывать в стихах тело женщины
выше щиколотки и ниже ключицы.
Однажды этот запрет был снят,
и поэт Исламкул сказал следующее:
Аллах запрещал нам словами касаться
запретов.
Ланиты, перси описаны сонмом
поэтов.
Хотело перо приподнять, как чадру,
твой подол.
Описывать бедра твои
я испытывал долг.
Довольно – джейранов
и черных миндальных зрачков,
и косы-арканы,
и луны,
и сладостный лал!
Я нищему строки о муках своих прочитал,
и нищий заплакал, и обнял,
и денежку дал.
И вот – наконец!
Ликуйте, поэты!
Настали блаженства века.
Жена, раздевайся!
Смотрите,
свобода – нага!
«Ужели дозволено ныне писать обо всем!»—
спросил христианин,
ответ был приятен, как сон.
Вперед,
мое сердце!
Отныне все будет иначе.
Народ мой несчастный узнает,
как пахнут удачи.
Теряю я разум последний
от радости страшной,
теперь я предамся в стихах
необузданной страсти!
Кумирни обрушились.
Славьтесь,
благие порывы!
Мы идолов страха с размаху бросали с обрыва.
«Свобода!» – кричал я в сердцах,
допуская загибы.
На радости шапку сорвал
и на крышу закинул!
…И вот уже годы прошли.
Я забыл о стихах,
все лезу за шапкой своей.
Не достану никак.
ПРОЩАНИЕ
1
Бродят в сумраках косые,
тощие дожди,
по лесам проходят злые, тонкие дожди.
По Нью-Йорку кадиллаком
проплывает дождь,
за окном залитым лает на прохожих дог.
И сияют, как отели,
горные дожди,
И бушуют, как отеллы, черные дожди.
2
Слушай сказку Аль-Темира
о делах вражды:
Закурили трубку мира
у костра вожди.
А костер дышал в тумане
пламенем пустынь,
и сидели атаманы,
плача, как кусты.
И по лицам их стекали
белые дожди,
говорили не стихами,
говорили так:
«Кто в пустыню эту бросит
шлепанье подошв?
Кто согласен?»
Слово просит
океанский дождь.
Он в песок вонзает бивни,
словно якоря,
и обильней летних ливней
слезы дикаря.
Бьется серебристой рыбкой
в неводе дождя
белозубая улыбка
моего вождя!
Если хочешь – будь счастливой,
буду страшно рад.
Хочешь? Хочешь! Мое слово
может вызвать град.
«Были такие витязи…»
Молчит мой зал.
Что мог, я рассказал.
Молчат седые, бритые,
обросшие.
Ну, так вставай
из добрых кресел зал,
иди в буран.
Всего тебе хорошего!
Хорошего, не злого табака
для ваших долгих трубок,
капитаны.
Хорошей вам вселенной.
А пока
хороших снов, хорошего питанья,
квартир хороших,
куханок и ванн,
ковров!
В соседа вам – друзей надежных.
Вот женщина.
Детей хороших вам,
а мужа вы
хорошего найдете!
А вот – шофер.
Он в думах о резине,
чабан – угрюм —
подходит срок окота.
Я думаю:
Хорошей вам работы!
Хорошей вам Америки,
России!
Эй, мальчики столицы
и провинций!
Хороших вам поэтов
и провидцев!
Любите,
понимайте
хорошо
друг друга,
члены будущих правительств!
Про то – мечтайте,
думайте – про это,
живите
хоть немного осторожнее!
Живите завещанием поэтов:
они желают вам
всего хорошего!
ВСТРЕЧА С БОЖЕСТВОМ
Были такие витязи.
Увидев женщину, слали с гонцом Послание Знакомства
и сидели в крепости, ожидая войны или мира.
Образец послания мне любезно предоставил Н-ский музей.
Слава, женщина, Вам.
«Что приятно для сердца;
прекрасно для глаз»,—
так сказав мой великий прадед,
известный миру отвагой и красноречием.
О себе я скажу стихами:
В одиночку не ходил на пир,
за двоих и яд
и сахар пил.
Если уставал я на войне,
знал, что враг мой
уставал вдвойне.
Дважды слов своих не повторял,
попусту не вынимал кинжала,
находил всегда – что потерял;
только то я брал,
что мне судьба давала.
Этого довольно, чтобы верить.
Прочитайте, повинуйтесь мне.
Я согласен отпереть вам двери
в полночь,
когда месяц на стене.
Будет все, что б вы ни захотели!
Если надо, пригласим ходжу.
…В общем, приходи;
поговорим о деле;
что-нибудь смешное расскажу.
АЗ ТЭ ОБИЧАМ
Где можно говорить
о голоде и ветре!
Где – шину проколоть
на каждом километре
осколками тысячелетних вер!
В Индии, например.
…По улицам Дели бродит худая корова.
Красная, грязная лента
свисает с левого рога.
Белым бетоном запита улица —
ни травинки,
лежит на спине проспект
как длинная простыня —
ни души, ни кровинки.
Жара потому что.
Корова жует страницу газеты
«Таймс оф Индиа».
Наши стихи и портреты.
Римма и Мирра.
Как зеркало – я между ними,
внук скотоводов известных
от Оно до ныне.
Буренка с трудом поглощает
волнующее известие,
набычившись смотрит
влажным воловьим глазом,
«Неужто приехал?»
Вижу, не верит, бестия,—
событие лезет в желудок,
минуя разум.
Корова, свернув с магистрали,
минуя клозеты,
ткнув рогом калитку,
вступает в запущенный дворик.
Две чахлые розы —
пикантной приправой к газете,
галантный подарок пожеванным дамам.
Вдруг: «Воры!»
Хозяин проснулся, атанда!
Смывайся, корова.
Мелькают кальсоны,
рви когти и будь здорова!
Толкаю – иди же, корова,
ведь дело сделано,
я их задержу, не позволю пинать —
может, стельная.
Ногами – в живот,
все равно что поэтов бить!
Богиня Изида коров завещала любить.
Не бойся, за нами Египет
с Аккадом и Хеттами.
Беги по проспекту!
До встречи!
Следи за газетами.
МАТЬ
Пьянее черного вина
чужого взгляда,
мне для гармонии – она,
а ей не надо.
Мне до свободы нужен шаг,
а ею пройден;
она предельна, в падежах,
я только – в роде.
Она в склонениях верна;.
я – в удареньях,
так выпьем темного вина
до озаренья,
поищем горькой черноты,
чтоб излучиться,
событью нужен я (и ты!),
чтобы случиться.
И разве не моя вина,
что не случилось.
И разве не моя вина —
не получилось.
И разве не моя вина —
не сделал кличем:
аз тэ обичам,
я люблю,
аз тэ обичам.
Перемещаются во мне
шары блаженства,
подкатывает к горлу ком —
знак совершенства,
скажи негромкое:
жаным, аз тэ обичам.
Подай мне руку,
есть у нас такой обычай…
В Болгарии есть памятник матери поэта Димчо Дебелянова. На каменной завалинке сидит, подперев «щеку, старушка, окаменевшая от горя. Он был самым застенчивым парнем в селе. И оказался самым бесстрашным на войне. Был самым незаметным, стал самым славным. Это – мамо:
ПОСЛЕДНИЕ МЫСЛИ МАХАМБЕТА, УМИРАЮЩЕГО НА БЕРЕГУ УРАЛА ОТ РАНЫ
– Если ты человек, сотвори себе имя,
и, быть может, оно
станет символом племени,
молодым и угрюмым,
как вечная ива,
что склонилась
над холодом быстрого времени.
Путь – всегда далеко,
труд – всегда нелегко.
В жадный рот я толкаю
набухшее вымя,
я в тебя погружаю свое молоко,
будь большим, наконец,
сотвори себе имя.
Только как, я не знаю,
советов не дам.
Твое имя не здесь —
где-то там,
где-то там.
Когда смерть захохочет и плюнет
в глаза,
когда друг упадет на траву,
как слеза,
когда все пути повернут —
назад,
о, тогда я сумею тебе подсказать:
«Будь нескромен, сынок,
ты огромен, сынок.
Встань под взглядами дул,
пусть увижу —
ты СМОГ!»
И тогда, ой, легко будет мне сказать,
указать на тебя,
на себя указать:
«Этот скромный юнак,
он и вправду – казак,
эта старая женщина– -
его мать».
Так запомни, сынок,
где б ты ни был,– везде
будь
заметен
в БЕДЕ.
А когда над долиной -
свинец не свистит,
когда время ползет
и твой век
не летит,
люди пляшут, не плача,
смеются без слез.
Когда девы не прячут
поспешно волос,
когда робкие парни
гордятся собой,
будь тогда незаметен
застенчив, сын мой.
К0ЧЕВНИК
Мне удивительно: когда я весел,
что ни потребуется – все дают,
когда захочется унылых песен,
мне их с великой радостью поют.
Бываю рад, и все —
бывают рады,
я убегу, и все
за мной в кусты.
Когда в жару я вижу дно Урала,
мне кажется, что все моря пусты.
И потому, когда кочевье выманит
все мое племя,—
я один пашу,
когда никто не смеет слова вымолвить,
мне рот завяжут —
я стихи пишу.
Эх, если бы сказали мне:
«Великий,
прости людей, уже пора – простить,
мир будет счастлив
от твоей улыбки!»
Тогда бы я старался не грустить.
Сказали бы смущенные мужчины:
«Моря полны водой, пока Урал
не высохнет.
Пока ты жив, мы – живы…»
Тогда бы я, клянусь,
не умирал.
ГАДАЛКА
Я отправился в дальний путь,
я запомнил такой закон:
если хочешь,– веселым будь,
только прежде стань стариком.
Хорошо под луной старику
и под солнцем ему хорошо —
похохочет в глаза врагу
и согнет он его в дугу,
и сотрет он его в порошок.
(В каждом дома ждет меня чай,
одеяло и теплый хлеб,
и объятие невзначай,
если муж глуховат и слеп.
Каждый рад мне руку пожать
и спросить о здоровье коня,
мне бы так людей уважать,
как они уважают меня).
Глазки бегают, словно ртуть,
надоело – с таким лицом:
если хочешь,– унылым будь,
только прежде стань подлецом.
И качается, долгий путь.
(И шатает меня закон:
– Если вспомнил кого-нибудь,
запечалился вдруг о ком,—
бей в свой правый висок
кулаком,
бей в свой белый висок
кулаком.
Бей великим ножом
в свою грудь.
Упади,
умереть не забудь).
КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА
Зайди в мой дом,
со мною подыши.
Открой себя, как открываешь двери,
сними одежды пыльные с души,
доверясь так, чтобы тебе доверить.
Если плясун, зачем стоять?
Спляши!
Пусть рухнет балка
над моей гадальней.
Если поэт —
прочти мне для души
дастан Саади о дороге дальней.
Ты возбуди во сне угасший дух,
зачем огонь моих огромных окон?!
Где жив один,
найдется жизнь для двух,
не обойди тот дом, где одиноко.
Жаворонок:
«Мама, слышит только ястреб
песенку мою».
СТАРИК С РУЖЬЕМ В УЩЕЛЬЕ
Есть у меня особые слова,
они сидят, нахохлившись, как совы,
в душа моей,
в крови моей бессонной,
и просится еще одна сова.
Я раздарил бы их,
но кто возьмет?
Всегда желанны соловьи горластые,
еще один бесшумный, темный год
летит в меня…
Теперь скажу о ласточке.
Ей провода под током – нипочем,
летит она над красным кирпичом,
над крышами Казанского вокзала,
спешит догнать, сказать,
что не сказала.
И унеслась, пронзая строй ладов,
и крылья, как раскинутые руки.
На проводах сидят ее подруги.
Как много над вокзалом проводов.
И будет мне дорога далека,
и каждый полустанок,
как – Казанский…
Развалины моих воздушных замков
напоминают эти облака.
ЭМИЛЬХАН ХАЗБУЛАТОВ :
Из-под елей горелых доносится голос елика[20]20
Е л и к – горный козел.
[Закрыть],
потерявшего мать,
этот свист опаленных древним пожаром
птиц.
Лес давно отчернел,
и уже зеленеет трава,
в мураве зачинается жизнь недовольных ежей,
у ручья – ежевики густые кусты
и малинник.
И еловые корни бегут по земле
и над ней —
никуда не уйти от земли.
Разве в небо бежать…
Ты лежишь на дубовом прикладе ружья
щекой,
и морщиниста, словно кора,
щека
старика,
суковата рука, обожженная жаром гор,
гладишь бороду, словно бороду бога,
этой рукой.
Где-то там на лопатке,
ужаленной слоем тепла,
щекочет кожу живой одинокий нерв,
нельзя почесаться спиной о пенек:
слышишь плач
одинокого малыша, потерявшего мать!
Шевельнулись усы, и на шепот
сползаются думы.
Стариковских болезней, как видно,
приходит пора.
И не вдруг понимаешь:
вся жизнь твоя, будто – вчера
проплыла череда облаков
над горами седыми.
И лежать бы, лежать…
пусть щекочет лопатку нерв.
Наблюдать —
солнце к небу, словно лепешка к тандыру,
прилипло,
и сквозь дрему послушать
ручья одинокие всхлипы.
Это солнце оставить в наследство
навечно своей спине.
Наследство?.. Ах, да…
Это след у ручья пред тобою.
Он вчера приходил,
но вернется ли вновь к водопою?
Протяжно, лениво пахнет сырая земля отручья.
Как пересохшее русло,
пусто дуло ружья,
блик солнца прощупал
корявую вену на левой руке,
старый сутулый палец
уснул на теплом курке.
Плачет все ближе
в малиннике маленький елик,
и зарастает травой
обгорелый ельник…
– Вблизи чеченского села Бамута
найден самый древний в мире котел.
ДЕКАБРИСТЫ
– Вы знаете, где озеро Козуна ?
– Не знаю. Где?
– Там, где парит орел.
Все правильно, все верно,
все разумно —
кинжал искали,
а нашли котел.
Ребята-археологи копались
В земле Бамута и нашли,
подчеркиваю – не обломки палиц,
вейнаховский котел они нашли!
Когда-то в нем варилось
мясо тура,
он гостя выделял в семье
всегда,
он горд, когда он полный,
и сутулый,
казан мой, перевернут он когда.
Но он дошел до нас не перевернутым,
он устоял,
он полон был
землей,
землей Чечни, как кости перемолотой,
горячей, выкипающей землей.
Холмы, холмы,
о горы моей родины,
как опрокинутые казаны…
Н. Ровенскому
«…В эпосах неслыханных, китовых…»
I
В тех церквах молчат исповедальни.
«Любопытство заменило веру,
римскую империю – Италия»,—
говорят революционеру.
Толпою входим в крепости и в тюрьмы,
«Здесь царь сидел на нарах,
как простой».
Пустая, неразрушенная штурмом,—
что может быть страшней
тюрьмы пустой,
«А здесь родился вождь былых восстаний».
Горшок вождя, подсумок
для калош.
В шкафах – несбывшиеся предсказанья.
Так объективной правдой стала ложь.
Так преломилось время в нашей призме —
эпохи олимпийских революций прошли,
настали времена туризма.
Дни пасмурны в музейных городах,
как в исполинских полутемных залах,
молчит гранит на серых площадях.
Зато отчаянно живут вокзалы,
выбрасывая жирную толпу,
полки самоуверенных туристов,
не знающих обычаев табу,
ни цен на памятники
исторические.
II
О, город – сын поэм и поздних бурь!
Романтику легко стать ретроградом,
иду, иду в твой зимний Петербург,
хочу пройти весенним Петроградом —
пасхальную увидеть карусель,
услышать: «Что-то новое воскресе!»
И там, где вечно на приколе крейсер,
кормить французской булкой карасей.
Увидеть лица гипсовые, впалые,
воротников крахмальные ошейники,
манжеты, словно белые кандалы,
под черными крылатыми шинелями.
Великих критиков граниты финские
молчат на площадях и смотрят слепо.
Ушел весь мрамор петроградских фидиев
на плиты гробовые и на склепы.
На карте времени
я укрупню масштаб,
чтобы увидеть главное
попроще —
жить на Конюшенной,
глядеть с моста,
не быть прохожим на Сенатской
площади.
АКТЕР И НОЧНОЙ ГОРОД ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ
…В эпосах неслыханных, китовых,
в тугоплавных ритмах многотонных,
с доброй монотонностью-прибоя
не воспета ль птица Raja Bhoja?
Не соврет, не открывая пасти,
не простит мой мудрый головастик,
атлантический молокосос,
первый звук китовой речи знаю —
это SOS.
Дух Великий!
Бочки интеллекта.
Мозг его возили на телегах.
Плавает он,
как огромный кус —
амбра, сало и какой-то ус.
Жаль, икру китовую не мечет.
Что в 2000-м он молвит человечеству?
Было ль наводнение, потоп?
Мы потопли. Что было потом?
…Я распластан на твоем горбу
меж тобой и острием посредник.
Ты снишься мне – нас бьет один гарпун,
последний, верь,
он всякий раз – последний.
НАЗЫМУ ХИКМЕТУ
Притворяется мост
черной радугой,
притворяется лондонским
дождь.
В ладоши стучат.
А не радует:
это шлепанье мокрых подошв.
А болезнь притворяется гриппом;
эта женщина – недоступной.
Отворяется дверь со скрипом,
закрывается дверь со стуком.
Человек притворяется штатским,
но не очень, а так,
на пятак.
Притвориться бы принцем датским!..
Посоветуйте, штатский,
как?
Согласитесь, талант – притворство.
Как же грустному притвориться
Грустным?
Видите эти лица?
В них отчаянное упорство.
Эти будут, уверен,
грустными!
Эти в принципе не отступят!
Обнимают они – до хруста,
и садятся на стул со стуком!..
Мы несчастны, и вам это нравится,
о, оно снисходительно, зло.
Мы угрюмы, чтобы вам было радостно.
Мы печальны, чтоб вам повезло!
Надоело играть до смерти,
дверь свою отворяешь,
как вор.
Спишь.
И снятся аплодисменты.
…Во дворе кто-то палкой выколачивает
ковер.
«Когда смерть наступает, – беги, беспощадна она, как любовь»,– по-видимому, сказал Али-бей, прощаясь с женщиной Аллой. Он звал ее именем бога – Алла́.
ВОЛНА У КАМНЯ СААДИ
Алла́,
куда мне податься?
Рассвет – это поздно иль рано?
Все стихи – в чемодан, в Хоросан,
к черным фарсам в Иран!
Я писал о любви,
как писали поэты Ирана.
Их взводили на башни
и сталкивали
по утрам.
В Лондон? Холодно.
А Париж? Кружева и зеленые статуи,
и опять
кружева, кружева, кружева,
города, города
и вода под мостами старыми,
реки, женщины и Москва.
В Миссисипи я плавал,
в Амазонку бы прыгнуть с пираньями:
ты – по грудь и по горло,
кричишь по-индейски – ав-ва-а!
…Струи пара восходят над Волгой весенней
спиралями,
кружева, кружева облаков над тобой,
ах, Москва!
Книги, пыльные книги,
как вымершие языки,
я с тобой говорил на забытых
ничтожных наречьях,
(может, мой чемодан заберут на баркас
рыбаки?..)
Языки эти были, клянусь, о Алла, человечьими.
Я тебя собирал по клокам,
по слогам,
по словам,
ты – в томах,
ты – в брошюрах, не тронутых костяными
ножами,
я тебя увезу далеко-далеко по волнам,
всю —
от сказок до книг,
над которыми плачут ночами.
Ты у горла – всегда,
ты у крика всегда на пути,
твое имя, Алла,
словно первое слово корана,
я кричал о любви, как не снилось поэтам
Ирана!..
Я молчу.
Я люблю.
Никуда от тебя
не уйти.
На берегу Средиземного моря торчит из песка камень. У этого камня, по преданию, останавливался на минуту Саади. К этому камню раз в году приходит, обогнув землю, волна, которая его видела.
СЛЕДЫ
У финикийских гор
Она прошла,
между столбами Калпе и Абила,
о камни Нэгро
губы обожгла,
в Бискайе, злая, корабли топила.
Суденышко качнула, словно
люльку,
спокойно сбила
паруса огонь,
и алая фелюга, словно флюгер,
крутнулась
и простилась с рыбаком.
А он цеплялся за ее бока.
Не за себя —
за рыбака просила
фелюга!
Красный траур кушака
волна на камни молча выносила
и наблюдала —
закричат они?
Иль промолчат
закутанные женщины?
Ей не забыть тот берег
обесчещенный
И факелов случайные огни.
И женщину по имени Шамхат,
ту, что стареет у скалы базальтовой,
ту, что приходит на берег в закат,
не забывай, моя волна,
пожалуйста.
Она была похожей на волну
веселую,
как острый край платка.
Не забывай ту женщину,
одну.
Запомни, как поэта,
на века.
Душа волны туманами восходит,
бескровными на юге
облаками —
упругими фигурами восковыми,
спокойными пустынными богами.
Волне возможно
возвратиться с неба,
когда б в раю ей плавать
надоело
пролиться ливнем,
и растаять снегом,
и воплотиться вновь
в морское тело.
А рыбаку? Его ты утопила.
Играя и лаская, утопила.
В его раю – песчаная пустыня:
ему моря при жизни опостылели.
Он там остался,
но случится чудо —
вернется он на землю
лишь арабом —
плевать в песок,
кататься на верблюде,
молить аллу о самом мокром рае.
И, может, я когда-то был корсаром,
ел солонину
и тонул в воде,
теперь живу я в самом ярком, в самом
безводном крае,
где уныло, где
вараны ползают, как крокодилы,
верблюды – динозаврами в степи.
Но
я вернусь в моря,
где проводил я
фелюги,
ты меня не утопи,
бездельница,
зеленая,
литая,
с большим цветком медузы
на груди,
лети, пенорожденная,
взлетая,
фелюги, словно флюгеры,
крути.
Устань в пути,
плыви в заливы Сайды,
(орлами на плече
качнутся катера)
и теплыми ладонями Саади
погладь, волнуясь, женские тела.
«Над белыми реками стаи летят…»
Безусловно,
след вот этот —
твой.
Тысячи следов, чего бы ради!
Птичками на белой мостовой,
словно на полях моей тетради.
…Символы моих ночных ошибок,
синие, как на лице ушибы…
Отыщу в толпе лицо любимое,
в словарях найду слова хорошие,
как собак – дорогами избитыми —
за город на свежую порошу,
на поля, от злых пометок
чистые,
там, где снег невеждой не зачитан.
Может, ты лисинкой рыжей —
в горы?
Может быть, волчинкой синей —
в соры[21]21
С о р (каз.) – высохшее соленое озеро.
[Закрыть]?
Может, куропаткой белой-белой
крестики по снегу раскидала?
Улетела тихо за пределы,
в жирные шиповники Китая?
И уже кресты ведут обратно,
в стороны, в обрывы,
в ямы, в горы —
черные вороны для порядка
проходили по полю проторенному,
протараненному, раненому снегу,
смятому, истоптанному страшно.
У крестов вороньих
о тебе я спрашивал,
и кресты мне отвечали:
«Нету».
Снег идет, следов
не оставляя.
Над белыми реками
стаи
летят,
как черные хлопья
сгоревшего лета,
летят, развеваясь,
как черные ленты,
летят мои утки,
куда захотят.
Озера соленые, сладкая тина,
чебак африканский,
негорький,
бескостный!..
Мне кажется–
с медленной стаей утиной
покинула родину Птица Спокойствия.
И сизые перья осели на реки,
ушла, я боюсь, что устанет, устанет,
останется там,
где навеки, навеки
я сам бы остался.
Наверно 6, остался.
…Весною восходят они
Из-за гор,_
лучами тяжелыми,
первые клинья,
устало вонзая потертые крылья
в прозрачный и вязкий
воздушный раствор.








