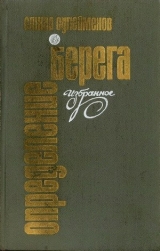
Текст книги "Определение берега"
Автор книги: Олжас Сулейменов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Есть ли народ, который заставит мир склонить голову?
Но есть народ, который заставил человека поднять лицо к палящему и дождливому апрельскому небу.
СЛАВА ТОМУ НАРОДУ!
Апрель, 1961
1961–1962
ЯБЛОКИЛ. Мартынову
ПЕЙ
…Приехал я в край,
где лишь пихты и ели,
где ели от тяжести неба присели,
где между стволами
ветры белели,
их называли так нежно: «метели»…
В землянку вошел (называли
«забоем»)
вошел, полметели втащив за собою,
недобро, вполглаза меня осмотрели
мужчины лохматые, как метели.
Я сел возле печки,
где буры и дрели,
лежали недвижно четыре недели,
ладони погрел,
рюкзак развязал —
и все повернулись,
и все посмотрели.
Откуда вдруг солнце
в холодней землянке?
Это теплее печки-времянки
вспыхнул румяный,
сияющий запах,
и люди привстали на войлочных лапах.
Мужчины, лохматые, как метели,
злые на все за четыре недели,
в грубых ладонях яблоки грели,
яблокам в щеки,
как детям, смотрели —
арыки, ущелья, проспекты, аллеи!..
Мама, в саду так не пахли они,
как в эти таежные зимние дни.
«Почта, почта проклятая виновата…»
Десять лет тому,
иль сотни лет?..
Хруст салфеток,
мягкий блеск фарфора.
Все встают,
в бокалы льется свет,
на стене краснеет тень узора.
Все стоят. Все ждут:
мы молча пьем,
торопливо, жадными глотками.
Горько! И посуду – кверху дном.
Слезы – рукавами,
не платками.
…Через сотни иль десятки лет?..
Хруст салфеток, мягкий блеск фарфора.
Все встают.
В бокалах тот же свет,
жизнь не может длиться без повтора.
Все стоят, все ждут.
Сейчас, сейчас…
Сколько мы гостей к себе назвали!
Раньше вас,
я выпью раньше вас!
Пусть вино меня, как раньше, свалит!
Где-то ты стоишь
бледна, бледна.
Может быть, ты вспомнишь
наш обычай.
Пусть вокруг – они,
Но ты – одна
выше всех
улыбок и приличий;
пей, не жди,
пусть – к черту этот пир!
Одинокий миг не потревожит
новый мир.
А прошлый?
Прошлый мир
на мгновенье раньше нами прожит.
ВОЛЧАТА
Почта, почта проклятая виновата.
Ты мне пишешь, я знаю,
ты пишешь мне каждую ночь.
Клеишь авиамарки,
бежишь до угла,
я не знаю,
почему эта почта
два года не хочет помочь!..
Я вернусь —
восемь суток на самом курьерском,
быстро ли?
Оторвусь хоть на час,
навсегда,
чтоб найти нашу дверь,
и стучать кулаками,
и ждать, замирая,
как выстрела,
щелк замка.
Я приеду,
умру, но приеду
теперь.
И клянусь,
если стала еще красивей за два года,
если я не узнаю
твою задрожавшую речь…
Береги тебя бог,
в этот миг я поверю в бога,
береги тебя бог,
если я не сумел сберечь.
ДОГОНИ[2]2
Шел человек.
Шел степью долго-долго.
Куда? Зачем?
Нам это не узнать.
В густой лощине он увидел волка,
Верней – волчицу,
А вернее – мать.
Она лежала в зарослях полыни,
Откинув лапы и оскалив пасть,
Из горла перехваченного плыла
Толчками кровь,
Густая, словно грязь.
Кем? Кем? Волком? Охотничьими псами?
Слепым волчатам это не узнать.
Они, толкаясь и ворча, сосали
Так странно неподатливую мать.
Голодные волчата позабыли,
Как властно пахнет в зарослях укроп.
Они, прижавшись к ранам, жадно пили
Густую, холодеющую кровь.
И вместе с ней вливалась жажда мести,
Кому?
Любому, лишь бы не простить.
И будут мстить,
В отдельности и вместе.
А встретятся – друг другу будут мстить.
И человек пошел своей дорогой.
Куда! Зачем!
Нам это не узнать.
Он был волчатник.
Но волчат не тронул —
Волчат уже
Не защищала мать…
Национальная игра. Юноша, догнавший в скачке девушку, должен её поцеловать.
[Закрыть]
«О конь!..»
Догони меня, джигит,
Не жалей коня, джигит,
Если ты влюблен и ловок.
Конь догонит, добежит,
Я люблю тебя, джигит.
Догони же,
Поцелуй,
Голос от стыда дрожит
Среди этих звонких струй.
Меня ветер обгоняет,
На груди моей лежит,
Обнимает, обнимает,
Ой, опять отстал, джигит!
Издевается луна,
Я одна,
Опять одна,
Мои руки побелели.
Кровь по крупу скакуна,
Злые люди,
Злые люди,
Вы обидели меня.
Дали смелому джигиту,
Дали смелому джигиту
И красивому джигиту
Ишака,
А не коня!..
АРГАМАК
О конь!
Он гогочет, как гусь,
Он бушует бурой[3]3
Б у р а (каз.) – верблюд.
[Закрыть].
Бурлящий горный поток
Не сравнится с его дыханьем.
Я печень врага
увидел в своих руках,
Табун украду и отдам
За коня вороного.
О зад вороного.
Как черное сердце, округл!..
Стокосые девы
От зависти горько плачут.
Их сладкие груди
Страхом и страстью полны.
Я молод и беден,
Я сыт этой жизнью
Собачьей.
Я хана в раба превращу
И сломаю хребет!
На тело его помочусь,
Без молитвы зарою!
До синего моря с мечом
Без щита пролечу,
Отдай! Не отдашь – украду
Жеребца вороного!..
ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ СЕРДЦЕ ?
Эй, половецкий край,
Ты табунами славен,
Вон вороные бродят
В ливнях сухой, травы.
Дай молодого коня,
Жилы во мне играют,
Я проскачу до края,
Город и степь
Накреня.
Ветер раздует
Пламя
В жаркой крови аргамака,
Травы
сгорят:
под нами,
Пыль
И копытный цок.
Твой аргамак узнает,
Что такое
Атака,
Бросим
робким
тропам
Грохот копыт в лицо!..
История наша – несколько вспышек в ночной степи.
У костров ты напета, на развалинах Семиречья, у коварной, обиженной Сырдарьи. Города возникали, как вызов плоской природе, и гибли в одиночку.
…Я молчу у одинокого белого валуна в пустынной тургайской степи. Как попал он сюда? Могила .неизвестного батыра? Или след ледниковых эпох?
Я стою у памятника Пушкину. Ночь новогодняя, с поземкой.
Я сын города, мне воевать со степью. Старики, я хочу знать, как погибли мои города.
РУСЬ ВРУБЕЛЯ
…Сырдарья погоняет ленивые желтые волны.
Белый город Отрар, где высокие стены твои?
Эти стены полгода горели от масляных молний,
Двести дней и ночей здесь осадные длились бои.
Перекрыты каналы.
Ни хлеба, ни мяса, ни сена,
Люди ели погибших
И пили их теплую кровь.
Счет осадных ночей майским утром прервала измена,
И наполнился трупами длинный извилистый ров.
Только женщин щадили,
Великих, измученных, гордых,
Их валяли в кровавой грязи
Возле трупов детей,
И они, извиваясь, вонзали в монгольские горла
Исступленные жала изогнутых тонких ножей.
Книги!
Книги горели!
Тяжелые первые книги!
По которым потом затоскует спаленный Восток!
Не по ним раздавались
Протяжные женские крики,
В обожженных корнях затаился горбатый росток.
Пересохли бассейны. Дома залегли под золою.
Можно долго еще вспоминать
О сожженных степях.
Только сердце не хочет,
Оно помешает мне, злое!
Чем тебя успокоить?
Порадовать, сердце, тебя?
…Чем?
Рыжий, кем бы я был, родись я немного раньше?
Юра, кем бы я стал десять пыльных столетий
тому назад?
Кровь, пожарище. Ур-р!
Я б доспехами был разукрашен,
И в бою наливались бы желчью мои глаза.
Я бы шел впереди разношерстных
чингизских туменов,
Я бы пел на развалинах дикие песни
свои,
И, клянусь, в тот же век, уличенный
в высокой измене,
Под кривыми мечами батыров
коснулся б земли.
На дороге глухой без молитвы меня б
схоронили,
И копыта туменов прошли бы по мне
на Москву,
И батыры седые отвагу б мою
бранили,
И, поставив тот камень, пустили б
стихи на раскур.
Простоял бы столетья источенный взглядами
камень,
Просвистели б нагайками добрые песни мои,
Оседлали бы горы,
и горы бы стали песками,
А вот Пушкин стоит.
О кипчаки мои!..
Степь не любила высоких гор.
Плоская степь
Не любила торчащих деревьев.
Я на десять столетий вперед
Вам бросаю укор,
О казахи мои, молодые и древние!..
Степь тянула к себе
Так, что ноги под тяжестью гнулись,
Так, что скулы – углами,
И сжатое сердце лютей,
И глаза раздавила ,
Чтоб щелки хитро улыбнулись.
Степь терпеть не могла
Яснолицых высоких людей.
Кто не сдался.
Тому торопливо ломала хребет,
И высокие камни валила тому на могилу,
И гордилась высоким,
И снова ласкала ребят.
Невысоких – растила,
Высоким – из зависти мстила.
Даже кони приземисты,
Даже волосы дыбом не встанут,
Даже ханы боялись
Высокие стены лепить.
И курганы пологи,
И реки мелки в Казахстане.
А поземка московская,
Словно в Тургайской степи.
Я стою у могилы высокого древнего
парня,
Внука Африки,
Сына голубоглазой женщины.
Собутыльник Парижа
И брат раскаленной Испании,
Он над степью московской
Стоит, словно корень женьшеня.
Я бывал и таким,
Я бываю индийским дагором!
…Так я буду стоять, пряча руки,
у братских могил…
Я бываю Чоканом!
Конфуцием, Блоком,
Тагором!
…Так я буду стоять, пряча зубы,
у братских моги л…
Я согласен быть Буддой,
Сэссю и язычником Савлом!
Так я буду молчать у подножия братских
могил…
Я согласен быть черепом.
Кто-то согласен быть саблей…
. . . . . . . . . . . . . . . .
Так мы будем стоять!
Мы, Высокие, будем стоять!
Попроси меня нежно – спою.
Заруби – я замолкну.
Посмотри, наконец, степь проклятая,
Но моя —
Все вершины в камнях и в окурках,
В ожогах от молний.
НОЧЬ СВЕРШЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ
Край росистых лесов
и глазастых коней,
россыпь рубленых сел,
городов изваянья,
и брусничные ночи,
и россыпь огней.
Рсссомашьи размашистые расстояния.
Жизнь – и выдох сквозь зубы,
и радость, и грусть.
Глупость осени. Шубы.
И русое небо.
И морозы.
И странные взгляды Марусь.
И хрустящие, хрупкие
щеки хлеба.
Я могу перечислить —
и весь мой рассказ
Русь – река под обрывом,
и это не мало.
Ночь июньская. Ивы. И месяц, раскосый.
Я, как ты, задыхаюсь,
когда обнимаю…
ЖАРА
Ночь.
Тепло.
На ковриках шепчут старики.
Месяц бровь приподнял,
Словно в удивлении.
Камни на стремнине
Бешеной реки
День и ночь свершают
Обряды омовенья.
Люди аллаху приносят
Дозволенные желания.
Люди настойчиво просят
Свершения ночных молитв.
Немного земного счастья
Вымаливают мусульмане,
В ночь Лейля-ули-кадр
Свет над землею пролит.
Пыль поредела на тротуарах,
Как борода.
Люди шагают.
Саманные стены мечети молчат.
Дети проходят мимо мечети,
Словно года.
В дряхлой руке минарета —
Гнутая тень меча.
Шелком чалмы развитой
белеет в траве арык,
Яблони моют корни
в седой воде,
В ночь Лейля-ули-кадр
Я, как старик,
По бетонным коврам площадей
Брожу и шепчу о тебе,
Да свершится мое желанье!
«…Одна война окончилась другой…»
Ах, какая женщина.
Руки раскидав,
Спит под пыльной яблоней.
Чуть журчит вода.
В клевере помятом сытый шмель гудит.
Солнечные пятна бродят по груди.
Вдоль арыка тихо еду я в седле.
Ой, какая женщина! Косы по земле!
В сторону смущенно
Смотрит старый конь.
Солнечные пятна
Шириной в ладонь.
«Бетпак-Дала…»
…Одна война окончилась другой,
Мой дядя, брат отца, ушел на фронт.
Ушел он добровольно? Я не помню.
Но помню – от бессонницы ушел,
От белых окон
И ночных испугов,
От резких-тормозов на повороте.
Он шел с мешком вдоль пыльного арыка,
А я бежал, цеплялся и просил
Взять в плен фашиста,
Если он не сдастся,—
Ударить шашкой,
Или так – на штык,
Или ногой в живот —
Пусть будет больно,
Порезать руки,
Чтобы крови хлестала…
Он сбоку поглядел в мои глаза,
Дед хмуро кашлял и плевал под ноги…
Все реже в домик приходили письма,
Потом пришло одно.
В нем говорилось:
Мой дядя пал хорошей смертью храбрых.
А я не понял,
И был счастлив я,
Увидев слово храбрый.
Дед не плакал.
Решил старик, застенчивый, угрюмый,
Проехать полстраны с голодным внуком,
Чтоб разыскать средь тысячи могил
Могилу сына.
Дед не разрешал
Сынам своим лежать в чужой земле.
Я помню – полустанок, зной,
бесхлебье,
Солдаты в пролетающих вагонах,
Разбитая земля, остовы танков,
Голодное ворье пустых вокзалов,
Сожженные деревья и коровы,
Разбухшие от порыжелых трав.
Я помню – реки, реки, реки,
Дожди, то моросящие, то ливни,
Стволы осин, дубов заплесневелых
И глина, глина, глина по колено.
Нам показали дядину могилу,
Она была за маленькой деревней,
Едва просохшей после серых ливней.
Над мелкой речкой – глиняный бугор.
Дед помолился, пожевал насвая,
А я глазел на глиняную землю,
Она была, земля, почти такою,
Как наша,
Только мокрой. Я запомнил.
Вокруг стояли жители деревни,
Одна из них казалась мне красивой,
С худыми, но румяными щеками.
И злая, как соседка. Я запомнил.
Мой дед не обращал на них вниманья,
Он снял бешмет и, обойдя могилу,
Вонзил лопату в глиняный бугор.
И женщины вдруг обступили деда,
Та, что была с румяными щеками,
Сказала. Я запомнил.
– Разве можно…
Здесь восемнадцать человек лежат.
Мой дед уже чуть понимал по-русски,
Он осторожно вытащил лопату,
Рукой погладил рану в черной глине
И вытер руку о сухой сапог.
Мы просидели день у тихой речки.
До темноты следили ребятишки.
Дед, плача, пел арабскую молитву,
А я гонял травинкой муравьев.
ХЛЕБНАЯ НОЧЬ
Бетпак-Дала
Всегда такая голая,
Что стыдно лошадям смотреть в глаза.
Моя кобыла,
Отупев от голода,
Не слышит повода,
Глядит назад.
Нет колеи,
Бетпак-Дала —
Доро́га,
Ой, дорого ей заплатил казах,
Пустыня —
От порога до порога.
Все сто дорог.
Вели его назад.
Размеренная смена поколений,
Спокойное широкое седло.
Скупое равнодушное движенье,
Укачивая,
Всадника вело.
Над головою
Раскаленный камень,
Пустыня взбешена,
Копыта высекают желтый пламень
Из белой глины.
НА ЛИВЕНЬ – С САМОЛЕТА
I
…Для иных —
Это песни,
Газеты,
Веселые фильмы,
Солнце всходит, заходит
За желтые горы зерна,
Край бездонного неба
И сказочного изобилья,
Для меня этот край —
Просто поднятая целина.
Край стандартных домов
И сырых полутемных землянок,
Край простуженных песен
И рева моторов стальных,
Древний край молодых казахстанцев,
Волжан, киевлянок,
Край, как пишут в газетах,
Живущий без выходных.
…Тьма и грохот,
И звезды над степью в пшеничной пыли,
И сухие валки
Шевелятся в стоваттном свете,
Те же длинные лица,
Чернее целинной земли,
Тот же запах солярки
И тот же сентябрьский ветер.
Хорошо?
Может быть.
Романтично?
Чудесно? —
Не знаю.
Где уж быть романтичности
В этой собачьей ночи?
Столько суток авралим,
А степь развернулась без края,
И штурвальный не слышит,
Хоть в ухо ему кричи.
Вы спросите его,
Если вы из районной газеты:
– Как работа? Как план?
Сколько выдано за день зерна?
Он угрюмо попросит
Махорочную сигарету
И кивнет на помощницу:
– Вот, растолкует она.
И опять за штурвал,
Рукава телогрейки наморщит,
Не мешайте —
Сегодня хорошая
Хлебная ночь,
Ровно-ровно работает валом
Усталый подборщик,
В бункерах оседает
Тяжелый пшеничный дождь.
О, не бойтесь
Нахлынувших, смелых,
Внезапных гипербол —
Эту землю не трогала
Тень деревянной сохи.
Плуг знакомого парня в тужурке
Считается первым.
Цифры – после,
Сейчас вы отдайте блокнот под стихи.
Так пишите скорее!
Свет фары достанет и вас.
Что?
Нетвердо перо?
И неровны тяжелые строки?
Но пишите! Пишите!
Мгновенье случается раз.
Пусть продлится оно
Через многие, многие сроки!
Мерно трактор ползет,
В бункер льется неслышно зерно,
Словно крохи холодной
Осенней росистой земли,
Опишите в стихах,
Как теплеет в железе оно!
Вы согрейте стихами
Озябшие зерна мои!..
II
Много разных прошло
Через нашу холодную
Степь,
Как богатый песок
Сквозь ковши промывальных машин,
В полночь – снег,
В полдень – зной
И уверенней ветер косой,
Ни дорог, ни домов
В бесконечной полынной глуши.
Приезжали под песни,
Круша каблуками перрон,
А ушли, как песок,
Кроме самых надежных парней.
Проверялся на людях
Великий научный закон—
Не набор,
Но отбор.
Так, сказали мы, будет верней.
Пусть художника после
Ругают за бедность тонов,
За тяжелые краски,
За скупость упрямой палитры,
Мы в жару не сменяли
Замасленных ватных штанов,
Мы, бывало,
И воду на сутки машине —
Пол-литра.
Грубо?
Да!
Если в холст упереться глазами
Вплотную,
То увидим лишь рытвины
Темных остывших мазков.
Отойдем и —
Клянусь! – мы увидим картину
Такую!..
Море яростных красок!
Море без берегов!
Люди, люди нужны,
Те, которые знают работу,
Те, которым плевать
И на грязь,
И на холод ночей,
Степь не может пока
Обещать материнской заботы,
Пусть же парни привозят
С собою заботу о ней.
Вы в горстях ощутите
Пожатье колючего хлеба,
Вы научитесь плакать
Над каждым сгоревшим зерном.
А какое у нас беспокойное синее небо!
Люди! Люди нужны!
Приезжайте, ребята!
Мы ждем.
III
Посмотрите,
Он встал,
Нет, он так же сидит за штурвалом,
Почернелый, усталый,
Ему бы на сутки прилечь.
Трактор так же ползет,
И подборщик ворочает валом,
Но какую-то резкость
Я вижу в движениях плеч.
Трактор так же ползет,
Но все медленней полнится
Бункер,
Вдруг подборщик мотнул
Вхолостую глухой оборот,
И тогда он привстал,
Потянулся, как после побудки,
И спросил, улыбаясь:
– Ну, как, не уснул мой народ?
Тракторист пил из кружки
Холодную черную воду,
В ней плескалась луна,
Растекаясь по мокрым губам,
Мы по ветру гадали назавтра
Сухую погоду,
Отсылая дожди
Асфальтированным городам.
Мы закончили поле,
Другое легло перед нами,
Нам настала пора
Оглянуться на пройденный путь.
Каждый день,
Каждый час
Мы сдавали труднейший экзамен,
Мы устали порядком,
Кто хочет передохнуть?
Мы закончили поле,
Другое легло перед нами.
Кто согласен
Сегодня на этом гектаре кончать?
Тракторист,
Заводи!
Пусть луна, как светящийся камень,
Освещает нам путь
По глубоким осенним ночам!
«Париж!..»
Может быть, над океаном дождь,
Но внизу проклятье желтых глин,
Каспия неполный; горьким ковш
У горячих губ моей земли.
Ржавые сухие облака,
Словно взрывы жажды неземной,
Волнами зарезанный закат,
Весело дымя, летит за мной.
Ползает подслеповатый дождь
На коленях перед морем глин —
Виноватый, старый; нежный муж
Молодой неласканной земли…
ИЗ ОКНА ОТЕЛЯ
Париж!..
Три часа от Москвы – не поверишь!
«Каравелла» парит,
словно голая ходит по берегу.
Пальцем трогает море – холодное,
а под волнами —
древний остров,
рыбы плавают вдоль колонн
острые.
Атлантида моя, Париж.
Я увижу себя в Париже,
водолазом пройду по улицам,
где-то амфору подниму,
буду гостем твоим – наилучшим,
хочешь, буду счастливым случаем
или тысячным – потому!
Архитектором добрых знаний,
археологом древних ребусов,
я, любовник, иду на свидание,
не скрывая веселой ревности.
В Лувре – лучшим твоим художником,
острым вдохом твоим табачным,
в душный полдень – дешевым дождиком,
я ведь знаю, как это важно…
НОЧЬ. ПАРИЖ…
По улочке ходит спокойно ажан.
Из-под плаща – автоматное дуло,
Алжирец метлою рвет мостовую,
Даже ей не согласен прощать.
Раз проходит ажан.
И другой раз.
15 августа ультра объявили атаку.
Раз – проходит ажан мимо дворника.
И другой раз.
Алжирец с размаху пинает
лающую собаку.
Хозяйка – в бешенстве.
О ажан!
Полицейский лениво подходит.
(Я гляжу из окна.}
– Пардон, мсье.
Алжирец ставит метлу к стене
и, вытерев руки о полы,
Берет сигарету из пачки ажана.
Курят, перекидываясь взглядами.
Улочка пуста.
Узкая дама сердито ушла.
Мужчины смотрят ей вслед
И угрюмо подмигивают друг другу.
Хороша!
Худой небритый алжирец и розовый рослый
ажан
Бросают окурки на чистую мостовую,
Полицейский, насвистывая, отходит,
Из-под плаща – автоматное дуло.
Ах, ажан!
Алжирец берет метлу, подметает
Окурки и осторожно
Под пиджаком поправляет
Теплую рукоять ножа.
ЛУВР
I
Сена спасала многих от смерти бесчестия,
Сена…
Сена принадлежит тем,
по ком никто не заплачет.
Кто сам изменял и боялся чужой измены,
у кого счета не оплачены,
кто не дождался сдачи.
Сена – живая-заплата
на черном сукне города.
У многих, стоящих со мной на мосту,
простужено горло.
Кашляют.
У изголовья спящей истории
стоят в карауле почетном
скорбные кредиторы.
II
В моем блокноте четыре последних доллара.
Последняя ночь в Париже.
Надо потратить с толком.
Девушки, как ягнята, смеются в долг.
Бормочут мужчины ласковые,
как волки.
Есть в каждом городе главная улица —
Мейн-стрит,
где ходят быки
или черными колоколами плывут «кадиллаки».
Мальчишки ругаются на сорока языках,
арык,
И на черном небе ширится полынья.
След позабытых кочевий – четкая тень,
улица, как гекзаметр долгий,
без точки.
Черное – для кого-то ночь,
для азиата – прохладный день.
Этот гекзаметр стоит
ломаной строчки.
В каждом городе – площадь цветов
Да земля опыленная.
Розы белые, черные, синие там растут,
розы красные, и багровые, и зеленые,
только розовых нет
тут.
Ночь мне явится розовой,
ночь – мое плотское пламя,
мой эгоизм.
Ночью прохладно,
ночью я восхожу на вершину
собственной тени.
Ночь моя – родина подлости
и героизма,
ночь – чернозем,
на котором восходят гены.
В самом богатом
и ярком городе-взрыве
есть переулки, где прячется тень,
самый веселый и башенный город Рио
не обнажен до конца.
В его переулках – окаменелый стыд,
тенью он притаился в подъездах,
в складках лица
неподвижно стынет.
Можно построить скайтскребы
выше, чем память!
Выстрелы, топот, смятение.
Пробежали.
На тротуаре тени всплеснулись
дико.
И снова тихо.
Рядом стреляют, бегают, режутся
парижане!..
Ночью на площадях дико!
Вот площадь Согласия!
Улица Жертв и Поэтов улица,
но главную улицу – Мейн-стрит
я назвал бы улицей Неизвестных.
Много прошло неузнанных,
стали в тень
и сутулятся.
Ждут предрассветной немочи.
Выскочат —
бесами.
Ближе черта равновесия —
улица Неизвестных.
«Париж – это город музыки,
воинов и любимых!»
Ночью бунтует
мир крови,
требует перевеса.
Утром Париж подсчитает
поэмы,
жен
и убитых.
Сена несет острые глыбы фосфора
вверх по течению.
ЖЕНЩИНА
Я люблю тебя, Франция.
Твоим именем звали всех интервентов —
фрэнгами,
Твоих рыцарей прадед арканом
Из седел таскал,
И над грудой изящных желез
Замирал с инструментами,
И такая в глазах
Удивительная тоска.
Я по залам брожу бесцельно,
На алмазы гляжу бесценные.
Удивляюсь:
«Ну где же ты, Азия?
Может быть, в этих чистых
алмазах?
В этих узких мечах двуручных,
Что ковались тебе навстречу?
Ты когда-то дошла до Двуречья
И замолкла.
А кто нарушит
Твое медленное молчание?
Кто, великий, дойдет до Запада,
Завоюет,
Но не мечами.
Эти залы,
Пустые залы?..»
Когда впервые пройдешь по Бродвею, на тебя смотрит все. Толпа, дома, желтые такси, магазины, распахнутые рты баров и женщины.
Бродвей – залитая огнями сцена,
здесь каждый ждет признания и славы,
здесь нет ни деда, ни отца, ни сына,
все равные —
и сильные и слабые —
в трагедии. А действие идет.
Всем хочется на сцену.
И скорее,
чтоб видели, какой ты идиот
или великий,– только бы смотрели.
У каждого высокая душа,
любой из нас актер,
когда – на сцене.
Не надо нам, беднягам, ни гроша,
мы – гении,
когда
нас
ценят.
Когда последняя надежда – мы,
когда нас молят
яростью оваций,
мы откровеньем ослепим умы!
Взгляните на меня,
когда мне —
двадцать.
Ага, попалась,
вот и посмотрела,
голубоглазая или голубовласая.
На белой коже тонкой акварелью
написаны глаза,
а брови – маслом.
Глядит!
Гляди,
я выпрямляю плечи,
отчаянно выпячиваю челюсть.
В толпе толкают,
я шепчу: «Полегче».
К лицу, краснея, приливает
Честь.
Вы видите,
я выпрыгнул на сцену,
во мне играет боевая краска,
глядят голубоглазые, косые,
пожалуйста,
теперь глядите —
здрасте!
Замеченный обязан быть
огромным,
я прохожу, уверенно кивая.
Ты сделала меня таким нескромным
и улыбаешься, не понимая
Ни-че-го!








