Определение берега
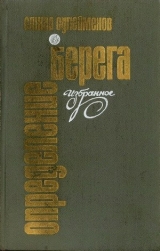
Текст книги "Определение берега"
Автор книги: Олжас Сулейменов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
ПРОЩАНИЕ С ГРЕЦИЕЙ
Наконец!
О грубый летний ливень,
крупная мелодия воды,
в садике моем сухая слива
рубится с потоком
молодым.
В рот земли засунув корни,
клены
бешено вращаются на стеблях,
небо с хохотом влетает в стекла,
между небом и землей —
колонны,
руки,
реки,
мы сегодня – ливни.
Нам сегодня
до всего есть дело!
Пейте, пойте —
это тоже дело.
Ливни – свадьбы неба и земли!
УТРО ПОСЛЕ ШТОРМА
Залезли по локоть, по, плечи
в мяса мужики,
все жирные куски пошли налево,
а кровь,
а печень,
сердце, мозжечки,
как самое бессортное,– на ливер.
Историю разбили на разделы,
как тушу в лавке по сортам разделали.
Любовь
не обходилась без телес,
без бедер и спины не обходилась,
любовь не обходилась без небес.
Когда варяги в Грецию влюбились,
они придумали себе гордыни,
они придумали Литву, Осетию.
Сардар, страдающий, стенокардией,
сказал в эпоху Греции:
– О сердце!..
А рядовые варвары, конину
глотали в седлах без салатов,
в спешке,
ни вертелов, ни печи, ни камина.
Сказал батыр, больной циррозом, —
– Печень!..
Дистрофики придумали – кровинка!
Пустынники придумали – травинка!
Хромой Тимур сравнил тебя с коленкой,
Эй, Греция,
ты создана калеками.
Ты крик Немого, первый слух Глухого,
ты взгляд Слепого,
свет очей его,
ты солнце дальнее,
сейчас ты лунный холод,
тебя зовут, ты оглянись:
«Чево?»
Издалека сравнений старомодность
ты оправдай, все может быть,
и я —
нештатный лирик – расскажу о стройности,
о сложности земного бытия.
ПОЛДЕНЬ, ПУСТАЯ МЕЧЕТЬ
Зеленое море, тонкие пальмы
желтое зарево совершенства,
я всю ночь простоял на палубе —
прибываем без происшествий.
Над окошками дым лаваша,
бабы черные, как головешки,
муж, сутулый и головастый,
неумело седлает лошадь.
Очень много цветов загара,
сверхубыточные мазки.
Прикрывая собой Сахары,
пальмы тянутся на носки.
Прикрутили к причалу канаты,
в чемоданы – гашиш! Отдали.
Вот и Африка.
Кто-то скандалит —
ему надо было в Канаду.
Берег
с тропками, арыками,
мирный мир после варварства ночи.
Море тихо на пляж выносит
пену, взбитую ураганами.
В мечети хохот прозвучит кощунственно.
Однажды лошадь забрела в мечеть,
копытом осторожно пол пощупала,
в сторонку стала, чтобы не мешать.
Глядит, ушами шевелит и нюхает,
никто кнутом не хлещет и не нокает.
Имаму бы пинать ее: «Неверная»,
звать мусульман, выталкивать
за дверь ее.
Она согласна повозить аллаха,
аллах бесплотен – разве это ноша!
Имам хохочет, выдохся,
феллахи —
хохочут, ржут.
– Ого! – заржала лошадь.
ТИШИНА
Сайда.
ХУДОЖНИКИ
Вокруг мечети каша,
каша,
каша,
в мечети тишина, как на войне:
ни хрипа, ни кряхтения, ни кашля,
я слышу только то, что нужно мне.
Акустика достойная Ла Скала,
нет черного,
есть мягкий, темный звук,
вокруг мечети скалы,
скалы,
скалы,
мечеть, как голова в объятьях рук.
Все кругло —
купол, свод, круглы квадраты,
круглы зады молящихся, круглы
цвета ковров, огни лампад, кораны,
углов так много, потому – круглы.
Свет солнца из двери квадратной —
кругл,
Я выхожу,
вот – обуваюсь я,
по городу иду в ботинках грубых,
неверным верно улыбаюсь я.
Хаджи идут по улицам, молчат.
В чалме, не глядя на людей, молчат.
И молча, молча в шумный город входят,
как пьяные в мечеть, ругаясь и крича.
Стамбул.
ШЕПОТ
Шесть минаретов, как шесть ракет,
венчают купол Сулеймании[17]17
Мечеть в Стамбуле.
[Закрыть],
в цветную тень
на ковровый паркет
арабские гласные заманили.
Вливает сквозь уши в душу спокойствие
пение благочестивых словес.
Здесь не обидят, входи, человек,
не плюнут в душу, не глянут косо.
Все – твое,
ну, а сам ты – чей?
Перед чаем и после чая
приходи, дорогой, в мечеть
помолиться и помолчать.
Отрешись от мирских забот.
Если нет у тебя сапог,
приходи, дорогой, босиком,
все равно разуваться придется.
Все мы босы, родной, перед богом,
и слепой и зрячий равны —
ведь никто не увидел бога;
неглухой и глухой равны —
ведь никто не услышал бога.
Здесь любой тебе брат и друг,
здесь красавец равен убогому,
может, бог колченог и безрук,
может, женщина он, ей-богу.
И пророков, и неразумных
мы, художники, не рисуем —
пусть не знает верблюд, что рогат,
пусть не знает бык, что горбат…
Стамбул.
СЕНТЯБРЬ В БИБЛОСЕ
О, восходы какие
Над великим Египтом!
Тают лица нагие
Под прозрачной накидкой.
Над пустыней,
Над миром.
– Для чего!
– Так, для вида.
Словно девичьи груди
Плывут пирамиды…
– Караван-баши…
Караван-баши…
Плавно тают в тени верблюды…
Кто идет?
Паломники?
Торгаши?
Кто идет караваном?
– Люди…
По песку многоточий
К колодцу ответов…
БААЛЬБЕК – ХРАМ СОЛНЦА
Я в разбитом библейском городе.
Он сорок раз вырезался на совесть.
До глин выжигался.
Съедался до корки.
В арке сушатся чьи-то кальсоны.
Здесь когда-то прошли бои,
Тени в развалинах, как потемки.
«Чьи кальсоны?»
Подходит: «Мои!»
Сторож аракою возбужденный.
За бакшиш он покажет мне
несколько надписей ассирийских,
пару египетских, пару еврейских
и Македонского на коне.
Рыцари освободили от римлян
или римляне от крестоносцев?
Он не помнит,
здесь рыли, рыли,
вырыли череп Навуходоносора.
Турки долго освобождали,
освобождали просто отчаянно.
Пять столетий освобождали!
Турков выгнали англичане.
В Библос двинулась цивилизация.
(Он произносит «сифилизация»).
Арабский язык удивительно мягок,
он с каждого слова
кору снимает.
Страж здоровенный не знает лукавства,
гордо и просто живет Фатих,
врачей презирает,
из всех лекарств
знает только презерватив.
Он ведет меня в маленький садик,
в трон царя ассирийского садит
(где-то выкопал.)
«Кофе? Чай?»
Пьем густое вино у ручья.
За оливами – огород.
В сентябре – кукуруза. Не поздно?
Рожь – не принято. А горох?
Удобряешь? Тоже навозом?
Хозяин рысью уходите в дом
и возвращается тоже рысью
с хорошим пловом,
а дело в том —
хорошие урожаи риса.
…А за дувалом горы Ливана,
террасы посадок, пальм веера.
В разрушенном городе
залах лаваша,
так украшающий вечера.
МОСТЫ
Я ползаю по грудам Баальбека,
без удивленья щупаю колонны,
в каком-то древнем
минус первом веке
тот мастер высчитал мои наклоны.
Огромные костры цивилизаций —
гиперболами вспыльчивых поэзий.
Мастеровые староримской нации,
изобретатели моих болезней!..
По храму бродят саксы и узбеки,
две итальянки с переносным тентом,
пишу в блокнот:
построен в том-то веке
тем римским цезарем,
разрушен тем-то.
Камнями разгоняю алых ящериц…
На теле сфинкса разложив платок,
вскрываю банку пива,
и глоток —
за Солнце,
и другой – за Настоящее.
Мне сверху виден двор пустой кофейни,
из древних кирпичей прохладный дом,
старик в бурнусе связывает веник
и долго-долго думает о том,
что надо бы полить водой холодной
свой пыльный двор…
Два дюжих члена баасистской партии,
в багровых фесках на висках седых,
за столиком в тени играют в нарды,
сосут сквозь воду булькающий дым
и оглашают медленное небо
арабским матом посильней «сыкке».
Я пиво пью и думаю: о, мне бы
хотя бы петь на этом языке…
Идет ишак, да, здесь ослы крупнее,
клянусь, здесь даже пашут на ослах,
и шерсть длиннее,
животы круглее,
здесь и осла не обошел аллах.
Мне интересно:
я достоин рая?
Я столько мест священных обошел.
Эх, если бы я вспомнил, умирая,
как было мне в Медине хорошо!..
Грех мусульманина
Христом оправдан,
буддийский грех не признает аллах.
Мне жизнь дает
прекраснейшее право
быть правым
в человеческих делах.
Пустынный зной в саду пушистит персик
и распаляет щеки яблок бьек…
Я вспомню звуки аравийских песен,
вино хельвани, город Баальбек,
песок Ак-Шам и кладбища безмолвные,
углами света искаженный мир,
вкус поцелуя, теплый запах моря
и пальмы на развалинах пальмир!
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Отвесный известняк и краснозем.
Я вспоминаю Вахшскую долину.
Над узкой жилой Вахша вознесен
нурекский мост
из дерева и глины.
Мне вспомнятся ливанские граниты,
построенные в римское каре.
Спаситель, покровитель моранитов,
стоит, раскинув руки, на горе.
Чуть ниже – римский мостик караванный
древней Христа —
над пропастью реки,
как продолжение моей руки…
Проходит мул, нагруженный дровами.
А ниже—
камень, а на нем араб.
Он удочкой вылавливает в жиже
коричневых угрей, он страшно рад,
что труд его заметили.
А выше!—
Над полночью ущелья,
словно месяц,
на синем небе светит
черный свод.
Над пустотой ущелья,
словно мениск,
горами согнутый
мост каменный живет.
Они живут (объединив породы)
над рвами необузданных стихий.
Мосты —
мои сутулые дороги.
Моя стихи.
В гостинице «Украина» я опустошил один цветочный горшок. И никак не мог объяснить горничной, для чего мне эта земля.
АЙНАЛАЙН
…Пока я поднимался на корабль,
мне грубо подарил мой друг-араб
портфель с талмудом, торой и кораном,
он счастлив был, увидев, что я рад.
Еще халат золототканый шейха,
чалму зеленую, платок на шею.
Жена его, прощаясь, Хадиша,
лицо открыв, сказала мне:
«Хаджа»…
Я рад всему:
тому, что уезжал,
тому, что возвращаюсь,
что достал я
пращу средневековую,
кинжал,
дамасской, синей, легендарной стали.
В Москве я вспомнил,
что не взял, земли.
Священной пыли горсть —
с полей аллаха.
Ждет, не дождется бабушка Зали!
Не привезу – старуха будет плакать.
Горсть пыли из цветочного горшка —
в платок,
в портфель с библейскими вещами,
горсть желтого земного порошка!
Земля везде, по-моему, священна.
Я рад тому, что выполнил обет.
(Любой хаджа – обманщик и пролаза.)
Не ахай, бабушка, чтоб не накликать бед,
и не любуйся внуком,
чтоб не сглазить!
Убережет от злобы и от зла,
от родичей недобрых,
от обмана
священная московская земля,
зашитая старухой в талисманы.
АЗИАТСКИЕ КОСТРЫ
Обращение к дорогому человеку – айналайн.
«Кружусь вокруг тебя» – подстрочный перевод.
«Принимаю твои болезни» и «Любовь моя» —
смысловые переводы.
Кочую по черно-белому свету.
Мне дом двухэтажный построить
советуют,
а я, как удастся какая оказия,
мотаюсь по Африкам, Франциям, Азиям,
В Нью-Йорке с дастанами выступаю,
в Алеппе арабам глаза открываю,
вернусь,
и в кармане опять —
ни копья;
копье заведется —
опять на коня!
Последний ордынец
к последнему морю!
На карту
проливы, саванны и горы!
А нас хоронили – ногами на запад,
лежат миллиарды – ногами на запад
под желтым покровом монгольской степи —
тумены ногаев, булгаров, казахов,—
не зная, что
Азия западней
Запада,
Запад —
восточней Китайского моря,
а нас хоронили ногами на Запад!..
Шумит за спиною последнее
море.
Кружись, айналайн, Земля моя!
Как никто,
я сегодня тебя понимаю,
все болезни твои
на себя принимаю,
я кочую, кружусь по дорогам
твоим…
ПЯТЬ
Мы помним то,
равняющее всех,
его в людской истории немало —
когда-то ночью к вам пришли шаманы
для добрых дел и правильных бесед.
Они зажгли огонь и научили
беречь огонь и
кланяться огню,
лечить огнем радикулит и чирий,
и научили подходить к коню,
и верить Солнцу,
и гадать по звездам,
от них пошло – и танцевать и петь,
от них вы почитали только весны,
от них – пахать, выращивать и печь.
От них ковры и ваши самолеты.
От них, старателей, пошел алмаз,
их в жертву приносили
самоеды,
но и в огне они учили вас.
Шаманы гнали свет из слепоты,
из вашей глухоты для вас – Бетховенов,
Гомера, выплавив из темноты,
еще не знали, что им уготовано.
Они добыли в молотой руде
каратами
талмуды и кораны,
в ручных лотках сахарами,
горами,
перемывая миллиарды дел.
И все для вас – вы лишь качали мед,
вы шли в курильни, опиумы пили,
алмазом слова, золотом имен,
всей платиной надежд за дым платили.
На канах теплых
с трубками в зубах
валялись,
чтоб валяться под забором,
чтоб снова —
азиатом, кулом[18]18
К у л – раб (каз.).
[Закрыть], вором,
собакою среди других собак.
Когда вам говорили —
заплати,
когда ни пула, ни таньги, ни мана,
вы жгли
для дыма
на кострах шаманов,
придумавши» костер
для теплоты.
Страданьем!
Нет, старанием велик
мой странный мир,
родившийся старателем!
О Азия, ты стольких нас
истратила!
Опять костры для дыма
расцвели.
На африканских и азиатских кладбищах вы увидите надгробные камни с изображением человеческой руки.
«В горах Памира…»
Ныне живущие,
вам предстоит доказать
доброту оскорбленных.
Вам еще вспомнить
смысл древнего жеста —
Пять.
Надгробные, грубые стеллы
кладбищ запыленных.
Я вижу на камне
детские пальцы
распятые.
Ныне живущие,
не забывайте ушедших —
молнии Паганини
и пятерню самолета.
Цепкие пальцы молча тонущих
женщин
я бы
повесил
на горло свое
амулетом.
Лживые кличи передаю другим.
Век,
как всегда, недолгий,
я проживу с кулаками.
Умру,
и вырежет старая мать
на камне
вскрытую кисть
правой моей руки.
Мирзо Турсун-заде
ЗВЕЗДА
В горах Памира медленный потоп —
сползает
туча тучная
каскадом,
разглаживая, влажным животом
горячие растресканные скалы.
Проходят тучи по горам
пешком.
Гниют хребты, обласканные ливнем,
и оседают, гордые,
песком.
Туманы пахнут мокрой
шерстью липкой.
Не верят каракумские барханы
былинам недалекой старины.
Жив облик башенкой Тмутаракани
в могильниках гиссарской стороны.
С высот разрушенных уплыли облака.
Одно
стоит над брошенным песком,
как грудь
с последней каплей молока.
Грудь материнская
с сухим соском.
Пески молчат. Размолотый гранит,
все, что могу, даю,
возьми прохладу…
Пусть тень моя бессильна,
как проклятье,
но эту тень, пустыня, сохрани.
Я, серый клок тумана,—
твое небо,
что синь тебе, безбрежие постылое?
Когда уйду, скажи, моя пустыня:
«Пустыни там, где облаком
он не был…
Где не падала его тень».
«Спи спокойно, дада. Спи спокойно, отец…»
Под круглой плоскостью степи
углами дыбятся породы.
Над равнодушием степи
встают взволнованные руды,
как над поклоном —
голова,
как стих,
изломанный углами.
Так в горле горбятся слова
о самом главном.
Далекое уводит нас.
Все близкое
кругло, как воздух.
За миллионы лет от
глаз —
углами
голубые звезды.
Нас от звезды
спасают крыши,
но мы ломаем —
и летим.
Над вдохновенными горами
унылый круг луны
потух.
И молнии
кардиограммой
отмечены
уступы туч…
И радуга – не коромысло,
она острей углов любых.
Нас обвиняют в легкомыслии,
а мы —
фанатики в любви!
Мы долетаем!
И встречает —
равнина. Поле. Борозда.
Изломы гор, зигзаги чаек.
Простая круглая звезда.
РАЗЛИВ
Спи спокойно, дада. Спи спокойно, отец.
Я бодрствую.
Меня слушают дети с открытыми ртами
от гордости.
Все равно, что взлететь,
что на камни слететь водопадом.
Я богат, все мне – дорого.
Ты хотел меня видеть богатым?
Я иду через робость в ночи
по тропе овечьей,
в темноту руки всунув
и голову подняв, как горб.
Что-то мутит меня,
я-то знаю, что степь бесконечна.
Но предчувствие!
Брат, что мне делать с предчувствием
гор?..
ТЫ СОБАКУ УДАРИЛ
По азимуту кочевых родов,
по карте, предначертанной
историей,
по серым венам
древних городов
я протекаю
бурой каплей донора.
Здесь долг я понял
глянуть на года,
возвысить степь, не унижая горы,
схватить ладонь твою и нагадать
тебе дорогу дальнюю, о город.
Жарища.
Дремлет, в-будке-старшина,
чем пешеходы, кажется, довольны.
Я город прохожу. Вдруг —
тишина.
И крик —
громадная улыбка Волги.
По берегу улыбчивой земли
иду травой. И знаю, что надолго
влюбляюсь в этот город, в эту Волгу.
Все предсказанья – чушь,
когда – разлив.
В. ЖИВУЛЬСКОЙ, ПОЛЬСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЕ,
Помнишь кошару!
Помнишь отару!
Помнишь, мы долго стреляли в ночь!
Ветер с волками,
темень, как камень,
ты, лицо закрывая,
нашарил нож.
Страх твои руки скрутил
арканом,
клыкастые лапы рвали чапан,
и в это мгновенье
хриплый клубок
ударом
на волчье горло лег.
Конь рванул,
ты зарылся в снег.
Снег, вихрясь,
на лету смотрел,
как кипели в одном котле
волк,
собака
и человек.
… Утром стихло.
Но небо серо.
Снега улеглись,
лишь поземка метет.
У стенки кошары поземка присела,
чтобы взглянуть на нее,
на собаку худую, старую —
(приползла из степи домой,
кровь последнюю
в дверь кошарную
в борозде волоча за собой).
А когда мы ее добивали,
она руки пыталась лизать,
как щенят,
те, ворочаясь, ждали
в жестком сене
теплую мать.
Ты пришел из степи за ней,
тебя след окровавленный спас,
ты добрел до своих саней
и тотчас же умчал от нас.
И сейчас
ты собаку ударил при мне,
чем собака тебя обидела?
Знай же —
не по моей вине
чабаны твой удар не видели.
Не положено бить
детей
и собак —
по закону степей.
Так поймешь ли,
за что тебе
я, как волку, в глаза гляжу!
БЫВШЕЙ УЗНИЦЕ ОСВЕНЦИМА
«Я выпросил в отряде две недели…»
Я сижу в полосатом сквере на полосатой
скамейке.
Я провожаю осеннее белое солнце.
Шорох страниц у меня на коленях,
Лень.
Розы багровые, желтые, черные разы несут.
Розы дарят сегодня гостям и любимым,
розы, как язвы на женских костлявых спинах.
Девочка ест мороженое. Зуд.
Девочка в школьном переднике.
У нее на губах сливки,
как белая пена у рта эпилептика.
Липкая…
В 42-ом мальчик бараньего мяса хотел,
прошу, приплюсуйте и это к счету.
В 43-ем он черного хлеба хотел,
прошу, не забудьте и это – к счету.
В 44-ом он красной свеклы захотел,
а в 45-ом,
когда старики становились ребятами,
на вокзале стоял, ожидая родичей,
целую роту…
Он совсем одичал, он потел,
он кричал до икоты.
Мальчик мало что понимал.
Он не знал, что отняли не только
мужчин у него.
Как письмо запоздалое, тощая книга
лежит на коленях…
Пусть унижают солдат, но не трогайте
женщин! …
Кому посвящать слова?
Этим? Сбритым наголо тифом?
Измазанным желчью, словно губной помадой?
Этим? Которым отказано
в мясе, в хлебе, в свекле
и в письмах маме?
В плаче, в грусти, в тепле отказано,
не отказано только в пекле,
в бегстве, в петле-
и в глотке газа?
Этим женщинам нет снисхождения!..
Жалостью,
тощим телом воняли!
Это может быть наваждением.—
женщину у поэта отняли!..
Хочется быть раздетым и не стесняться,
хочется быть одетым и не бояться,
хочется жить, как дети,
чтобы смеяться,
хочется так, как эта, в школьном переднике,
в сливки морозные сладко губами
вгрызаться,
морщиться,
но не от холода ассоциаций.
ТРАВА
Я выпросил в отряде две недели.
Я на верблюда сел – и был таков.
Тянуть шубат и ничего
не делать,
записывать былины стариков!..
Качался, пел о дальних городах,
я воду пил пиалой граммов
в триста
за долг – в пустынях
время коротать,
за бедуинов из Геофизтреста.
Искал в песках аул —
нашел геолога,
четыре дня он шел и жаждал встречи,
не чувствуя ни жара и
ни голода,
лежал в песке и убеждал,
что – в речке.
Я был не человеком —
миражом.
Он подмигнул, и выдул пиалу,
и вдруг затрясся, засучил
ногами,
пил носом, и губами, и лицом,
глазами, всхлипывал,
пил хорошо,
как надо пить,
как надо жить —
зубами!
Потом вскочил, не пересилив
радость,
и стал бросаться на меня с ножом.
Потом он сел.
Потом он пил и ел.
Потом он пел задумчиво
и хрипло.
Потом он пил и снова пить
хотел,
пытался влезть в бурдюк
и жить, как рыба.
Я хохотал от счастья,
хлопотал,
купил его за нож, поил и люто
тащил в седло свое,
а он роптал,
пытался меня сталкивать
с верблюда.
Отвез его в аул.
Неделю пил шубат.
Менял свои ковбойки на легенды.
Учил вставать на лапы
злых собак.
И вспоминал уехавшего Генку,
…И все прошло.
Вот только есть одно —
ай, бог пустынь,
доверь мне снова радость:
в песках, где воют на луну
бараны,
В Москве, в горах, в ауле —
все равно —
спасти кого-нибудь.
Доверь мне радость.
АПРЕЛЬ
Встречаемся мы часто за Тоболом,
в лесу, в траве осенней
И лежим,
и не шумим,
я так же чист с тобою,
как наш Тобол, впадающий в Ишим[19]19
Пусть простят меня географы, но география планеты так быстро меняется, что, возможно, завтра Тобол действительно станет впадать в Ишим (авт. 1976).
[Закрыть].
С деревьев красные сползают ливни,
трава в багровой
лиственной крови,
ты навсегда запомни —
как счастливо
глядел на нас кузнечик
из травы.
В моем лесу ничто не враждовало,
скользили блики света по траве,
и по руке твоей, как по тропе,
шла муравьиха,
и ушла,
пропала.
Все птицы пели что-то без названья,
за всеми кленами молчал Тобол.
Что было бы, не будь его?
Не знаю.
Что было бы, не будь меня с тобой?
Всех, на тебя похожих,–
не обижу,
деревья белые беречь я буду,
и каждый раз,
когда тебя увижу,
я самым добрым человеком буду.
Что было бы, не будь вот этих г паз,
залитых светом, болью и обидою…
Ты каждый раз люби меня,
любимая,
так, словно видимся
в последний раз.
(из поэмы «От января до апреля»)
Она молчит.
Не буду ей мешать.
Включаю верхний свет,
мне мало нижнего.
За стеклами стоят на стеллажах
портреты,
вырезанные из книжек.
Печальный Пушкин, мрачный Маяковский.
Злой Лермонтов, усмешливый Есенин
глядит из рамки,
словно из окошка —
пейзаж осенний.
Невесело. Молчит незавершенность.
Неудовлетворения туман.
Признания.
Обрывки завещаний.
Фантастика —
неполные тома.
Пустые полки рядом, как пустоты
на картах,
на картинах мастеров.
И пустоту я называл простором.
Сейчас – старо.
Эскизы Модильяни,
Пикассо.
Квадрат картона с видами Рязани.
Святая дева с девичьей косой,
с налитой грудью,
с тяжкими глазами.
Как жаль, что не дописано бедро!
Под стеклами обрывки
и наброски.
Вот
дьявола не дописал Петров —
копыта – есть,
есть – хвост.
А где же рожки?
А вот стена
широкая, как плац.
На всем пространстве
только два эскиза.
Какой-то доморощенный Саркисов
хохочущей
изобразил
Каплан.
Как в бельмах глаз
ее зрачки
орали!
Я никогда таких не видел лиц.
Косая прядь
рубцом —
в лицо!
А рядом —
эскиз Андреева «Смеющийся Ильич».
…Там,
за плечами,
хмурая Казань.
Ильич в кругу сибирских инородцев.
Они пришли к Владимиру
суровые.
Не жаловаться Ленину,
сказать
о том, что плохо.
Опершись на лыжи,
стоят они. Задумчиво глядят.
Неслыханную речь его услышать
о счастье человеческом хотят.
Он знал, он видел, оставляя нас,
что мир курчавится, картавит
и смуглеет.
Мир был
совсем иным
в последний час,
в последний час
короткой жизни Ленина.
Приходится порой простые мысли
доказывать всерьез,
как теоремы.
Для всех, кого не обошло презренье,
он ждал апреля.
Мы идем к апрелю.
Сходились в русской Волге русла рек,
несли на водах солнца свет багровый.
Сын этой Волги —
этот человек,
Сын, сотворенный
Семиречьем крови.
Пройдут года. Сойдутся племена —
щека к щеке, уже нельзя плотнее,
как в имени ЕГО —
все имена,
мак тысячи набросков,
в полотне.
Каплан хохочет на стене.
Он рядом
смеется. Пусть безумные запомнят
Апрели наши.
Словом нашей Радости
пустые полки за стеклом заполним.








