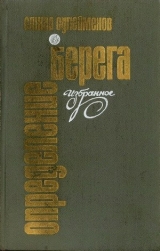
Текст книги "Определение берега"
Автор книги: Олжас Сулейменов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕРЕГА
Избранные
стихи
и
поэмы
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Не люблю предисловий[1]1
Из книги Л.Н. Мартынова «Воздушные фрегаты», издательство «Современник», Москва, 1974.
[Закрыть]. Особенно к стихам. Они должны говорить сами за себя. Но Олжас Сулейменов попросил меня написать предисловие к его книге. Он тоже не любит предисловий. «Но,– сказал он,– издатели очень хотят предисловия. Вы когда-то напутствовали первую публикацию моих стихов в центральной печати, так напишите, пожалуйста, и теперь!» И я написал. С великим трудом. Стараясь не впасть в то, что, если не ошибаюсь, называется просопографическим методом, впрочем применяемым в данном случае не к Олжасу, а к себе самому: я стремился не уснащать повествования о поэзии Олжаса теми или-иными фактами своей биографии.
Предисловие наконец получилось таким, каким и нужно быть порядочному предисловию, но куда же мне деваться со своими воспоминаниями, хотя и не имеющими отношения к предисловию, но, несомненно, имеющими отношение не только ко мне лично, но и к тому народу, сыном которого является мой друг Олжас.
Казахи!
Я думаю, что слышал их голоса, скрип их повозок, ржание их коней-и рев их верблюдов чуть ли не с первого дня своей жизни, со дня рождения своего в доме поблизости от Казачьего базара. С малых лет я помню, как появлялись в торговых рядах, между кирпичной каланчой и деревянным цирком эти всадники в лисьих малахаях и всадницы в засаленных парчах и бархатах и в шапочках, украшенных птичьим пером. Майский кумыс в мехах и бочонках, кое-какая нехитрая степная пушнина, кожи, масло, и сало, а зимой фиолетовые скотские туши и белые лунообразные колеса мороженого молока – все это обменивалось казахами на бумажные, медные и серебряные русские деньги, которые не залеживались в кошелях за пазухой, а живо преображались в шанинские ситцы и бархат, то есть в мануфактуру из магазина Шаниной, в феттергинкелевские кастрюльки, то есть в металлическую посуду со складов Феттера и Гинкеля, в конфеты из кондитерской Зонова и в разную мелочь из магазинчика «Любая вещь», куда тоже заявлялись степные покупатели с кнутами за поясом. А затем казахи покидали город Омск, который они называли по-своему Омбы, переправляясь на пароме за Иртыш, в те пространства, что на старых военно-топографических картах Акмолинской области обозначались как кочевья киргиз-кайсацкой орды. Но мне казалось, что там Африка: верблюды, появлявшиеся из-за Иртыша, совпадали с верблюдами на книжных картинках, изображающих пустыню Сахару. Позднее у меня возникли более точные представления об этом районе иртышского левобережья, западнее, точнее – юго-западнее которого, где-то очень далеко, за Уралом и за югом Европейской России и за Балканами, действительно, в конце концов, все-таки пламенеет Африка. И, забегая на полвека, вперед, я должен сказать, что мне сразу показались ясными и понятными стихи Олжаса Сулейменова о том, что над озерами Кургальджино зажжено солнце Африки. Приблизительно так ощущал в свое время и я, но недавние стихи Олжаса напомнили мне о тех временах, когда еще не родился не только Олжас, но, вероятно, и его родители. А тогда мое личное знакомство с казахами началось не с какого-нибудь экзотического, степного, но с одетого и обутого, как и я, городского мальчика, посаженного волею аллаха на соседнюю со мной парту первого класса 1-й омской гимназии. Это был сын толмача Акмолинского областного правления, очкарик, как выразились бы теперешние ребята, и первый ученик, как тогда назывались отличники. Педагоги ставили нам в пример его старательность и хорошее поведение. Может быть, образ этого мальчика, сына толмача, как-то слегка и отразился впоследствии в моей поэме об Увенькае, воспитаннике школы толмачей в Омске, но во дни нашего совместного ученичества я общался с этим мальчиком мало и не знаю его дальнейшей судьбы, так же как не знаю судеб большинства других моих соучеников, рассеянных вихрем революции. Но именно она, революция, несколько позднее помогла мне лучше всяких толмачей понять, что творится в степях, какие страсти бушуют под пологом войлочных юрт. Именно революция, Октябрьская революция со всеми ее последствиями и дала мне возможность познакомиться с целой кавалькадой воинственных амазонок в буйном облике молодых заиртышских казашек. Более того, я сделался их доверенным лицом, ходатаем по их делам. Суть в том, что они, эти женщины, взбунтовались. Против нелюбимых мужей. И так как все это было в первой половине двадцатых годов, эти женщины потребовали на основании советских законов раскрепощения! «Нас выдали замуж за наших мужей насильно, нас выдали за калым, нас держат взаперти, и пусть газета «Рабочий путь» поможет нам стать свободными, полноправными советскими гражданами» – таков был смысл их требований, И я, юный репортер, написал ряд статей, освещающих все перипетии их борьбы за новую жизнь. Обо всем этом я впоследствии рассказал в очерке «Бунт желтых жен», напечатанном полностью в книге «Грубый корм» (изд-во «Федерация», М., 1930), Но, пожалуй, не менее ясно это выражено в одном из забытых моих стихотворений: «Эй, супруга моя, Бибиш, наш аул ушел за Иртыш, почему ж ты осталась в городе, на крыльце у прокурора сидишь?» – «Мой муж, хромой Мукаш, ты вчера показал мне кнут. Поеду в город, спрошу адвоката, что надо делать, если бьют?»
Таков был смысл написанных мной слов. Но звучали они в ритме некоей казахской песенки, с малых лет ласкавшей мой слух. Сначала я и вовсе не понимал, что это значит. Но с детства пристрастный к волшебству словосочетаний, я любил повторять этот услышанный где-то на базаре или у паромной переправы мелодичный обрывок песни:
Айналайн…
Айналайн…
Так, по крайней мере, звучало это для меня. А что это значит – я и не ведал, да и не спрашивал ни у кого, и даже у взбунтовавшихся женщин. С ними разговоры шли о кнутах, о тиранском обливании их холодной водой на морозе, об угрозах провезти за непокорство нагими верхом на черной корове, лицом к хвосту, и о вытекающих из всего этого ходатайствах о расторжении брака с законным разделом имущества, а не о песнях, и вовсе не о значении сладкого степного слова «айналайн».
И о значении этого слова я впервые спросил не у казашек и казахов, а у короля писательского Антона Сорокина. И он, знаток казахского быта, ответил мне кратко и категорично: «Айналайн» значит – «моя дорогая». Напишите поэму о степной красавице Айналайн!.. И я вставлю ее в какой-нибудь свой рассказ»,—добавил он, ибо любил вставлять в свои рассказы понравившиеся ему чужие стихи. И я действительно написал эту свою еще очень юношескую поэму о том, как казахский мальчик Айдаган увидел в степи красавицу на белом коне – генерал-губернаторшу – и принял ее за Айналайн, и бросил скромную степную девушку Чару, пошел в город и нанялся на генерал-губернаторские конюшни, но Айналайн – это было связано с революцией 1905 года! – оказалась Зверухой. И я напечатал эту поэму «Зверуха» в «Сибирских огнях», и ее хвалил не только Антон Сорокин, Но точное значение слова «айналайн» и после этого осталось для меня не вполне ясным.
Ничего не прибавил к пониманию мною этого слова и певец из аула Каржас. Надо сказать, что долгое время я, углубляясь все дальше и дальше в степи, как-то не замечал этого достопримечательного аула, который находился совсем рядом с городом, чуть подальше овчинно-шубного завода за Иртышом, прямо напротив крепости. Не помню, по какой надобности я очутился однажды перед саманными и глинобитными жилищами этих уже оседлых, но не терявших связи со степью казахов. Это были, как выяснилось, давнишние выходцы из-под Баян-Аула, откочевавшие не менее ста лет назад на север, под Омск. Узнав об этом и взглянув со стороны аула на очертание Омска, я понял и живо представил себе; что оттуда – из-за реки, на аул Каржас мог смотреть не кто иной, как будущий друг Чокана Валиханова Федор Достоевский, выходя из своего Мертвого дома для каторжной работы на берегу у крепостного вала. Может быть, именно в такие моменты у Достоевского и возникла мысль о будущих судьбах степи и вообще Азии. И, конечно, он думал о казахах. А думали ли они о нем? И вообще—о чем они думали, глядя на Омскую крепость? Само собой разумеется, я расспрашивал у жителей аула о прошлом, но они или стеснялись, или действительно мало что знали. Но я там нашел старого акына, певца песен; И мало того, что нашел: несколько позднее мы с товарищами сумели заманить его с собой в город на писательское совещание, и седой акын сидел в городском театре за столом писательского президиума плечом к плечу с бородатым поэтом профессором Петром Дравертом, с юным поэтом моряком Убекосибири Яном Озолиным, с ненецким драматургом Иваном Ного и с тюкалинским фольклористом из села Большемогильное Ваней Коровкиным; И акын пел, и в его песнях я уловил то же самое слово «айналайн», употребляемое как будто в смысле обращения к женщине, но, может быть, и не только к женщине, а к чему еще, я не уразумел.
Я не уразумел этого и в степи за Сергиополем, на пикете Кзыл-Кий, близ которого громоздились руины башни, якобы той самой, с которой бросилась когда-то красавица, безутешно оплакивавшая своего возлюбленного. Козы-Корпеш! Баян-Слу! Так, по крайней мере, объяснил мне мой возница-казах, и, поведав об этом, он запел песню, в которой звучало то же самое слово «айналайн». Но когда я спросил, о чем он поет, казах сделал какое-то неопределенное движение рукой, охватывающее и степной горизонт; и небо, в котором сиял молодой месяц, и сказал, что по-русски, да еще гак хорошо, как в песне, объяснить никакой человек не может!
Но все же нашелся такой человек, который объяснил мне и значение слова «айналайн», и еще очень многое другое. Это Олжас, Олжас Сулейменов. И, конечно, у меня есть что сказать о нем. Я не сомневаюсь, что о нем вообще много напишут, но мне кажется, что, не ограничивая себя рамками обычных предисловий, газетных статей и тому подобным, я могу сказать, что, может быть, далеко не всем известно и понятно.
.Олжас вдвое моложе меня. Он родился в 1936 году, то есть в том именно году, когда мы вывели на омское писательское совещание певца из аула Каржас, населенного выходцами из-под Баянаула, того самого Баянаула, откуда род свой ведут и предки Олжаса. Бунтующие желтые жены, за раскрепощение которых я боролся,– ровесницы бабушкам таких молодых людей, как Олжас. Толмач областного правления – я вспомнил его фамилию, Джантасов,– мог иметь дело с прадедами таких, как Олжас. И обо всех этих вышеперечисленных лицах Олжас мог только слышать или читать в литературных произведениях, в том числе и моих. И нет сомнения, он читал мои произведения. Читал еще подростком, юношей, о чем свидетельствует книга его «Доброе время восхода» с дарственной мне надписью будто и от себя, Олжаса, но в то же время и от героя моей поэмы – книголюбивого Увенькая.
Конечно, он написал это в шутку. Разумеется, он никакой не Увенькай, а я не полковник Шварц из этой поэмы, а мы оба, как говорится, совершенно самостоятельные явления в литературе и жизни. Так вот, в этой самой книге «Доброе время восхода» я и нашел то, что искал долгие годы. В одном из стихотворений было сказано наконец ясно: «Обращение к дорогому человеку» —айналайн. «Кружусь вокруг тебя» – подстрочный перевод. «Принимаю твои болезни» и «"Любовь моя» – смысловые переводы».
Так наконец я и узнал, что значит это, с юных лет моих кружившееся вокруг меня слово «айналайн». И помню: однажды здесь, в Москве, во время съезда писателей, мы с Олжасом еще и еще раз уточняли значение этого слова, столь загадочно звучавшее на устах возницы моего у башни Баян-Слу и еще более магически зазвучавшего среди Кремля, как будто под перезвон его колоколов. И, глядя на Олжаса, я думал, что, конечно, похож он вовсе не на порожденного моим воображением Увенькая, если и вообще на кого-то похож, кроме как на самого себя, то имеет в чертах своих сходство, пожалуй, лишь с самым настоящим Чоканом Валихановым. Да иначе, конечно, и быть не может!
Вот, в сущности, и вся предыстория того предисловия, которое я предпослал к новой книге Олжаса.
Я сказал в этом предисловии о том, что Олжас Сулейменов, казах, советский поэт, известный ныне не только, советскому, но и зарубежному читателю, пишет по-русски. Вообще говоря, в том факте, что писатель, принадлежащий к одной национальности, пишет не на своем, а на другом языке, нет ничего сверхъестественного, история узнает немало таких примеров. Сын молдавского господаря Дмитрия Кантемира, Антиох Кантемир, стал одним из родоначальников новой русской поэзии. Поляк Юзеф Теодор Конрад Коженевский сделался мастером английской художественной прозы, приняв имя Джозеф Конрад. Польского же происхождения юноша Гийом Альбер Владимир Александр Аполлинарий Костровицкий прославил французскую поэзию под именем Гийома Аполлинера. Но если Конрад стал певцом экваториальных морей, а Аполлинер лишь изредка возвращался мечтами на восток Европы, к прародине, или скажем, к запорожцам, пишущим письмо турецкому султану, то Олжас Сулейменов, казахский поэт, творящий на русском языке, целиком остается поэтом казахским, родным сыном этого прекрасного, гордого народа, исстари сочетавшего свои надежды и чаяния с надеждами и чаяниями народа русского. Явление Олжаса Сулейменова живо воплощает все эти связи – житейские, географические, политические, этические, эстетические.
И – да не прозвучит это парадоксом – Олжас, щедрый в своих творениях на имена людские, не случайно столь скупо упоминает Чокана Валиханова («Я бываю Чоканом, Конфуцием, Блоком, Тагором!») и Абая («Но жив Абай, разоблачавший тупость и чванство девятнадцатого века»). Это все потому, что близость к ним он рассматривает как нечто само собой разумеющееся, потому, что фактически он сам является духовным их продолжением!..
Так написал я. Но вычеркнул, изъял из предисловия несколько следующих страниц, касающихся не только Олжаса, но и меня самого. Это насчет озер Кургальджино, над которыми зажжено солнце Африки. Я уже говорил об этом вначале по поводу Африки, но дело не в этом, а дело в том, что я и сам с детства знал про этот озерный бассейн Центрального Казахстана, об этих двух соседствующих, разделенных только камышами, степных озерах-морях, Кургальджине и Тенгизе. Кургальджин, считавшийся самым большим пресным озером Акмолинской области (450 кв. верст, глубина до 5 аршинов), почитался орнитологами за самый северный в мире пункт гнездования розовых фламинго. И в юности я не раз порывался на Кургальджин в надежде увидеть фламинго, или хотя бы птицу-бабу, как там назывались пеликаны, но мне не посчастливилось, я проезжал поблизости, но все как-то мимо. А вот Олжас, как я узнал из его стихов, действительно побывал там и даже описал, как там был убит гусь, отметив при этом, что «не ударили в телеграммы, ведь потеря не велика: не фламинго, не пеликан – просто гусь на три килограмма». Но дело даже и не в этом, а дело в том, что в стихах Олжаса Кургальджин превратился в Кургальджино. Эта подробность, этот нюанс заставил меня задуматься о многом…
Видимо, там говорят и так, что и запечатлел чуткий слух поэта, тонко реагирующий на голос времени, полный сближения дружественных наречий, дружелюбных речей и песен, как бы в предвестье тех времен, когда действительно над головами людскими загорится солнце для Азии и Европы, Австралии и Африки и обеих Америк! Вот что чувствует он, Олжас Сулейменов, лингвист по натуре, инженер-геолог по образованию, поэт милостью божьей!
А может быть, я слишком идеализирую Олжаса, приписываю ему больше того, что есть? Где доказательства? Чем подтвержу справедливость всех этих своих утверждений? Ну, конечно, только одним: стихами, которые, не требуя предисловий и послесловий, должны говорить за себя сами! Ведь, в самом деле, этот Олжас, еще так недавно, лет десять тому назад, умевший лишь с юношеской непосредственностью наивно воскликнуть: «Ай, какая женщина, руки раскидав, спит под пыльной яблоней, косы на земле!», теперь вот так здорово рассказал мне обо всяких женщинах – и голубоглазых, и голубовласых, и о белой женщине, которая, как негритянка, незаметна в нью-йоркской ночи и сливается цветом молчания с тоской уставшего города, и о женщинах черных и коричневых. Он знает и диких горлиц над аэродромом Орли, и острые ощущения Бухары, и Русь Врубеля – шубы и русское небо, морозы и странные взоры Марусь. Он видел громадную улыбку Волги и алую радугу Ниагары. В его стихах жив облик башенной Тмутаракани в могильниках гиссарской старины, и гудят самосвалы, внося свою лепту в исторический шум, в суету чертежа Мангышлака… Словом, он вольная птица, пассажир реактивных самолетов, много видел и чувствовал, и вообще, ему хорошо известна вся эта Земля – «в изломах гор, в зигзагах рек, простая круглая звезда!». …Ну, а если взглянуть на эту простую круглую Звезду, на эту Землю не с самолета, не с небоскреба, не с Эйфелевой башни, не с бухарского минарета, не с останкинского «Седьмого неба»,– что можно увидеть еще, чтоб, говоря его же словами, «возвысить степь, не унижая горы»? И – мне это не кажется, а так оно и есть, мой друг Олжас отвечает:
Смотри,
Памирские седые яки
Уходят на Чукотку по горам.
Так говорит он, как будто бы мы стоим с ним рядом из кручах этих гор, куда я мечтал взойти еще подростком, и смотрим оттуда и в степи, в сторону Кургальджина, превратившегося в Кургальджино, в сторону Сибири, где когда-то на базарных площадях снежно-пыльного города Омбы, то есть Омска, я впервые спознался с родичами Олжаса.
Смотри,
Памирские седые яки
Уходят на Чукотку по горам…
…Они, сутулые, прошли Алтаем,
Не торопясь к Саянскому хребту,
О, страсть – не суета, не понимаем,
Как далеко мы ищем красоту.
Это он говорит некой необыкновенной женщине, чье лицо сияет матово: «Сияет матово лицо в углу!» И снова восклицает:
Нет, эта женщина не из ребра,
Сибирская она– из серебра!
Но если Олжасу при взгляде на прекрасное женское лицо вспоминается библейская, сотворенная из Адамова ребра Ева, и блоковское (помните, то самое: «твое лицо в простой оправе»), то в моем воображении при этих словах Олжаса возникает иной, воплощающий все ту же вечную женственность образ: Айналайн. Айналайн – будь она кареглазой или голубоокой, но она и есть именно та Айналайн, о которой поведать можно лишь в непересказуемой никакими другими словами песне:
Кружись, айналайн, Земля моя!
Как никто,
я сегодня тебя понимаю,
все болезни твои
на себя принимаю.
Я кочую, кружусь по дорогам
твоим…
Л. МАРТЫНОВ
ЗЕМЛЯ, ПОКЛОНИСЬ ЧЕЛОВЕКУ
поэма
Посвящается Ю.А. Гагарину
…Разгадай:
Почему люди тянутся к звездам!
Почему в наших песнях
Герой – это сокол?
Почему все прекрасное,
Что он создал,
Человек, помолчав,
Называет – Высоким?
Реки вспаивают поля,
Города над рекой —
В заре,
И, как сердце, летит Земля,
Перевитая жилами рек.
Нелегко проложить пути
До вчерашних туманных звезд,
Но трудней на земле найти
Путь,
Что в сердце своем пронес,
Что рекою прошел по земле,
Что навеки связал города,
Что лучом бушевал во мгле,
Освещая твои года.
Нелегко,
Но ты должен найти
Путь,
Что в сердце до звезд
Донес,
Путь земной – продолженье пути
До сегодняшних ярких звезд…
I
Хорошо в теплом небе
апрельскою ранью,
Хороши облака.
Вид у неба хорош,
Но представишь нечаянно
глушь мирозданья,
Бесконечность
И скроешь улыбкою дрожь.
Говорю о себе:
Вот летишь в самолете,
Гул мотора привычен,
И скорость обычна,
Вы, я вижу,
Вполголоса песню поете,
Не устали – пропойте вторично.
Просто так, от безделья,
Чтоб в сон не клонило.
Вдруг
Пилот объявляет,
И вы встаете,
Вы еще по инерции слабо поете,
Самолет задирает железное рыло
И уходит в вираж.
Над огнями костров
Вы проходите к люку,
Гул моторов тревожен,
И чехол на спине
Полон жиденьких строп,
В этот миг все становится
Сразу дороже:
И уют мягких кресел,
И комнатный свет.
В этот миг вспоминается все,
Что забыто,
Вся никчемность привычно
отсчитанных лет,
Миг порою становится
ярким событьем.
Забываются дни,
Позабыты года,
Век проходит по редким ступеням волненья,
Страх – ударом —
И счастье – вспышкою —
Никогда
Не забудете вы,
Несмотря ни на чьи повеленья.
Вы подходите к люку.
Бездонная жуткая темь,
Только звезды костров
Обличают далекую Землю,
Вас торопят,
Вы первый.
«О нет, разрешите – за тем…»
Что ж,
Тогда отойдите,
Я первым бездонность приемлю!
Гул меня подхватил!
Ночь меня обожгла!
Только тяжесть моя —
верный ориентир.
Я лечу,
Моим телом разрежена мгла,
Кувырком приближается
Мир.
Хлопнул взрывом высокий тугой парашют,
Взвились,
Замерли тонкие стропы.
Тишина,
Я один!
Хохочу! Хорошо!
Я пою!
Не боюсь катастрофы!
Я уверен теперь,
Там, конечно,
Земля!
Та, которая может людей изумлять!
Я смягчил тяготение к ней парашютом,
И ее в темноте
Сапогами нащупал,
Я спустился на луг…
Человек над Землей!
Выше сил знаменитого притяженья,
Понимаю тебя, дорогой,
Дорогой!
Век приходит в мгновенья
великих волнений!
Первый век начинался тогда, дорогой,
Когда пращур отнял от земли
свои руки
И поднял в удивлении над головой
Свои теплые-теплые
Тяжкие-тяжкие руки.
Это было победой.
А ты оторвал от земли,
От родной,
От зеленой -
Историю человека,
Осветил ее пламенем
Тайны космической мглы.
Это стало началом
Второго
Великого
Века.
…Улыбнулся.
Прощально рукою махнул,
И сигнальный огонь
поднимают
На старте,
Полной грудью
ты воздух апрельский
вдохнул.
Миг!—
И воздух остался
Синеть на карте.
На экране – Земля,
На экране – Земля,
То ли дымом повитая,
То ли туманом,
На пустом полигоне
Молчали друзья;
Кто-то тихо сказал,
Побледнев:
«А не рано?»
Да, товарищ,
Я знаю,
и мне не легко,
За него и за Валю,
За всех, кто привязан
К этой жизни,
И кто от нее – далеко,
Далеко-далеко.
Должен быть.
Он обязан.
Жесткий воинский долг —
Отказаться от слез.
Помнишь, так навсегда уходили
в разведку,
Ранним утром,
При свете погашенных звезд,
Отводя от лица
осторожную ветку.
Диски – полны огня,
И кинжал под рукой.
Помнишь, мы проползали под светом
ракеты,
Помнишь,
мы прорывались
сквозь вражьи пикеты,
Очень рано в разведку
Мы шли, дорогой.
А за нами в окопах
молчала страна,
Затаившись
в предчувствии наступленья,
Мы ползли
(А в руках рукоятки гранат).
Под колючими звездами оцепленья
Мы ползли,
как по карте космических трасс,
Вся страна,
Целый мир,
Ждут сигнала к атаке,
Он проходы
разведает для нас
В колючем,
Туманном
Космическом мраке.
II
Я влюблен в Красоту.
Я мечтал о ней сотни веков,
Пришивался к кресту,
Возноси и сносил богов.
Я создал эти реки
И ветер швырнул в моря,
Ты, Земля,
Поклонись Человеку,
Твой бог —
Я.
Первый век – предыстория
Век осмысленья дорог,
Век вихрастых тропинок,
Отчаянья, счастья, тревог,
Век прекрасный мечей,
До конца не узнавших, ножон,
Пораженья приказов,
Виктории светлых строк.
Метеорит граненый.
Пущенный из пращи,
Скорость орла бросает
В небо,
Словно стрелу.
Ветер над потными крупами
Крутит плащи.
Выстрел! И перья!
Земля подлетает к орлу.
Кони со скоростью смерти
Идут над побитой Землей,
Там, где угаснет скорость,
Будет последний бой.
Скорость,
Вправленная в зазубренный
гнутый меч.
Гасит наотмашь все,
Что должно попечь.
Все, что в траве горячей,
Выльет предсмертный вой,
Кони зайдутся плачем
И пролетят над тобой.
Все погибает с громом,
Словно разряд грозовой,
Все —
Это ты,
прадед
Широкоплечий мой.
Небо веселое манит
Твой первобытный взгляд.
Звезды лохматые злобно
Над головой горят.
Луны глядят,
Как бешено
Вертится шар земной,
Брось,
Не молись, прадед ;
Широкоплечий мой.
…Тонет
В Бискайском заливе
Корабль.
Шлюпки разбиты.
Бискайя!
Бискайя!
Мужчины любили
пиво и крабов.
В проломы била
Вода морская.
Мужчины любили
зеленый-берег,
Любили шутку
И жен любили…
Сегодня,
Двенадцатого апреля,
Волны бискайские
Судно топили.
В радиорубке
пьяный радист
Пьет капитанский
резервный ром,
С жутким эфиром —
один на один,
Плача, стучит и стучит —
«Прием!..»
В наушниках
дробный, веселый гам.
Колются
звонкие иглы морзянки.
Слушайте…
Слушайте!
Слу-у-шайте!
Там!
Там – во всем мире,
Ударили в склянки!
Там говорят:
Человек над Землей!
Выше сил
знаменитого протяженья.
Он, наверное, добрый
и страшно злой,
Если выиграл,
Выиграл это сражение!
Крики морзянки
в эфире звенят,
Радист
Трезвонит,
Стучит, полупьяный!..
Исчезают морщины ущелий.
Глядят
В белый след
Штормовые глаза океанов.
…Что из прошлого видел я,
Кроме музейных палат,
Где под мертвыми стеклами
Мирно пылятся кинжалы,
Золотые погоны с халатами рядом лежат.
Сохи, четки янтарные, брошки
и прочая жалость.
Под ногами асфальт,
Как истоптанный вечный такыр,
От газонов несет ароматом
Горячим, как выдох.
Две монеты за вход
В позабытый неведомый мир,
А какими лишеньями
люди платили за выход!
Было все, как всегда.
Было крупно.
Летели года,
В диком грохоте времени
Гасли внезапные вскрики.
Мы спешили уйти
От веков
Навсегда, навсегда.
Дни мелькали на лицах,
Как летние знойные блики.
Новый стиль календарный
Был принят полвека тому.
На сто лет позади шел Восток
По следам машин,
Мы со скоростью света
Земную прорезали тьму
От тележных колес
До метровых зиловских шин.
От лаптей – до скафандров,
От юрт – до высотных домов,
До 500 миллиардов
От дымных сосновых лучин,
От ликбезов —
До Ленинки в три миллиона томов.
Мы за это платили дивизиями мужчин.
Голодали наркомы, ночами листая букварь,
Продолжением Маркса явилась для нас
арифметика,
Не свернули с пути,
У мартена
встал сталевар,
Поглядела на наши невзгоды
С усмешкой Америка.
Только годы прошли,
Беспокойные, яркие дни,
Дал могучий ствол
Не сожженный снегами росток,
Сколько книг сохранила Земля!
Ненаписанных книг,
Для тебя, мой Восток!
Серебристый корабль —
«Восток».
Пронесутся года
Над раскрашенной жаркой Землей,
За лохматые книги засядут спокойные
люди,
О, поверят они,
как я падал, вставал с тобой,
Первый Век
Торопливых, суровых, отчаянных буден.
Потому бездушное небо манит меня,
Каждый миг наступает пора тишине
изменять,
Все оставлю —
Траву и могильные плиты
На плоской земле.
Ах,
Как хочется взять
в полет
Боевого коня!
Скорость! Скорость! И скорость!—
Всегда сокращает путь.
Кто в пути,
Кто спешит,
Тот услышит гудение крови,
Человек на скаку
Хочет крыльями с силой взмахнуть
И лететь, распластав на лице
Соколиные брови;
И смеяться над бездной,
И верить в правдивость цветов,
В повороты крутые,
И – в ярость весеннего неба,
Мы создали себя
Обобщением боли веков,
Мы коснемся губами полей,
Где никто до нас
Не был.
Свет земли,
Словно память моя,
Полетит наравне,
Только крупное зримо
В стремительном нашем полете.
Я по старой привычке
качнул бы родной стороне
Плоскостями,
Но крыльев не видно
На звездолете…
III
Я люблю тебя, жизнь,
За весну,
И за страх,
И за ярость.
Я люблю тебя, жизнь,
И за крупное,
И за малость,
За свободу движений,
За скованность
И за риск.
Я люблю тебя, жизнь,
За соленость каспийских брызг.
Человек состоит из белков
И какой-то души,
И белки нас подводят,
И души порою подводят,
Мы бываем тогда по-серьезному
Хороши,
Когда мы остаемся
На целой планете —
Двое.
Я люблю тебя, жизнь.
За сладость и верность разлук,
Я люблю тебя, жизнь,
За женственность Валиных рук,
Я люблю тебя, жизнь,
За грубую ласку ребят.
Я рискую тобой
От имени наших солдат.
Все влюбленные, Валя,
Извечно на звезды глядят,
И мы тоже,
Странно —
Все звезды как будто летят.
Жены летчиков, Валя,
Не спрашивают —
«Когда?»
Сколько летчиков, Валя,
Почувствуют в небе
взгляд.
И, качнув плоскостями,
По адресу передадут,
Много в небе апрельском
путей,
Лишь гагаринский крут.
Так в холмистой степи
Вдруг взмывает гранитный пик,
И орел, не достигнув,
Опишет почетный круг.
Да.
Любовь.
Он любим. Он уверен. Спокоен.
За него чье-то сердце
Болит.
Отбирали сурово:
Любим – достоин.
Про Валю расспрашивал замполит.
Матерью —
степь
мы называем,
Девушкой —
мы скакуна называем,
Мы —
Все, что дорого, величаем
Твоим
именем,
Женщина.
Родина – женщина,
История – женщина,
Честь,
Отвага,
Поэзия – женщина.
Художник свободу рисует – женщиной,
Трава, лужайке, погода – женщина.
Небо – наполовину женственно,
Даже мужественность
Моя.
Может быть,
поэтому женщины
У мужских изголовий стоят.
Даже грусть и метель —
Женщина.
Слава, смерть и тревога —
Женщина.
Я люблю тебя, жизнь,
Беспокойная жизнь,
Потому, что ты —
Верная женщина.
…Исчезают морщины ущелий.
Глядят
В белый след голубые глаза океанов,
Так орлы от земли,
Не прощаясь, летят,
Я гляжу тебе вслед
Из степей Казахстана.
Средь невидимых звезд
Ты летишь в тишине,
Мало кто не заметил
Твое отправленье,
Гордость – дочкам оставил,
Тревогу – жене,
Мне – поэту земному —
Свое вдохновенье.
Только мужество взял.
Только веру
И долг,
Только карты
Земли и космической трассы.
С высоты
шар земной,
Как
клубок
дорог
Зеленых, синих
И красных.
Ниже, ниже хребты
И сосновые купы,
Он взлетел, чтоб увидеть концы
Дорог,
Чтоб видеть квадраты.
Округлость
И Кубу,
Плывущую медленно на восток.
Видеть вспышки восстаний,
Пятиконечность
сухой, зеленой
багровой суши,
Слушать историю,
Ну и, конечно,
Вести далекой родины слушать:
«В Леопольдвиле белые каски…
Падает раненый в скалах Атласа…
На мостовую упал Кейптаун…
Слет пионеров у Алатау…
Негры, индейцы, арабы с пеньем
Стали на тропы,
Сжимая приклады…
В Белом доме
Забрызганы стены…
Черные флаги в древней Элладе…»
Парень,
Тебе с высоты виднее,
Ты пролетаешь под яркими звездами,
Скажи нам:
Добьется свободы Гвинея?
Будут ли годы Второго Века
Такими же
Грозными?..
Первый Век!
Мы подводим сегодня итог
Всему сделанному
И виденному,
На плечах мускулистых
Поднялся «Восток»,
Он стоит,
Он летит над обыденным.
Он летит над прошедшими,
Так довелось,
Он прошел над рябым океаном
Парадом,
Все увидел —
Сказания отблесков звезд
И фантастику
пестрых бензиновых
Радуг.
Голубые экраны
сумеют хранить
Все,
что приволокли
С континентов притоки—
Золотинки,
Измолотый веком гранит,
Киловатты
Еще не открытого тока.
…Чтобы высчитать скорость
Полета мечты,
Человек научился считать в биллионах.
Триллионы мгновений
Свистели мечи,
По земле миллионы прошли
Легионов.
Сто миллионов кудрявых рабов.
Сколько бомб?
Сколько рвов?
И ударов плети?
Высчитать,
Высчитать скорость мечты
Нам помогли
Расчеты столетий.
Вот они – Лондоны и Парижи,
Вот они – медленные Мадриды,
Вот они – Бонны,
Безгубые,
Рыжие,
Мир, наотмашь разрубленный стритами.
Вот они —
Длинные материки,
Следы джентльменских острых сапог,
Червяк Миссисипи – мощной реки,
Запад – внизу,
Сверху – «Восток».
IV
Реки вспаивают поля.
Города над рекой – в заре.
И, как сердце, летит Земля,
Перевитая жилами рек.
Нелегко,
Но обязан найти
Все ответы на тот в опрос,
Путь земной —
Продолженье пути
До сегодняшних близких звезд.
Что за путь?
Это долгий тяжелый путь,
Это жизнь,
И твоя и чужая – наша.
Первый век —
Время поисков,
Не забудь,
Как поиск порою
бывает
Страшен.
Пепел поисков истины,
Стебли цветов —
Позади,
На дорогах, открытых по звездам,
Человек создает и богов
И врагов,
А в конце человек
Человечество создал.
Что за путь?
Это долгий стремительный путь,
Это жизнь, молодая, горячая —
Наша!
Я прошу:
Человечество, не забудь,
Что ты стало сегодня
Значительно старше.
Мир,
Земля,
Шар земной —
Сочетание слов,
Сочетанье народов,
Мечей
И судеб,
Сколько твердых копыт
Над тобой пронесло!
Все пустыни твои
Нас, безжалостных, судят.
Мы – железные карлы, топтали тебя,
Мы – батыры Чингиза, дошли до Двуречья,
Мы – великие воины, шли по степям
И с тобой говорили на страшном наречьи.
Мы разрушили Рим,
Мы убили Тараз,
Мы бесчестили белых и желтых красавиц.
Мы смотрели на мир
Сквозь бойницы глаз,
Наши руки при встречах —
В ударах касались.
Гунны, монголы!
Кипчаки и персы!
Лязг крестоносцев!
Столетние войны!
Падали флаги
древних культур.
Волны – с Востока,
С Запада – волны,
Что океаны в сравнении
с этим потоком?
Танками Запада
Хлеб на Востоке потоптан.
Трупы арийцев
на тучных восточных полях,
Братской могилой
служила Земля.
Гибли не те,
Что придумали землеразделы,
Ты за других подставляешь огромное тело
Под пулеметы,
Понявшие сладость свинца.
Брат
За чужое дело отдал отца.
Черный и белый конь —
Бросают черные тени,
Кони атак и погонь —
В одной ярко-белой пене,
Северный полюс Земли
И Южный —
В одних снегах.
Как разделить огонь?
Тени раскрасить
Как?
Я рожден в стороне,
Где живут воедино
Все части света,—
Есть и Запад,
Восток и Север
В стране поэтов,
Есть края, где не знают
Обычных сибирских морозов.
Есть края, где не знают
Аральского знойного лета.
Где
Другие границы
Между частями света?
Океаны не покидают Землю,
Они верят,
Солнце
Сердцем бьется в земле,
Оно верит,
Мы сами
себя для жизни растим,
Мы ведь тоже верим,
что:
Нет Востока,
И Запада нет,
Нет у неба конца.
Нет Востока,
И Запада нет.
Два сына есть у отца,
Нет Востока,
И Запада нет,
Есть
Восход и закат,
Есть большое слово —
ЗЕМЛЯ!
Большое на всех: языках.
Нет Батыев,
Наполеонов,
Есть
Циолковские
И Эйнштейны,
Нет —дивизий,
Есть – миллионы,
Есть – победы,
И нет – ничейных.
Потому что:
Где-то смерть называют
Гордостью,
Смерть на свободе,
Смерть за свободу.
Где-то жизнь называют
Горестью,
Где-то веру
кроют
при боге.
Значит, звезды
еще образуются,
Значит, искры
еще возгораются,
Если где-то
глаза – амбразурами
Наши
Скорости ускоряются.
Значит, песня
еще не окончена,
Где-то мысли —
в разрез
с-судьбой,
Много вспышек
было отсрочено,
Значит,
Где-то последний бой.
Значит,
Где-то идет борьба
С чугунным
веков притяженьем,
Где-то легкое званье раба
Возвращают назад
С пораженьем.
Жизнь идет!
Беспокойная жизнь!
Под ногами тропинки рвутся,
Я люблю тебя,
Гордая жизнь,
Потому что
Ты – революция!
Люди!
Граждане всей вселенной!
Гости галактик!
Хозяева Шара!
Вы не хотите
пропасть бесследно!
Живите,
Живите,
Живите с жаром!
Живите, люди!
Живите, люди.
Вы совершили свой первый подвиг,
Преодолели земную тягость,
Чтобы потомки это запомнили —
Преодолейте земные тяжбы!
Реки, вспаивайте поля!
Города,
вставайте в заре!
Пусть, как сердце, летит Земля,
Перевитая жилами рек!
Мы найдем,
Мы должны найти
Все ответы на тот вопрос.
Путь земной – …
Продолженье пути
До сегодняшних
Взятых звезд.
V
Хорошо в синем небе
апрельскою ранью.
Хороши облака,
Вид у неба – хорош,
А представишь на час
Иль на два —
Мирозданье…
И потянет на шарик,
На клевер и рожь.
Говорю о себе.
Вот лечу в звездолете.
И нагрузка – привычна.
И по радио – вы торопливо поете,
Слышится, чувствуется – отлично.
Дан сигнал – приземляться,
Родные мои!
Вы с такою тревогой
Приказ отдаете.
Эх, да что там от вас таить,
От страха ли плачут порой в звездолете!..
Я верю!
Фантастам, поэтам, ученым.
Я верю!
Слезам и холодным расчетам.
Я в десять утра, по-московскому,
Черным
увидел небо.
Пошли вы к черту,
Тревожные мысли!
Спокойней.
Спокойней.
Мне надо вернуться.
Рычаг торможения.
И две рукоятки,
Как две ладони
мужские,
Впаялись в пальцы.
Снижение.
Гул меня подхватил,
Развернул,
Раскрутил,
Только тяжесть моя —
верный
ориентир,
Мягкий воздух высот
я собой-разредил,
Кувырком
На пилота обрушился мир.
Хлопнул взрывом
тугой : парашют,
Взвились, замерли
Белые стропы.
Тишина.
Я один.
Хорошо! Хохочу! Я пою!
Не боюсь катастрофы!
Я уверен!
Я прав!
Вот, смотрите – Земля!
Та – с которой
взлетел!
Та – которую
щупал
Сапогами,
Губами,
Смотрите —
Земля!
Я смягчил тяготение к ней
Парашютом.
И спустился на луг.
Человек на Земле!
В сфере сил дорогого навек
притяженья.
Я вернулся с победой
К любимой Земле,
Потерпевшей счастливое пораженье.
Я упал в траву…
Сбросил шлем…
Горьковатый цветочный сок…
Погоди,
Я чехол парашютный сорву,
Пригляжусь
И узнаю тебя,
цветок.
Ну-ка, дай лепестки…
Эх, родная земля,
Мы живем,
Мы торопимся,
не замечая,
Что земные луга
Нас выходят встречать
Стебельками забытого
Иван-чая.
Может, этот Иван
Тоже был вдалеке,
И, вернувшись на берег,
Стоял,
качаясь,
И упал на траву,
А в огромной руке
Был зажат, словно жизнь,
Стебелек Иван-чая.
Ты, Земля,
Для меня припасла
Самый светлый
из дней,
Белый женский платок
Промелькнул
Между тонких берез:
– Кто ты, парень?
– Советский. Зовите людей.
– Ой, сейчас! Ты откуда летел-то?
– От самых звезд!
Ты, Земля,
Меня женщиной встретила
Молодой,
Смуглолицей, как Валя,
Скорее увидеться с ней бы!
Вот
Луга, покачавшись,
Легли под ногами
Тропой,
Продолжением той,
Что еще не остыла в небе…
VI
Мир жил предчувствием.
Мир знал – это свершится,
Но даже самая верная победа – всегда
неожиданна.
Сделана тысяча вдохновенных мазков,
И вдруг последний придает картине
Высочайшую глубину и осмысленность.
Художник ждал
последнего мазка —
Распахнуты настежь
в эфире
шлюзы:
Внимание!
Говорит Москва!
Работают все радиостанции
Советского Союза!»
Дрогнул голос железного диктора:
«Новорожденный мальчик в Афинах
В честь Гагарина
назван – Юрой,
Девочка в Токио —
Валентиной…»
Пишут в редакции пенсионеры,
Пишут рабочие, и пионеры.
И инженеры,
Даже мулла,
Разочарованный в божеской вере.
Сегодня
Качают растерянных летчиков,
Сегодня —
Двенадцатого апреля.
Поэты,
забыв о березовых почках,
Ломают строчки,
Ломают перья.
…Радио пишет его портрет:
«Широкоплечий…»
Щупаю плечи…
«Молод… курнос…
Двадцать семь лет…»
Ровесник!..
Но разве от этого легче!
«Учился в ремесленном
на отлично…»
Я ведь тоже был в форме «РУ»!
«Жил на Речной…»
А я на Арычной!
«Честен, правдив…»
А я разве
вру!
«Любит книги и оперетту…»
А я и то, и немного —
другое!
«Он не курит»…
И я сигарету
Торопливо топчу ногою.
Я – центральный защитник
в футболе,
Но могу послужить
в нападении,
Я с улыбкой
любые боли
Выношу
От любых падений.
Я отличник по математике,
Заявляю – силен в астрономии,
В общем,
знаю до чертовой матери,
Не откажешь
и в остроумии.
И в вечерней
даю уроки,
На любой отвечу вопрос,
И вдобавок
в плечах широкий,
Невысок,
И, вообще,– курнос.
Словом, я подошел бы
к делу,
Я бы выдержал
центрифугу,
И мое молодое тело
Вдоль Земли
описало бы
круг.
Ну, примите же
Заявление,:
Я согласен,
Могу вторым.
Если надо —
с именем Ленина
Этот подвиг
Мы повторим!..
О, таких
Молодых, зеленых,
Коренастых,
Слегка курносых
На моей земле —
миллионы-
Как подумаешь —
Выше ростом
Станешь.
Сильные и горячие,
Дорогие мои ровесники,
Вы все те же —
В норе не прячете
Свое тело.
Как буревестники,
Вы смелеете
с каждым годом.
Дорогие мои ребята,
Неужели с таким народом
Океан
не осилим —
пятый!
Принимаем
Твое заявление.
Неизвестный,
Один из многих.
Знаем,
Верим —
С именем Ленина
Ты пройдешь
по любой дороге.
Если надо Земле
и Родине,
Если надо
Всему человечеству!..
Над могилами – куст смородины,
Словно память сутулится
вечная…
…На заводе был митинг.
Поднялся седой,
словно снег,
Он негромко сказал:
«Мы горды тобой,
Юрий Гаганов…»
Он ошибся слегка,
Но его не поправили,
Нет —
Он был прав,
И неважно
в фамилии буква какая.
Важно то —
Что взлетел он с площадки
Советской страны,
Важно то —
Что спокойные люди
его провожали,
Важно то —
Что мы все
перед подвигом этим
Равны,
Важно то —
Что все страны
нам искренне
Руку пожали.
«Кто вы!
Кто вы такие!» —
Негромко спросил капитан,
Он-то знал, капитан,
Как людей океаны не любят,
А под нами шатался,
Гремел штормовой океан,
И Зиганшин ответил за всех:
«Мы – советские люди!»
Мы из тех,
Что родились холодной осенней порой,
Нас согрела в далекой дороге
Горячая скорость,
Мы прошли испытанья
И льдом,
И мечом,
И золой.
Раньше всех мы хлебнули сверх меры
И радость,
И горесть.
Посмотри,
Что за сила
К бессмертью тебя привела.
Чабаны, сталевары —
Рабочие новой истории.
Впереди еще будут дела!
И какие дела!
А пока
Поздравляй нас, Гагарин,
С победою!
Здорово!
Все цветы!
Все улыбки
Растроганной милой Земли!
Все плакаты!
Все флаги великих земных восстаний!
Молодые девчата
Тебе, дорогой, принесли!
Ветераны Земли
При твоем появлении
Встали!..
И босой негр на пыльной площади оскорбленного континента слушает, обратив лицо к небу. Он думает о величии человека.








